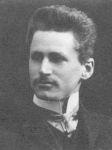Павел Виттенбург: геолог, полярник, узник ГУЛАГА
Павел Виттенбург: геолог, полярник, узник ГУЛАГА
Хисамутдинов А.А. Памяти П.В.Виттенбурга
Памяти П.В. Виттенбурга
В самом центре Владивостока есть Косой переулок, соединяющий две старинные улочки. Время здесь будто бы остановилось. Как и в старину, переулок насквозь продувается пронизывающим ветром, приносящим то морось, то снежные заряды, а то и тайфун, в один миг превращающий узкую мостовую в бушующий поток. Причуды погоды и низкорослые деревья с изогнутыми стволами все так же напоминают прохожим, что они на Дальнем Востоке. Архитектура же соединила невозможное, и в эклектику провинциального модернизма нет-нет да и вплетаются восточные элементы. Так и в характере родившегося здесь известного геолога и ученого Павла Владимировича Виттенбурга совместились дальневосточная закалка, немецкая дотошность и широта русской души.
К радости любителей парадоксов отметим, что учеба во Владивостокской гимназии у будущего профессора шла не очень гладко. Учителя не смогли разглядеть за неуемной энергией и непоседливостью мальчика любознательность и жажду познания, приводивших окружающих в недоумение. Мальчишкой, бегая по полуострову Муравьева-Амурского, Павел Виттенбург заинтересовался геологией. Затем было кругосветное путешествие, жизнь в европейской части России, учеба в Германии. Во Владивосток он вернулся, чтобы провести первые исследования, за что получил и первую в своей жизни награду — премию имени Ф.Ф. Буссе, учрежденную Обществом изучения Амурского края. Эта первая на Дальнем Востоке научно-просветительская организация и выдвинула кандидатуру молодого геолога Виттенбурга на эту награду. Ныне редко какая краеведческая книга в Приморье обходится без упоминания его имени, чьи заслуги отмечены не только в геологии, но и в топонимии Владивостока. На своей геологической карте он оставил имена коллег и тех, кто способствовал его экспедиции в окрестностях Владивостока. Эти географические названия сохраняются и поныне.
В свое время, собирая материалы для книги «Терра инкогнито, или Хроника русских путешествий по Приморью и Дальнему Востоку» мне захотелось рассказать об этом замечательном человеке, а заодно и о тех, в честь кого им были названы мысы, горы и бухты на полуострове Муравьева-Амурского. С этими вопросами я и появился в архиве Русского Географического общества, деятели которого провели немало исследований на далекой окраине России. В тихом переулке Гривцова в Санкт-Петербурге меня не только познакомили с необходимыми документами, но и дали телефон дочери геолога.
Как мне показалось, она не очень удивилась моим вопросам об отце и сразу же предложила встретиться. С этого дня и началась моя дружба с Евгенией
Павловной Виттенбург. Теперь каждый раз, приезжая в город на Неве, я припадаю к этому неиссякаемому источнику интереса к своим корням, оптимизма и молодости души. Те, кто знал ее отца лично или знаком с ним по его книгам или воспоминаниям коллег и учеников, отмечают, что Евгения Виттенбург многое унаследовала от родителей: подлинную интеллигентность и природное очарование, стремление передать другим знания, которыми она располагает. Ее ироничность в оценке фактов рука об руку идет с философским пониманием суеты сует, характерной для нынешнего дня. И все же, Е.П. Виттенбург все эти годы оставалась верна своей памяти об отце. Она сохранила огромное множество фактов и свидетельств о жизни и деятельности Павла Владимировича и готова щедро делиться ими со всеми, кого интересует эта тема. К ней обращаются и те историки, которые пишут о немцах в России (В.И. Гохнадель), и деятели «Мемориала», ну а письма-запросы приходят из всех уголков России, где довелось работать Павлу Владимировичу.
Говорят, что каждый человек способен написать хотя бы одну книгу — о себе самом, но не каждому дано написать книгу о своем Отце и его Деле. Мне посчастливилось проследить весь процесс работы Евгении Павловны над книгой о П.В. Виттенбурге. Конечно, она рождалась не просто. Помню, как однажды, встретившись в Петербурге, мы обсуждали замыслы и идеи Евгении Павловны с энтузиастом истории науки Ф.Ф. Перченком. Работе над рукописью предшествовали многие часы, проведенные в библиотеках и архивах. Она даже совершила поездку во Владивосток, чтобы посмотреть на то место, где родился и вырос ее отец. Доверительный разговор, который ведет Евгения Павловна с читателем на страницах книги, можно сравнить с тем, как у музыканта рождается мелодия. У каждого в душе возникает свой собственный отклик, свои собственные чувства, но вы обязательно проникнитесь духом трагической эпохи не столь уж далекого прошлого и получите заряд для будущего. Так уж сложилось в судьбе П.В. Виттенбурга, что на его долю сполна выпало все, что может быть отмерено в жизни: азарт в достижении научной истины и приговор к расстрелу, почитание учеников и бесправное положение зэка, несколько войн и осознание жизни, без остатка отданной науке. И все это время, в любых обстоятельствах Павла Владимировича окружали любовь и забота близких. Свидетельством этому и является книга его дочери.
Амир Хисамутдинов,
профессор Дальневосточного государственного
технического университета.
16 декабря 2002 г.
Предисловие
Предисловие
Жизнь и деятельность Павла Владимировича Виттенбурга, моего отца, ученого, исследователя Дальнего Востока и Арктики предстали передо мною особенно ярко тогда, когда я приступила к подготовке его архива для передачи в архив Русского Географического общества. Помимо книг и рукописей в моих руках оказалось много разных материалов: научные доклады, переписка с учеными, друзьями и даже с малоизвестными корреспондентами, что дало мне возможность почувствовать необыкновенную силу личности отца и многосторонность его интересов.
Написать об отце книгу меня побудило, с одной стороны, поступающие ко мне запросы о тех или других его работах и фактах его жизни, с другой — большое количество ошибок в публикациях о нем1. Вместе с тем хотелось показать ученого в меняющихся условиях жизни нашего государства, в обстановке семьи и близких ему друзей. Отсюда — разный характер моего изложения: деловая жизнь отца написана по документам, а семейная и общественная по преданиям и собственным воспоминаниям, а также наглядным материалам — семейным фотографиям, сохранившимся за 100 лет. Не будучи геологом, я, конечно, не ставила целью дать исчерпывающую характеристику отца как ученого.
В процессе работы над книгой я использовала как литературу, так и неизвестные ранее архивные материалы, отложившиеся в 19 фондах Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива Военно-морского флота, С.-Петербургского филиала архива Российской Академии наук, Института русской литературы РАН, архива Управления Федеральной службы безопасности по С.-Петербургу и Ленинградской области, Центрального государственного архива г. С.-Петербурга и архивов Русского Географического общества, Музея Арктики и Антарктики, общества изучения Амурского края (Владивосток). Источниками для описания научной деятельности отца послужили также документы
1 Приведу основные: Белов М.И. Советское арктическое мореплавание. 1917—1932 гг. (К истории открытия и освоения Северного морского пути. Т. У) Л., 1959.; Его же. Научное и хозяйственное освоение Советского Севера. 1933—1945 гг. (История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 4). Л., 1969. — Отсутствуют сведения о трех больших экспедициях, время и место других указаны неверно; Мелуа А.И. Геологи и горные инженеры России. М.; СПб., 2000; Его же. Инженеры Санкт-Петербурга. Изд. 2-е дополн. М.; СПб., 1997. — Приводятся ошибочные сведения.
домашнего архива, где находится подробный дневник его Таймырской экспедиции, написанная им автобиография и рукописи его неизданных работ, обширная переписка, воспоминания его сослуживцев. Эти материалы относятся в основном к периоду после освобождения отца из лагеря в 1935 году, тогда как научный архив 1910—1920-х годов полностью пропал в ГПУ при конфискации имущества.
В процессе работы над книгой я получала моральную поддержку своих друзей-историков Е.В. Вернадской, А.А. Хисамутдинова, Н.В. Михайлова, филолога В.С. Сухановой, а также врача-мемуариста В.А. Самсонова, за что им очень признательна. Большую помощь в сборе материала в архиве Академии наук оказала мне Н.С. Прохоренко.
В связи с тем, что Научно-информационный центр общества «Мемориал» предполагал издать мою рукопись в сильно сокращенном виде под названием «Время полярных стран», мне самостоятельно пришлось выпустить в свет небольшим тиражом данное издание — полное и исправленное. В редактировании и подготовке его к печати горячее участие принял Н.В. Михайлов, а также внучки папы Н.Н. Сапрыкина, О.Д. Школьникова и правнучка В.А. Школьникова, за что выражаю им свою благодарность.
Глава I Семейные предания. 1855—1911
Глава I
Семейные предания. 1855—1911
В Петербурге и сегодня проживает немало людей с иностранными фамилиями. В 1920-е годы, во времена моего детства, такие фамилии встречались чаще, но уже тогда их, как правило, носили люди, которые родились в России, считали ее своей родиной и по-русски говорили свободно, без акцента. Таким был и мой отец. Он считал себя русским гражданином, хотя носил немецкую фамилию, а его фамильные корни уходили в Прибалтику, Польшу, Англию, Швецию... Сегодня можно только удивляться тому, как причудливо в генеалогическом древе одной российской семьи пересеклись представители различных культур, национальностей и вероисповеданий.
На первых листах семейного альбома, названного отцом «.Домик в сосновом лесу», старинные фотографии — одни выцвели, другие прекрасно сохранились. На фотографии, датированной 1860 годом, скромная девушка в темном закрытом платье задумчиво смотрит в сторону. Это моя бабушка по папиной линии Мария Тыдельская. Она родилась в 1848 году во Влоцлавске. Ее отец поляк, пастор евангелического вероисповедания Джон Тыдельский, а мать англичанка, урожденная Черч. У Марии был брат, по-видимому, близнец — Вильгельм-Адольф. Он окончил в 1873 году Горный институт в Петербурге, успешно работал горным инженером в Туле и инспектировал горные разработки в разных губерниях страны. О детстве Марии Тыдельской мне ничего не известно.
На той же странице альбома фотография также 1860 года: высокий стройный красивый брюнет с небольшими усиками, рядом сидит другой, помоложе, в пенсне. Оба они в форменных сюртуках — это братья Вольдемар-Карл и Адольф фон Виттенбурги. Родители их были тоже
разной национальности: отец — немец, а мать — шведка. Вольдемар-Карл, мой дедушка, родился в 1840 году в г. Вольмара1 вблизи Риги. О его брате Адольфе никаких сведений не сохранилось.
Вольдемар-Карл воспитывался в частном учебном заведении и окончил в Риге телеграфную школу. Его направили служить в Польшу, где он и познакомился с юной Марией Тыдельской. Молодой телеграфист обладал хорошими знаниями и добросовестностью, что видно из его быстрого продвижения по службе. Вскоре ему доверили заведование телеграфной станцией в Лодзи. В его послужном списке написано: «Во внимание отличной усердной службы, всемилостивейше награжден полугодовым окладом»2. В это же время он получил первый чин — коллежского регистратора.
В 1862—1863 годах в Польше вспыхнуло восстание3. Оно не оставило равнодушным молодого немца. Видимо, слишком велики были его симпатии к полякам. Его участие в восстании было обнаружено с некоторым запозданием, возможно, он не сражался с оружием в руках, а помогал восставшим, задерживая телеграфные депеши. Наказание было суровым: ссылка в Сибирь, лишение дворянства и всех привилегий. По окончании срока ссылки Владимир Иванович (так его стали называть в Сибири) должен был оставаться в тех же краях. В 1870 году он получил назначение в Благовещенск начальником телеграфного отделения. Сильный характер Марии Тыдельской, любовь и преданность толкнули ее на поездку в дальнюю суровую страну к своему избраннику. В Сибири они обвенчались.
Службу Владимир Иванович нес по-прежнему добросовестно, и его заслуги были отмечены орденом Св. Станислава 3-й степени и чином коллежского секретаря за поездку на Амур. В 1877 году его перевели на должность телеграфиста во Владивосток, который в то время представлял собою небольшое селение, только в 1880 году получившее статус города.
1 Ныне г. Вальмиера.
2 Послужной список <...> Карла-Владимира Ивановича Виттенбурга 1-го // РГИА, ф. 1289, оп. 4, д. 757.
3 В 1861 император Александр II дал Польше самоуправление, собственный суд и право обучения в школах на родном языке. Эти меры польским патриотам показались недостаточными, они требовали независимости Польши в границах 1772 года, союз со славянскими странами, передачу земли в собственность крестьянам, отмены сословных привилегий, гражданского равенства всем жителям страны без различия языка, национальности и религии. В сентябре 1862 ЦНК (Центральный национальный комитет) объявил себя национальным правительством, создал свой аппарат, тайную полицию, во всех воеводствах назначил начальников и комиссаров. К лету 1864 восстание было подавлено царскими войсками с большой жестокостью. Поляки потеряли более 30 тысяч убитыми, казненными и высланными в Сибирь.
Уссурийские тигры не раз появлялись на его улицах, как отмечали современники4. Виттенбурги обосновались на окраине в маленьком деревянном домике на Косой улице. У четы Виттенбургов родилось в Сибири девять детей — пять девочек и четыре мальчика. Жили очень скромно, кроватей на всех не хватало: подросшие мальчики спали в одной из комнат на полу, но зато каждый имел свое постельное белье.
Дети были предоставлены в основном самим себе, так как у Марии Ивановны было много забот по дому. Старшие дочери и сын Сергей учились в гимназиях, а младшие бегали по окрестностям и шалили. Не раз Марии Ивановне приходилось их строго наказывать, иногда даже и розгами. Отец семейства очевидно обладал мягким характером и наказывать детей не мог. Часто и мой отец попадал под тяжелую руку матери, уважал ее, но решил, что своих детей розгами никогда учить не будет, так как этот метод воспитания отдаляет ребенка от родителей.
Однажды к ним во двор забежал бурый медвежонок. Мальчики загнали его под навес сарая, накинули на него аркан. Удалось продать его в зоологический сад Шанхая, на вырученные 10 рублей купили малокалиберное ружье «Монтекристо». С этим ружьем ходили в лес стрелять бурундуков и других мелких животных, препарировать которых их научил французский натуралист Бонхов. В составе французской экспедиции он собирал естественнонаучный материал для Парижской международной выставки 1900 года. Таким образом, молодые натуралисты помогли в создании небольшой коллекции фауны Уссурийского края.
В 1884 году Владимир Иванович принял участие в основании первого на дальнем Востоке научно-просветительного общества — Общества изучения Амурского края5, которое успешно действует и поныне. В этот же год Мария Ивановна принесла восьмого ребенка — моего отца Пауля-Людвига.
Зимою этого года семью постигло большое несчастье — Владимира Ивановича отстранили от должности. Он имел поручение следить за строительством телеграфной линии Благовещенск—Шанхай. Произошла растрата казенных денег. Будучи человеком доверчивым, Владимир Иванович в расходах положился на десятника, а тот оказался нечист на руку. Обвинение пало на Владимира Ивановича, для него это явилось большим ударом. Лишь в Петербурге можно было доказать свою невиновность, но он не имел права выехать из Сибири.
4 Владивосток. Штрихи к портрету. Владивосток, 1985. С. 38.
5 Общество изучения Амурского края основано во Владивостоке 18.04.1884 представителями местной интеллигенции. В настоящее время Общество изучения Амурского края — Приморский филиал Русского Географического общества.
Так как нужны были средства на содержание семьи, Владимир Иванович попробовал заняться совершенно не свойственным его натуре делом — открыть омнибусное движение в городе:
«В конце марта 1885 года горожане были поражены новым видом транспорта. На улице появился омнибус. Карета, запряженная парой лошадей, тащилась на подъем медленно, но она все же надежно развозила пассажиров. Это новшество ввел Виттенбург. Пара карет, пущенных им в работу, обеспечила хозяину в первый же день 40 рублей валовой выручки. За проезд надо было платить 15 коп. Но, к сожалению, хотя новый вид транспорта и понравился нашей публике, Виттенбург вынужден был отказаться от этой коммерции. Пара лошадей с трудом затаскивала карету на крутые подъемы, нужна была третья лошадь, а это сводило на нет всю прибыль предприятия»6.
Дело не удалось.
Осенью 1885 года Мария Ивановна, несмотря на то что была на сносях, решила ехать в Петербург хлопотать за мужа. Предание о героической поездке моей бабушки передавалось в нашей семье из поколения в поколение. Она потеплей оделась, взяла пистолет и санным путем отправилась в столицу. В дороге у нее родился сын Александр. Она продолжала путь, держа в одной руке младенца, в другой пистолет. Дорога заняла два месяца. В Петербурге ей удалось доказать невиновность мужа. Вернулась домой благополучно с высочайшим помилованием и со здоровым сыном. Владимир Иванович вновь получил свою должность в почтово-телеграфном ведомстве. Однако ему следовало компенсировать растрату в размере 1080 рублей из суммы, выплаченной ему за время отстранения от должности.
Вероятно в это время Мария Ивановна каким-то образом нашла возможность приобрести в Хабаровске или Благовещенске доходный дом, квартиры которого сдавались внаем. Доход от этого дома поддерживал бюджет семьи и в дальнейшем помог получить мальчикам высшее образование. Вскоре Владимир Иванович заболел туберкулезом легких и в 1895 году скончался. В городской газете было помещено извещение: «15 марта происходили похороны умершего старожила края, почтово-телеграфного чиновника В.И. Виттенбурга; гроб сопровождали сослуживцы покойного и многочисленная публика, в числе которой были все служащие Датского телеграфа. На гроб был возложен металлический венок "От сослуживцев"»7.
6 Владивосток. Штрихи к портрету. Владивосток, 1985. С. 66.
7 Владивосток. Хроника 1895. 19 марта. № 1207.
В мае того же года Мария Ивановна получила право на жительство во всех городах и селениях Российской империи.
О жизни братьев и сестер моего отца у меня очень неполные сведения.
Старшая сестра отца Елена (рождения 1871 года) во Владивостоке окончила гимназию, приобрела специальность телеграфиста и некоторое время работала. В 1890 году вышла замуж за телеграфиста Датской телеграфной компании Гуйдо-Эрнеста Шуман-Делакроа. Вскоре супруги уехали в Либаву, где муж получил место телеграфиста в той же компании.
Старший брат Сергей окончил в Санкт-Петербурге Военно-медицинскую академию и связал свою жизнь со службой на Российском флоте. Участвовал в нескольких морских сражениях, в том числе в Цусимском. Корабль, на котором служил Сергей, был взорван японцами. С тонущего корабля его спасли японцы и взяли в плен. После освобождения из плена в 1905 году Сергей был переведен на Балтийский флот и служил в Кронштадте. Он плавал старшим судовым врачом на многих судах: на эскадренном броненосце «Император Николай I», линкоре «Цесаревич» и других, совершая внутренние и заграничные плавания.
Еще во Владивостоке в 1899 году Сергей женился на дочери покойного контр-адмирала Александра Армфельта — Фриде. В 1903 году у них родился сын Вильгельм-Александр. И Фрида и сын через несколько лет умерли. Сергей женился на сестре Фриды — Карин — вдове чиновника министерства финансов Леонтия Бородовского. Дочь Карин — Ольгу (рождения 1897 года) он удочерил.
В списке личного состава судов флота за 1914 год значится: «Фон Виттенбург Сергей Карлович. Лекарь. Ст. врач 1-го Балтийского флотского экипажа. Род. 18.11.1872, Еванг. - Лют. женат, 1 дочь. В службе с 1897 г. Коллежский советник (30.ХI.1908)...»8 Там же перечислены его награды: Орден Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 2-й степени и 6 медалей, в том числе Черногорская медаль «За храбрость», В Первую мировую войну Сергей служил в Гельсингфорсе главным доктором русского морского госпиталя, имея чин статского советника. Затем был назначен флагманским врачом второй бригады линейных кораблей Балтийского флота9. Когда Юденич наступал на Петроград в 1919—1920 году, Сергей был врачом походного госпиталя. Умер он 25 января 1921 года в Эстонии от какой-то инфекционной болезни, похоронен на кладбище Куремяки
8 Список личного состава флота, строевых и административных учреждений Морского ведомства. СПб., 1914.
9 Список личного состава флота. СПб., 1917 // РГАВМФ., ф. 249, оп. 1, д. 106, л. 96.
в Ракверском районе волости Иллука. Ольга, дочь Карин, жила в Шотландии и работала медицинской сестрой.
После Сергея родились три девочки: 1873 — Виктория (дома ее звали Тозой), после революции она вместе с мужем Эрнстом Блинком, возможно, уехала в Финляндию; 1877 — Елизавета-Мария (Лиза). Она была особенно красива. Умерла 6 мая 1912 года в туберкулезном санатории Шнберг (Швейцария); 1879 — Каролина-Луиза (Кеда). Окончила гимназию во Владивостоке, вышла замуж за Фридриха Мейсселя, кандидата прав. У них в 1905 году родились две девочки-близнецы Марго и Ира. Фридрих рано умер. Кеда умерла во Владивостоке 17 мая 1920 года от воспаления легких. Ее девочки остались совсем одни. Об их дальнейшей судьбе будет сказано в другой главе; и, наконец, 1880 — Ванда. Во Владивостоке после окончания гимназии в 1910 году она вышла замуж за Константина-Акселя-Рафаэля Армфельта, сына лейтенанта Сибирского флотского экипажа Густава-Феодора Армфельта. В 1912 году Акселя перевели в Або (Турку), где он возглавлял лоцманскую службу. У них родились сыновья: Аксель в 1911 году и Эрик в 1914 году. О дальнейшей судьбе семьи Ванды напишу в главе, относящейся к 1926 году.
В 1882 году появился на свет Вильям-Богомил (Виля). Окончив гимназию во Владивостоке, поступил в Томский университет на медицинский факультет. За участие в студенческих волнениях он до 1910 года находился под надзором полиции. В 1904 году Виля перевелся на медицинский факультет Киевского университета. По окончании университета женился на курсистке ярославских Демидовских курсов Нине Александровне Дуссет. В 1915 году у них родился единственный сын Владимир. Виля, или Вильгельм Владимирович, как его стали звать, специализировался в области акушерства и гинекологии, достиг ученой степени доктора наук и звания профессора, был ведущим гинекологом Украины. Об этой семье более подробно будет сказано в седьмой главе.
Об Александре-Михаиле мне ничего не известно, видимо, он умер в детстве.
После смерти мужа Мария Ивановна какое-то время оставалась во Владивостоке. Когда дети подросли и разлетелись в разные края, она, по-видимому, посетила Европу. Сохранилась ее фотография, снятая в ателье в городе Галле в Германии. В кресле, держась прямо, сидит пожилая дама с четкими прямыми чертами лица. Седые волосы убраны в высокую прическу, взгляд немного снисходителен. Лицо и осанка несут на себе черты значительности и душевной силы.
Последние годы ее жизни прошли в Киеве в семье сына Вильгельма. Ее могила сохранилась и сейчас. На памятнике надпись на немецком языке: «Hier ruhet sanft in Frieden Marie v. Wittenburg, geb. Tydelsky. Geb. 1848, den 2 Juli, Gest. 1920 den 8 Mai. Die Dankbaren Kinder». («Здесь покоится в мире Мария ф. Виттенбург, урожд. Тыдельская. Род. 1848, июля, ум. 1920, 8 мая. Благодарные дети».)
Пауль-Людвиг, мой отец родился 9 февраля 1884 года восьмым ребенком в семье. Из-за отстранения от службы Владимира Ивановича, отъезда Марии Ивановны в Петербург крестить мальчика повели, когда ему было почти два года. Крестил его пастор Август Румпетер — евангелическо-лютеранский дивизионный проповедник Амурской и Приморской областей. Восприемниками от купели были сестра Елена (Эля) и доктор медицины Людвиг Бирк.
Мальчик рос большим шалуном. Ему не раз попадало от матери за разные проделки, его даже привязывали к столбу у крыльца. В гимназию поступил восьми лет. Позже он вспоминал: «Старанием и поведением не отличался, и из третьего класса был исключен «за нерадение к наукам», как было сказано в кондуите»10. В то время другой мужской гимназии во Владивостоке не было, и Мария Ивановна решила отправить Павла к своей замужней дочери Елене Делакроа (Эле), которая жила в Либаве. Железная дорога к тому времени доведена была только от Москвы до Иркутска. Регулярное сообщение с Россией поддерживалось судами Добровольного флота, курсировавшими между Владивостоком и Одессой.
В конце весны 1899 года пятнадцатилетнего мальчика отправили морем на пароходе «Киев» в сопровождении старшей сестры Каролины. По пути следования пароход заходил во многие порты, можно было выходить на берег и знакомиться с их достопримечательностями. Знание английского языка, полученное в гимназии, позволило общаться с местным населением. Первым портом был Нагасаки в Японии. Вот как позднее отец описывал свое первое большое путешествие:
«Меня, как молодого путешественника, пленила миниатюрность японской природы, большой порядок и чистота, а также рикши — легкие двуколки, в которых перевозились пассажиры. Простояв два дня в
10 Л.В. Виттенбург. Жизнь и деятельность. Рукопись. С, 2 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
Нагасаки, осмотрев город и окрестности, мы поплыли дальше в Порт-Артур. В ту пору Квантунский полуостров населен был главным образом военными. Порт-Артур представлял собою крепость среди голых скал, где располагались орудия, на улицах расстилался мощный покров пыли. Отсюда взяли курс на остров Сингапур. Сингапур — изумительно красивый город тропиков. Легкие постройки раскинулись вдоль набережной. На рикшах мы проехали аллеями через остров с тем, чтобы на полуострове Малакке посетить королевство Джохор. На лодке переплыли пролив. На противоположном берегу стояло мрачное серое здание — тюрьма, куда загонялась большая часть населения вечером, а утром выпускалась на волю, на работу. Король маленького королевства находился в вассальной зависимости от Англии. На рикшах по прекрасной дороге мы приехали обратно. Дорога была усажена кокосовыми пальмами и мощными банановыми деревьями, а между ними располагались плантации ананасов. К пароходу приплывали туземцы на пирогах и просили бросать им деньги. Они ныряли и в зубах держали монетки, которые доставали со дна.
Как в Тихом океане, так и в Индийском качки не замечалось, и так мы подошли к острову Цейлону. Коломбо — большой портовый город со значительным волноломом. На рикшах проехали полюбоваться величественным прибоем волн в Монтелавиньи. Волны с шумом и ревом ритмично разбивались о прибрежные скалы, производя внушительное впечатление. Также большое впечатление произвела гора Адама со своим Ботаническим садом. В Коломбо, так же как и в Сингапуре, среди цветов крупными буквами по-русски было написано: «Цветов не рвать!»
Из Коломбо курс был взят в Аденский залив на город Аден, где мы осмотрели мощные цистерны для хранения пресной воды. Затем, минуя Баб-эль-Мандебский пролив, «Киев» пошел в Красное море. По пути мы приставали у берегов Аравийской пустыни, затем вошли в Суэцкий канал, останавливаясь у берегов Египта, зашли далее в Порт-Саид и вошли в Средиземное море, испытав по пути действие самума — сухого горячего ветра с сильной песчаной бурей, далее через пролив Дарданеллы в Мраморное море, и пристали к берегу Константинополя, где поражает большое количество собак. Из Константинополя "Киев" направился в Одессу, где и закончилось наше 50-дневное морское плавание. Далее по железной дороге отправились в Либаву.
Это путешествие оставило сильное впечатление, и оно немало стимулировало в дальнейшем выбор мною специальности — географа-исследователя».11
11 П.В. Виттенбург. Жизнь и деятельность. С. 5.
Эля и ее муж Эрнест поселили Павла у себя. Он готовился к поступлению в четвертый класс реального училища, но был принят во второй. Мальчика очень изменили и путешествие и новая обстановка: он стал серьезным юношей. «В кондуите при переходе из 3-го класса в 4-й была запись классного наставника: «Ничего не могу сказать, кроме хорошего»»12.
Когда Павлу исполнилось семнадцать лет, он смог сам зарабатывать себе на жизнь: давал частные уроки, репетировал отстающих учеников. В семье сестры Эли подрастало трое детей — Эрна (1891 года рождения), Владимир (1892 года рождения) и Валида (1899 года рождения). Павел не хотел обременять сестру дополнительными заботами, да и в доме было тесно. В одной симпатичной семье он снял комнату с пансионом.
В это время он увлекся фотографией, собственноручно собрал аппарат и при помощи легкого штатива снимал не только окрестности, своих родных и друзей, но и самого себя. Сохранились фотографии, запечатлевшие переезд на новую квартиру, интерьер его комнаты. Здесь можно увидеть все, что занимало молодой пытливый ум. Много книг на полках, сделанных собственноручно, письменный стол с пристроенной-самодельной столешницей. На столе человеческий череп, черепа мелких млекопитающих, микроскоп, бутылочки с химикатами. На столе и стене фотографии родных. Интересно, что вид этого стола изобличает характер человека, который во многом уже сложился. И позже, когда бы и где бы папа ни устраивал себе рабочее место, оно имело те же особенности: пристройки к книжным полкам, к столу, фотографии близких.
Семья Эли владела под Либавой в Рейне домиком с садом. Некоторые фотографии этих лет отразили сцены сельского быта. На одной — забор воды для поливки сада из залива: лошадь, запряженная в повозку с бочкой, заходит в море, и Павел черпает воду ковшом, наполняя бочку. Эля с малышкой Валидой стоят на берегу. На другой фотографии — метание сена на воз, и так далее.
Еще одно увлечение Павла в это время, также оставшееся на всю жизнь, — фигурное катание. Ученики реального училища устроили специальный каток, где местные фигуристы с наслаждением плавно скользили, выделывая «восьмерки» или «тройки», или катались «голландским шагом» и вертелись «штопором». Следующим увлечением был велосипед. Павлу удалось накопить деньги и купить велосипед. Чтобы правильно обращаться с ним и суметь его починить, он поступил учеником в велосипедную мастерскую. У него вообще было стремление к основательным знаниям по каждому делу, которым приходилось заниматься.
12 П.В. Внттенбург. Жизнь и деятельность. С. 5.
В старших классах Павел получил возможность преподавать в воскресной школе для заводских рабочих, он с увлечением занялся этим и составил для учеников первый в своей жизни учебник — учебник арифметики.
В 1905 году Павел окончил реальное училище с отличием. По этому случаю он запечатлел себя у профессионального фотографа. Перед нами молодой человек, стройный и подтянутый, с горящими глазами. Под фотографией рукой папы написано: «Все в будущем».
В этом же году по конкурсу баллов он поступил в Рижский политехнический институт, но из-за студенческих забастовок занятия в нем прекратились. Тогда он решил поехать в Германию. Выбрал Тюбингенский университет, известный хорошо организованным процессом обучения естественноисторическим наукам. Кроме того, в маленьком немецком городке можно было жить на небольшие средства. В то время перед поступающими в германские университеты был выбор: если молодой человек готовился к государственной службе, то нужно было сдавать экзамены по всем предметам избранного факультета, а если предпочитал научную карьеру, тогда необходимо было сдать 125 экзаменов по теме своей диссертации, чтобы стать кандидатом, а затем сдать докторский экзамен, состоящий из одного главного предмета и двух дополнительных. Диссертация должна была быть напечатана в одном из научных изданий на любом европейском языке. Павел избрал второй путь.
Выбор курса лекций и практических занятий предоставлялся самим студентам:
«Мною были намечены геология общая и историческая как главный предмет и дополнительно химия и ботаника. В зимнем семестре я стал заниматься в химической лаборатории по количественному и качественному анализам и посещать лекции по общей химии и ботанике, а также по физике и зоологии. В летний семестр 1906 года, кроме продолжения слушания начатых лекций, протекали параллельно занятия в лабораториях и институтах. Мною совершались экскурсии на велосипеде по Южной Германии в долине Неккера, посещались вулканы-эмбрионы в Швабской Юре. Под руководством геолога доктора Ф.Целлера изучалась геология Шварцвальда. Он был первый наставник, который познакомил меня с элементами полевой геологии и привил мне любовь к стратиграфии и палеогеографии, в данном случае к триасовым отложениям германского типа. Когда я учился в Тюбингенском университете, вернулся из путешествия по Мексике профессор К. Заппер. Профессор Заппер заведовал кафедрой географии и вел специальный курс географических
наблюдений в полевых условиях с практическими занятиями. Этот курс читался увлеченно и определил мое будущее направление — любовь к путешествиям и научным исследованиям.
Будучи на втором курсе университета, я обратился к профессору Э.Кокену, директору Геологического института, с просьбой дать мне тему для докторской работы. Профессор Кокен предложил заняться нижнетриасовыми отложениями Южного Тироля в районе Доломитов, включая Предаццо и Монцони, где, как известно, развиты сиениты и монцониты. <...> Эту экскурсию я совершил под руководством профессора Э. Кокена. С ним были совершены экскурсии и в Бергамские Альпы и в долину реки По, как по верхнеитальянским озерам Лугано и Комо, так и по озеру Гарда (1906—1907 гг.). Результаты геологических и палеонтологических исследовании были опубликованы в немецких палеонтологических журналах в 1908—1909 годах. Докторская работа о фауне верфенских отложений была издана отдельной монографией.
Будучи еще студентом-кандидатом, я был премирован Тюбингенским университетом поездкой с научной целью во внеевропейскую страну. Я выбрал Дальний Восток, место моей родины, залив Петра Великого. Собранный геологический материал послужил второй темой для докторской диссертации»13.
Студенты жили в частных домах, снимая комнаты с пансионом. Университет на старших курсах предоставлял студенту- кандидату отдельный кабинет для работы над докторской диссертацией. На одной из фотографий видим просторную комнату с большим письменным столом. На столе глобус, геологические образцы, на стене карты и схемы, полки с книгами, шкафы с ящиками для геологических образцов. В Тюбингенском университете академические занятия дополнялись личным общением с профессурой. Было принято приглашать студентов вечером к себе домой на чашку чая. В семейной обстановке велись беседы на научные и философские темы.
Во время обучения в университете Павла волновали философские и нравственные вопросы. Он изучал труды английского моралиста С. Смайльса и немецкого философа А. Шопенгауэра. С товарищем по университету Шмидтом они обсуждали прочитанное за чашкой кофе в его уютном кабинете, где тот сидел в своем любимом старинном кресле в виде шкафа. Поскольку Павел по-прежнему увлекался фотографией, он принял участие
13 П.В. Внттенбург. Жизнь и деятельность. С. 8.
в конкурсе на лучшую почтовую открытку, которая выпускалась в пользу беженцев, пострадавших от землетрясения в Южной Италии. Его фотография Вюрмлингерской капеллы на вершине холма, засаженного виноградниками, послужила оригиналом для открытки. На последнем курсе Павел купил в рассрочку мотоцикл (за который расплачивался несколько лет, будучи уже женатым). Он хотел объехать на нем окрестности и осмотреть интересные с геологической точки зрения места. В его памяти сохранился эпизод: однажды он мчался на своем мотоцикле по горной дороге. На перекрестке оказалась лошадь с телегой. Лошадь испугалась мотоцикла, встала на дыбы, мотоциклисту ничего не оставалось, как промчаться под брюхом лошади.
Намереваясь проводить самостоятельные научные исследования на Дальнем Востоке, Павел отправился в Санкт-Петербург, чтобы согласовать свои действия с Геологическим комитетом. Здесь он нашел поддержку у директора комитета академика Ф.Н. Чернышева, в результате чего смог приступить к геологическим изысканиям в заливе Петра Великого в районе крепости Владивосток. Павел занимался сбором палеонтологического материала и знакомился с триасовой системой полуострова Муравьева-Амурского и острова Русского. В его работах этого лета принимали участие В.Е. Глуздовский, консерватор музея Общества изучения Амурского края, и поручик в отставке М.Х. Полеводин. На небольшом судне, любезно предоставленном заведующим охраной рыбных промыслов К.Н. Бражниковым, экспедиция обследовала западный и восточный берега полуострова и близлежащих островов. Во время плавания было сделано много снимков, которые послужили иллюстрациями в первом и последующих изданиях, посвященных геологии этих мест. 16 августа 1908 года Павел впервые прочел доклад о своих работах в Обществе изучения Амурского края во Владивостоке. Так началась его самостоятельная научная деятельность.
Возвратившись в Тюбинген, на этих материалах он подготовил докторскую диссертацию, которая вышла отдельным изданием в Штутгарте на немецком языке под названием «Геологический очерк восточно-азиатского берега залива Петра Великого»14. На шмуц-титуле: «Meiner lieben Mutter gewidmet» (Моей любимой маме посвящаю). Несколько статей по геологии Южного Тироля, Южно-Уссурийского края, по сравнительному анализу триасовых отложений тех и других вышли в свет в «Новом ежегоднике по минералогии, геологии и палеонтологии Тюбикгенского университета» за 1908—1909 гг.
14 Диссертация в 1911 году была опубликована в русском переводе в виде статьи в 30 томе «Известий Геологического комитета». С. 421—478.
В Санкт-Петербургском филиале Архива Российской Академии наук хранится диплом доктора Тюбингенского университета. Это огромный лист плотной бумаги с типографским напечатанным текстом. Там же хранится его русский перевод:
«Так как Бог повелевает быть лучшим, величайшим, милостивым и счастливым, при всемилостивейшем государе Вильгельме II, короле Вюртенбергском, при славном Ректоре Университета Рихарде Гербе, награжденном за искусства и науки королем Вюртенбергским большой золотой медалью на ленте, согласно уставу короны Вюртенбергской, докторе философии восточных наук <...> с соизволения славного Ректора надлежащим образом делает Ученейшего мужа Павла фон Витгенбурга из Владивостока по выдержании экзамена с большой похвалой и представлении диплом-диссертации: "Геологические исследования на восточно-азиатском берегу залива Петра Великого" Доктором естественных наук, торжественно объявляет этим дипломом и предоставляет ему все права и привилегии, связанные со степенью доктора. Тюбинген. 6 февраля 1909 г.»15.
Университет окончен. Павел вернулся в Россию.
В Петербурге удалось найти работу лишь сверхштатного коллектора в Геологическом комитете. В апреле 1909 года он избран действительным членом Минералогического общества16. Дирекция общества поручила ему составление указателя статей по геологии, вышедших в свет с 1895 по 1909 годы во второй серии «.Записок» Минералогического общества и «Материалов по геологии России». Молодой ученый с удовольствием принимается за работу, так как это давало, помимо столь необходимого ему заработка, знание специальной литературы. Указатель, составлявшийся сразу на двух языках — русском и немецком — был издан в 1911 году. Геологический комитет предложил папе летом продолжить исследование полуострова Муравьева-Амурского в районе Анненских минеральных вод и триасовых отложений на реке Амур.
Вернувшись в Петербург, Павел приступил к осуществлению своего второго после науки жизненно важного замысла — созданию семьи. В мечтах он видел жену-медичку.
Теперь перейду к другой ветви нашего семейства — Разумихиным. Она, хотя и носила русскую фамилию, тоже была многонациональной.
15 Диплом // СПб ФАРАН, ф. 4, оп. 4, д. 866, л. 20.
16 Минералогическое общество учреждено в 1817 году по инициативе бывших выпускников Горного института.
В том же альбоме «Домик в сосновом лесу» фотография 1855 года сидящей в кресле дамы в пышном платье, с приветливым немного простоватым лицом. Это прабабушка Шмунк, урожденная Мейссель, — немка лютеранского вероисповедания, жена столярных дел мастера Людвига Шмунка. Рядом с ней двое детей — мальчик и девочка. Шестилетняя девочка — моя бабушка (мать моей мамы) Берта-Анна-Мария Людвиговна (Анна Львовна), которая родилась в Петербурге в 1849 году. Она получила хорошее образование — знала языки, играла на рояле и отличалась веселым нравом и общительностью. До замужества преподавала французский язык.
Семейная фотография 1859 года запечатлела другую прабабушку с прадедушкой и маленьким сыном Иваном (моим дедом). Это Разумихины — Елизавета Ивановна (Бенигна Доротея Елизавета — дочь либавского региегеря Иоганна Мибиеля) и Александр Иванович. Он девятнадцати лет начал службу унтер-офицером в Софийском морском полку, затем служил в Курляндской полубригаде пограничной стражи, участвовал в отражении английских и французских войск во время Крымской кампании 1855 года у берегов Лифляндии и Курляндии. В связи с этим был награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Затем его перевели в телеграфный корпус ведомства путей сообщения, где он занимал должности начальника различных телеграфных станций. Был награжден орденами Св. Станислава 3-й и 2-й степени, Св. Анны 3-й степени. Вышел в отставку в чине действительного статского советника.
Их единственный сын Иван родился в 1853 году в Либаве. Мальчик был любознателен и не по летам серьезен. В нем рано проявились музыкальные способности, и его стали обучать игре на скрипке. Скрипка настолько увлекла Ивана, что по окончании гимназии он захотел стать профессиональным музыкантом, но родители ему этого не позволили. Елизавета Ивановна сказала: «Es ist Brotlosekunst!».17 Когда семья переехала в Санкт-Петербург, юноша поступил в Институт путей сообщения — один из лучших технических институтов того времени. В 1877 году Иван Александрович окончил его «с правом на чин коллежского секретаря» (чин 10 класса)18 и со званием гражданского инженера. Все эти годы он не расставался со скрипкой, много играл, увлекался литературой и с ранних лет начал собирать библиотеку.
Сохранилось предание о знакомстве Ивана Александровича с Анной Львовной. Однажды к отцу Анны Львовны пришли молодые инженеры-
17 Не хлебное это занятие (нем.).
18 Список окончивших курс в Институте Инженеров Путей Сообщения им. Имп. Александра I за 100 лет, 1810-1910. Б.м., б.г. С. 107.
путейцы. Они сразу прошли в кабинет главы семьи, а барышне Анне Львовне, проказнице и шалунье, очень хотелось на них посмотреть. Она решила переодеться горничной и подать в кабинет чай — вышла к гостям с подносом. Один из присутствующих привлек ее внимание — это был Иван Разумихин. Через год они поженились, несмотря на противоположность характеров, их брак оказался счастливым. Молодой семье приходилось переезжать с места на место, как того требовала служба Ивана Александровича. В конце 1880-х годов он служил инспектором Варшавской железной дороги в Привисленском крае. У них было двое детей. Сначала появилась на свет Наталия, а два года спустя, в 1888 году, в городе Радом родилась вторая дочь, которую назвали Зинаидой19. Девочки удивительно точно унаследовали черты характера своих родителей: старшая — матери, младшая — отца.
В конце 1890-х годов семья поселилась в Москве в Гранатном переулке. Девочкам пришло время учиться, и их отдали в частную гимназию Л.Ф. Ржевской. Среди преподавателей была сестра Антона Павловича Чехова — Мария Павловна. Она настолько запомнилась маме, что, когда спустя 50 лет мне удалось побывать в домике А.П. Чехова в Ялте, мама просила меня передать ей поклон от бывшей ученицы. Обе девочки учились в одном классе, так как младшая из сестер — Зина — рано развилась, и разница в возрасте не являлась помехой. Гимназия Ржевской давала основательные знания как в гуманитарных науках, так и в точных. Языки французский и немецкий оставались в памяти на всю жизнь. За отличные успехи и поведение при переходе из класса в класс Зина получала поощрения — подаренные ей однотомники Пушкина, Жуковского и Гоголя хранятся до сих пор в домашней библиотеке. Эти издания были любимыми и в нашей детской жизни.
Гимназические годы были веселы и беспечны. Девочки учились игре на фортепиано, правда, Зина иногда засыпала над клавиатурой, так как по ночам читала книги. Иван Александрович часто вывозил семью в театры, главным образом в Большой и оперу Мамонтова. Впечатления от голоса и игры Ф. Шаляпина, Л. Собинова, Н. Забелы-Врубель и других великих певцов того времени остались у мамы на всю жизнь. Посещали спектакли и Малого театра и МХАТа. Зимой катались на коньках. Радостно праздновался Татьянин день — 25 января — день открытия Московского университета. Мама рассказывала, как в пасхальную ночь люди с нетерпением
19 В дальнейшем маме неоднократно приходилось давать объяснения советским органам о месте своего рождения.
ожидали удара колокола Ивана Великого, и тогда по всей Москве разливались звоны «сорока сороков». Гимназисты и студенты обходили церкви, предвкушая возможность похристосоваться с хорошенькими гимназистками и курсистками. А отказать было невозможно. Летом большими компаниями уезжали на природу. Анна Львовна принимала участие во всех пикниках и других развлечениях дочерей. Иногда посещали монастыри для осмотра достопримечательностей, останавливаясь в монастырских гостиницах. Надо сказать, что ни Анна Львовна, ни Иван Александрович не были религиозны. Дедушка считал себя атеистом, однако в семье сохранялось уважение и интерес к русской церковной культуре.
В 1905 году Зина и Наташа окончили гимназию, Зина прошла дополнительный специальный курс 8-го класса «для лиц, желающих приобрести права на звание домашней наставницы и учительницы по предметам русского языка и математики». Этим правом Зина воспользовалась уже в Петербурге, когда Ивана Александровича направили служить в столицу. По приезде семья легко сняла квартиру в доходном доме. Старший дворник показывал желающим свободные квартиры, узнать о наличии которых можно было по наклеенным белым бумажкам на их окнах. Сдавая квартиру, хозяин предварительно делал ремонт соответственно вкусу нанимателя, затем приглашались обойщики, которые расставляли по указанию хозяйки мебель, вешали гардины, шторы, картины, расстилали ковры. Интересно, что в начале лета, когда семья уезжала из города, а на будущий сезон предполагала снять другую квартиру, то мебель и вещи отвозились на склад, а осенью их привозили уже на новую квартиру. Квартиры менялись часто: то изменялся состав семьи с приездом кого-либо из родственников, то прошлогодняя квартира оказывалась холодной или неудобной и т. п.
Мама рассказывала, что Иван Александрович каждый день ходил на службу к 10 часам утра, а возвращался в 4 часа дня. Утром он успевал час-два поупражняться на скрипке. Вечерами, по определенным дням недели, собирались знакомые музыканты, разыгрывали квартеты, квинтеты и трио. Так бывало во всех городах, где приходилось служить дедушке. Обычно гостям подавался чай с булочками или бубликами. В другие вечера Иван Александрович играл на скрипке один, аккомпанировала ему на фортепиано или фисгармонии Зина. Анна Львовна играла слишком бравурно, и мужу это не нравилось, а Наташа, которую в семье звали Таля, избегала серьезных занятий. Иван Александрович любил в свободное время вести беседы о музыке, литературе, политике. Он брал младшую дочь под руку и часами ходил с ней по гостиной и столовой. Зина с интересом слушала отца, а он, увлекшись, не замечал усталости
дочери. Семья из года в год имела абонемент в Мариинском театре. Иван Александрович очень любил оперу и близко знал Н.А. Римского-Корсакова, Ц.А. Кюи, А.К. Лядова. Он высоко ценил их творчество, как и вообще музыку, особенно — русских композиторов.
На жалованье инженера путей сообщения семья жила в достатке, хотя скромно. Содержали одну или двух горничных и стряпуху за повара. Львовна иногда уезжала за границу лечиться — Иван Александрович никогда отпуском не пользовался. Летом 1906 года Зина и Таля отправились в небольшое путешествие по Европе. Они составили маршрут таким образом, чтобы переезд из города в город происходил ночью, а день оставался для осмотра достопримечательностей. Им удалось посетить некоторые города Германии, Австрии, Франции и Швейцарии. Зина очень любила проверять свою способность ориентироваться в незнакомом городе. Вообще она любила испытывать себя. Это свойство сохранилось у нее до глубокой старости.
Зина, как многие молодые люди того времени, мечтала служить народу, поэтому решила поступать на медицинский факультет. Она считала, что именно медицина даст ей такую возможность. Зине хотелось попробовать жить самостоятельно, и с этой целью она выбрала для поступления медицинский факультет Харьковского университета. Прежде всего, надо было сдать экзамен по латинскому языку за мужскую гимназию. Зиму 1907 года Зина усердно изучала латынь, а в апреле «успешно выдержала испытания из курса Ларинской гимназии». Свидетельством этому служит ее фотография, заверенная подписью секретаря педагогического совета и сургучной гербовой печатью. Еще предстояло сдать экзамен на аттестат зрелости при Харьковской мужской гимназии. Зина все экзамены сдала успешно и в результате стала студенткой Харьковского университета. Сохранилась фотография первокурсниц в анатомическом театре медицинского факультета: юные девушки стоят вокруг препарированного трупа. Одновременно с занятиями в университете Зина подрабатывала частными уроками и корректурой.
Старшая сестра Таля в это время поступила учиться в Санкт-Петербургскую консерваторию. (У нее был приятный голос — меццо-сопрано.) Она часто приезжала к Зине в Харьков. К этому времени относятся фотографии, снятые в ателье Р.И. Падеревского: две красивые барышни, у них открытые добрые лица, пышные волосы, прекрасные фигуры, не нуждавшиеся в корсетах, на барышнях изящные платья и элегантные большие шляпы по моде того времени.
Уже на следующий учебный год (1908) Зина перевелась в Санкт-Петербург на второй курс Женского медицинского института и на летние
каникулы поступила в семью присяжного поверенного Варушон-Яросевича в качестве наставницы к их детям. Все семейство проводило лето в Финляндии в Ваммельсуу недалеко от Черной речки. На заработанные деньги Зина заказала себе бальное платье — светло-серый плиссированный шифон на золотистом шелковом чехле. Тале сшили черное вуалевое платье на светлом атласном чехле. Она была очень красива, любила успех и отличалась беспечностью. Как-то обе барышни гостили у бабушки Елизаветы Ивановны в Царском Селе. Таля слегка кокетничала с молодым человеком, живущим в доме напротив. Тот стал посылать букеты цветов. Как оказалось, это был один из великих князей. Зина не отличалась кокетством и ловила каждую минуту, чтобы уединиться с книгой. Ночью, когда никто не мог ей помешать и чтобы не тревожить зажженным светом бабушку, которая в свои 50 лет считалась уже старушкой, она забиралась в платяной шкаф и там с электрической лампочкой преспокойно читала.
Благодаря легкому характеру Анны Львовны их дом был открыт для молодежи как в Москве, так и в Петербурге. С утра в воскресенье приходили студенты и гимназисты. Шли кататься на коньках или санках. Потом дома играли в разные игры, особенным успехом пользовались живые картины и шарады. Зимою в Петербурге устраивалось вообще много балов и маскарадов, в том числе и в учебных заведениях, особенно военных. Обе барышни охотно посещали балы и танцевали до упаду.
Летом 1909 года Анна Львовна с дочерьми отправилась в путешествие по Крыму, желая познакомиться с его достопримечательностями. Посетили и Бахчисарай, и дворцы на побережье. С места на место их перевозили татары на лошадях, запряженных в повозку с тентом. Иногда останавливались в татарских деревнях. В это время Зина вела оживленную переписку с женихом, и на почту ей приходилось ходить через татарское кладбище. Желая закалить свою волю, она проделывала этот путь ночью. (Как ей пригодилась выдержка и твердая воля в дальнейшей жизни!)
Достигнув восточного Крыма, путешественницы посетили гостеприимный дом Максимилиана Волошина в Коктебеле. Хозяин радушно встретил вновь прибывших. В доме гостило много людей, и среди них находился Василий Витальевич Шульгин, член Государственной думы, впоследствии принимавший отречение от престола Николая II. Вечером, когда устроили концерт, Шульгин играл на скрипке, аккомпанировала ему Зина.
С семьей Разумихиных Павел познакомился еще в Москве в 1904 году, когда наносил визит своим очень дальним родственникам. Таля и Зина тогда были еще гимназистками, а он учеником реального училища. В 1909 году они вновь встретились в Петербурге. Зина и Павел заинтересовались
друг другом, и между ними завязалась переписка. Вскоре Зина-медичка получила предложение руки и сердца молодого доктора Тюбингенского университета. И хотя жених не имел еще постоянного заработка, тем не менее предложение его было принято.
Анне Львовне, матери невесты, пришлось приложить немало сил, чтобы найти православную церковь, священник которой согласился бы обвенчать молодых без принятия причастия невестой: Зине, студентке III курса, во время сессии некогда было соблюдать церковные ритуалы. Священника нашли в церкви Св. Мефодия на Песках20. Венчание состоялось 8 января 1910 года. Подвенечное платье Зине шила домашняя портниха. Во время многочисленных примерок невеста несколько раз падала в обморок, так как по ночам готовилась к экзаменам. Тем не менее платье из тонкого белого сукна, отделанное белым пухом и с небольшим треном, прекрасно сидело на тоненькой фигурке. На голове над короткой фатой — флердоранж.
С экипировкой жениха было сложнее: у него не было фрака, достать удалось только смокинг, и было заметно, что он с чужого плеча. Но хуже всего — это проношенные ботинки. Когда венчающиеся встали перед алтарем на колени, то гости могли заметить дыры на подошвах. Свадьба прошла в семейной обстановке в квартире родителей Зины в 6-й роте (ныне 6-я Красноармейская ул.), д. 22, кв. 11. Гости — близкие родственники с той и другой стороны. Молодые сняли маленькую дешевую квартирку в первом этаже дома на Архиерейской улице (ныне улица Льва Толстого), д. 33, кв. 59. Окна выходили во двор, было темновато, но зато близко к Медицинскому институту.
Научные интересы Павла Владимировича тяготели к Геологическому музею имени Петра Великого Академии наук, директором которого был академик Ф.Н. Чернышев. В те годы приоритетами музея были теоретические, фундаментальные проблемы геологии, в отличие от Геологического комитета, занимавшегося преимущественно разведкой недр. Ф.Н. Чернышев стремился создать в академии Национальный русский геологический музей, который должен был стать центром научной работы, так как, по его мнению, «успех практического приложения геологии находится в самой тесной зависимости от успехов теоретической разработки ее насущных вопросов»21.
20 Православная церковь Св. Мефодия Патарского при Мефодиевском приюте (Суворовский пр., д. 32а). Не сохранилась.
21 Геологический музей. Академия наук 1725—1925. Л., 1925. С. 13.
Папа передал в Геологический музей палеонтологическую коллекцию, собранную им в Южном Тироле в 1907 году. Ему поручили разбор и описание коллекций триасовой фауны, собранных Ф.Н. Чернышевым в 1901 году на о. Шпицберген, и коллекции, собранной Э. Толлем и А. Бунге на реке Дулголах в Якутии в 1886 году. Эти работы были опубликованы в «Трудах музея»22. Летом 1910 года Геологический музей предложил папе произвести геологические исследования медных руд в Олонецкой губернии.
Осенью молодой ученый был избран в действительные члены Императорского Русского Географического общества23. В личном архиве сохранился членский билет под № 307, размером в четверть листа ватмана с красиво написанным текстом, увенчанный условно изображенной в круге географической картой Земли. Собственноручные подписи председателя великого князя Николая Михайловича, вице-председателя В.П. Семенова-Тян-Шанского и секретаря А. Достоевского свидетельствуют об избрании Павла Владимировича Виттенбурга своим действительным членом.
В конце 1910 года в семье появился первый ребенок — девочка. Назвали ее Валерией. Анна Львовна предложила Зинаиде Ивановне свою прислугу Аннушку, которая жила у нее с детства. Аннушка нянчила Валерию, а молодая мать продолжала учиться. Вышла замуж и ее сестра Таля за артиллерийского инженера Игоря Лунина. В начале 1911 года у них родился сын Славушка (Ростислав).
Сестры со своими младенцами и родителями Анной Львовной и Иваном Александровичем провели лето 1911 года в Сестрорецком Разливе, где сняли дачу.
Папа отправился в экспедицию на Северный Кавказ. Геологический музей поручил ему обследовать ту часть Кубанской области, которая примыкает к реке Белой и Малой Лабе. В сохранившихся полевых дневниках этой экспедиции содержится описание маршрутов, нумерация произведенных фотоснимков и геологических образцов, зарисовки обнажений. Вот описание одного из маршрутов:
22 Труды Геологического музея им. Петра Великого ИАН. Т. IV, Вып. 2. СПб., 1910-1911.
23 Русское Географическое общество — 1845—1850; Императорское Русское Географическое общество — 1850—1917; Русское Географическое общество — 1917—1926; Государственное Географическое общество — 1926—1938; Географическое общество СССР — 1939—1994; Русское Географическое общество с 1995. Учреждено 6/18 августа 1845 по инициативе 17 ученых, в том числе Ф.П. Литке, К.М. Бэра, Ф.П. Врангеля, И.Ф. Крузенштерна.
«По дороге все время видно было, какая масса зверья живет в этой местности. Все время шли совершенно утоптанными тропами со следами зубров, оленей, кабанов. Зубриные лепешки попадались на каждом шагу. Вообще вся местность носит какой-то первобытный характер, донельзя интересный и увлекательный. <...> Налево все время возвышаются причудливые скалы самого высокого отрога Оштени, под которым расположено громадное снежное поле с чудным голубым озером. <...> Там вспугнули целых два стада джейранов. Дальше пришлось идти по очень высокой дороге, причем наши лошади едва шли: одна из них свалилась под кручу, но задержалась на выступе. Перекатив этот выступ, она слетела бы под обрыв в несколько сот метров. Наконец, не доходя до гребня сажень 200, мы оставили лошадей, а я, надев на себя шесть инструментов, в виде вьючного осла пришел на вершину. Ровно в четыре часа был там. Поразительный вид: чудно видно море, все горы вокруг. Снял панораму, сделал направление главных вершин, гипсометр, анейроды, взял кое-что из окаменелостей, которых здесь много, минералов (кальциты), почву и в 6 часов 30 минут вместе с Данилой пошли назад. Едва свели лошадей. Пришли в лагерь ночью, около 10 часов»24.
В последующие два года по материалам этой экспедиции в «Известиях имп. Академии наук» вышли две папины статьи о стратиграфии кавказского триаса и сравнительных данных триаса Кавказа и Аляски.
Глубокой осенью 1911 года молодое семейство Виттенбургов понесло горькую утрату — скончалась от воспаления легких маленькая Валерия.
24 Полевой дневник // Личный архив Е.П. Виттенбург.
Глава II Многообещающее начало. Трудные годы. 1912–1920
Глава II
Многообещающее начало. Трудные годы. 1912-1920
1912
1912 год ознаменовался для семьи двумя большими событиями: папа был избран на штатную должность в Геологический музей Академии наук и тем на многие годы связал свою судьбу с Академией. Вторым событием явилось рождение дочери, появление которой несколько смягчило горе утраты первенца.
В начале года инженерное управление Владивостокской крепостью обратилось в Геологический комитет (Геолком) с просьбой рекомендовать геолога для работ по изысканиям в районе крепости в связи с предстоящим ее укреплением. Геолком предложил кандидатуру папы, который с интересом принял это предложение и был назначен геологом крепости Владивосток1. Председатель Общества изучения Амурского края Николай Матвеевич Соловьев, зная об этом назначении, предложил папе в течение летних месяцев продолжить геолого-палеонтологические исследования полуострова Муравьева-Амурского и близлежащих островов.
Во Владивосток папа отправился вместе со своей матерью, Марией Ивановной, возвращавшейся домой из Европы через Петербург. Сохранилась почтовая открытка, в которой его любимая сестра Лиза передавала желание матери ехать вместе с сыном, так как здоровье ее «стало пошаливать». Еще до отъезда в Южно-Уссурийский край папа, имея ученую степень доктора естественных наук Тюбингенского университета, решил получить научную степень в одном из российских университетов. Он выбрал Юрьевский (Тартуский) университет. В конце апреля после сдачи экзаменов ему была присуждена искомая степень магистра минералогии и геогносии.
1 О геологии Владивостокской крепости // СПб ФАР АН, ф. 128, оп. 1, д. 575, л. 4; Виттенбург П.В. Жизнь и деятельность. С. 9 / / Личный архив Е.П. Виттенбург.
В Уссурийской экспедиции папа проработал четыре месяца чрезвычайно плодотворно2. В процессе полевых работ ему пришлось самому дать названия многим географическим пунктам, «где развиты те или иные описываемые мною горные породы, — писал он. — Причина возникновения названий чисто утилитарная — географическая»3. Около 60 географических объектов: горы, бухты, мысы, ранее безымянные, получили названия, в последующие годы многие из них переименовали. Одновременно была собрана большая коллекция геологических образцов и минералов, предназначенных как для музея общества4, так и для Геологического музея Академии наук. Научные результаты этой экспедиции предполагалось издать в трех томах «Записок Общества изучения Амурского края». В свет вышли только том 1-й и часть 2-го, но об этом ниже. Общество изучения Амурского края за эти работы присудило папе премию имени Ф.Ш. Буссе5. Для молодого ученого это была большая честь.
По возвращении в Петербург папу ждала новость: Ф.Н. Чернышеву удалось добиться расширения штатов для Геологического музея, и 10 октября 1912 года папа был избран на открывшуюся новую должность младшего научного хранителя.
Для поступления на государственную службу надо было подать прошение на имя самого государя императора:
2 В архиве Российской Академии наук имеются сведения, что с 5 июля 1912 года П.В. Виттенбург направляется в Японию на три месяца для геолого-палеонтологических исследований (Дело Канцелярии Правления имп. А.Н., Личное дело П.В. Витгенбурга) // СПб ФАРАН, ф. 4, оп. 4, д. 866, л. 160; ф. 47, оп. 4, д. 91, л. 94). Никаких свидетельств о поездке его в Японию не сохранилось, скорее всего, командировка не состоялась, так как папа предпочел принять предложение изучения «родного мне края <...> той части Восточной Сибири, которая меня живо интересует с точки зрения изменения материков и морей в смене времен» (Виттенбург П.В. Геологическое описание п-ова Муравьева-Амурского и архипелага Имп. Евгении. Пг., 1916. С. IX.)
3 Письмо П.В. Витгенбурга к Б.Г. Масленникову от 16.10.1967 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
4 В настоящее время коллекция хранится в музее им. В.К. Арсеньева во Владивостоке. См.: Ефимова М.И. Историческая и научная ценность геологической коллекции П.В. Виттенбурга // Важнейшие горные и геологические музеи мира. История, современность и перспективы развития. СПб., 1995.
5 Буссе Федор Федорович (1838—1896) — этнограф, краевед, один из учредителей и первый председатель ОИАК. В 1900 ОИАК учредило на средства членов Общества премию им. Ф.Ф. Буссе за сочинения по естественноисторическому, геологическому исследованию края, также по местной археологии и по изучению быта и нужд населения. Премия присуждалась трижды: геологу А.М. Оссендовскому (1907), П.В. Виттенбургу(1912), археологу А.П. Окладникову (1959).
Всемилостивейший, державный Великий Государь Император
Николай Александрович,
самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший
Просит доктор естественных наук Тюбингенского Университета,
магистр имп. Юрьевского Университета
Павел Владимирович фон Виттенбург о нижеследующем:
Желая поступить на службу Вашего Императорского Величества в должности младшего ученого хранителя Геологического отделения Геологического и Минералогического Музея имп. Петра Великого имп. Академии наук, всеподданнейше прошу к сему дабы повелено было сие мое прошение принять и меня на означенную должность определить.
Моему прошению, мною написанному, руку приложил Павел Владимирович фон Виттенбург.
К поданию подлежит в Правление имп. Академии наук.
Жительство имею:
Лахта «Ольгино»
Лесная ул. № 21.
2 ноября 1912 г.6
Затем требовалось принять присягу на верность и дать подписку о непринадлежности к тайным обществам, текст «Клятвенного обещания» подписан 28 февраля 1913 года папой и принимавшим присягу пастором. Поступление на службу в Академию наук предоставило папе огромные возможности для реализации его научных интересов, его энергия находила приложение в разных направлениях деятельности Академии. Это был самый плодотворный период его жизни. В этом же 1912 году папа стал членом еще двух научных обществ: Петербургского общества естествоиспытателей7 и Геологического общества в Вене.
Вторым знаменательным событием этого года было появление на свет 16 марта дочери, при крещении по православному обряду названной Вероникой. Крестной матерью стала Эрна, дочь папиной сестры Эли. Девочка родилась здоровенькая, необычайно улыбчивая и совсем не плакса. Маме пришлось на время оставить институт. Поскольку не хотелось жить там,
6 СПб ФАРАН, ф. 4, оп. 4, д. 866, л. 11.
7 Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей учреждено при Петербургском университете в 1868. В настоящее время ему возвращено первоначальное название.
где потеряли своего первого ребенка, семья переехала на другую квартиру, более светлую, на Ропшинской улице.
На все лето мама с Аннушкой поехали в Финляндию под Гельсингфорс, где им тетя Таля, мамина сестра, сняла дачу. Мама, как человек деятельный, принялась в это время за вышивание. В Гельсингфорсе можно было купить все, что нужно для рукоделия — нитки, ткань, образцы для вышивания. За лето мама успела вышить шерстью большую картину: опушка хвойного леса, озеро, закат солнца. Папа очень любил эту картину, она прошла с нами долгий путь, а сейчас висит в раме под стеклом над моим письменным столом.
На одном из островов близ Гельсингфорса мои родители увидели домик, который им очень понравился. Дом принадлежал архитектору. Хозяин любезно разрешил осмотреть дом и подарил его план, узнав, что молодые люди хотели бы построить себе такой же.
В этом же году папа с мамой решили поселиться за городом. Маленькой Веронике нужен чистый воздух. Выбран был поселок Ольгино по Сестрорецкой железной дороге, недалеко от Петербурга, верстах в девяти. Сняли первый этаж одной из дач архитектора А.П. Вайтенса по Лесной улице, дом № 21. Ежедневная поездка в город для папы не составляла труда, так как поезда ходили регулярно.
1913
В 1913 году Академия наук командировала папу с 20 мая по 15 сентября на остров Шпицберген, чтобы продолжить изучение геологии, начатое экспедицией под руководством Владимира Александровича Русанова. В состав новой экспедиции вошел также горный инженер Рудольф Лазаревич Самойлович. Они обследовали триасовые отложения и каменноугольные месторождения Айсфиорда, Белзунда и острова Акселя. На острове Акселя папа открыл верфенские отложения.
На Шпицбергене папа познакомился с несколькими учеными из Швеции и Норвегии, в частности с Адольфом Гулем, с которыми и в дальнейшем поддерживал научные контакты. Вскоре они прислали в Геологический музей для обработки триасовые коллекции, собранные ими на Шпицбергене8.
Первое посещение Арктики, ее суровая красота произвели на папу сильное впечатление, взволновали его. Он понял, что мысли и сердце его теперь будут принадлежать этим далеким странам с их бескрайними просторами.
8 Отчет по препарировочной мастерской Геологического музея // СПб ФАР АН, Ф. 128, оп. 2, д. 5, л. 48.
1914
К лету 1914 года в связи с открытием в Арктике новых земель, в Академии наук созрело решение о создании специальной межведомственной Полярной комиссии. На заседании физико-математического отделения Академии наук обсуждалась записка И.П. Толмачева «Об изучении новооткрытых земель и островов у берегов Сибири». В.И. Вернадский в записке «К вопросу о задаче Полярной комиссии»9 изложил свои предложения. В результате от Академии были разосланы письма семнадцати ученым с приглашением войти в состав Полярной комиссии. Среди давших согласие на работу в комиссии был и папа.
1 декабря 1914 года под председательством президента Академии великого князя Константина Константиновича состоялось предварительное совещание, на котором был определен состав Полярной комиссии и ее задачи. Главной темой совещания был вопрос об организации круглогодичных научных экспедиций, для чего предполагалось создать склады продовольствия на побережьях арктических морей и разработать «Положение о снаряжении полярных экспедиций во избежание повторений тех катастроф, к которым привели недостаточно продуманные и неправильно снаряженные экспедиции Седова, Брусилова, Русанова»10. Условия военного времени задержали начало деятельности комиссии. Следующее заседание состоялось лишь через два года под председательством А.П. Карпинского, который взял на себя руководство Полярной комиссией после смерти великого князя Константина Константиновича.
В летний экспедиционный период 1914 года папа
«был командирован имп. Академией наук для геологических исследований в Терскую область, где по приглашению начальника гидротехнических изысканий на Северном Кавказе инженера Ю.В. Кашкина принимал участие в работах по исследованию верховий рек бассейна Терека и Сунжи в области предполагаемых ... значительных технических сооружений по ирригации и мелиорации водных сил северного склона Кавказа. — О ходе работ он писал так: В первый год своих двухлетних работ я решил произвести беглый осмотр тех мест, где впоследствии должны быть сосредоточены детальные исследования. <...> Рекогносцировочный характер моих исследований сам собой понятен, <...> ибо невозможно в два месяца изучить хотя
9 Протокол заседания Физико-математического отделения АН СПб ФАР АН, ф.75, оп. 1, д. 33, л. 5, 9.
10 Там же, л. 13.
бы с приблизительной точностью такой обширный район, который мне пришлось объехать, более точное исследование было предположено произвести во второй год работы»11.
Папа из экспедиции вернулся только к началу октября. Предварительный отчет он закончил конкретными рекомендациями по выбору места для устройства водохранилищ, основанных на геологической структуре горных пород.
Жизнь в Ольгино очень понравилась родителям — поселок переживал пору своего расцвета. Среди пригородных поселков он славился комфортабельностью, богатой культурной жизнью, красотой окрестностей, пляжами, купальнями. Папе с мамой удалось скопить немного денег для покупки земли и строительства собственного дома, участки в то время в Ольгино стоили недорого. Родители выбрали место на краю соснового леса, где когда-то был берег древнего Балтийского моря. За участком открывался вид на поля, вдалеке чернел лес. Мечта о собственном доме, где спокойно могла бы жить семья, на чистом воздухе росли бы дети, зародилась у папы еще в молодости.
Весной 1914 года началось строительство дома по плану, подаренному в 1912 году финским архитектором из Гельсингфорса. Заложили фундамент из грубо отесанного гранита, возвели сруб. Как только настелили пол и покрыли толем крышу, сразу переехали жить в собственный дом. Первое время оконные и дверные проемы завешивали одеялами и коврами. Денег не хватало. Чтобы продолжить строительство, первый этаж пришлось заложить. В Ольгино теперь стали приезжать гости. В семейном альбоме несколько фотографий запечатлели сцены летней жизни. Появился сторож — сенбернар (леонберг) по кличке Миллон. Эхо военных действий Первой мировой войны еще не нарушало привычной жизни.
1915
Мама стремилась закончить медицинский институт, все экзамены сдала на отлично. Совсем уже на сносях она сдала последний экзамен того года — патоанатомию. В мае родилась девочка. При крещении ей дали имя Валентина, а дома называли Валюсей или Люсей.
Иван Александрович и Анна Львовна имели в Тайцах небольшой дом, но лето проводили у своей младшей дочери Зины. Эрна, старшая дочь папиной сестры Эли тоже часто гостила в нашей семье. Она любила детей и с удовольствием проводила с ними время.
11 Виттенбург П.В. Материалы к геологии северных склонов Северного Кавказа. Б.м., б.г. Корректурные листы. С. 1 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
В строящемся доме можно было жить только на первом этаже. Внутри еще не было отделки, стены бревенчатые. Трубы водяного отопления и радиаторы укрепили сразу, а котел для отопления поместили в подвале. К нему из кухни вел спуск в несколько ступеней. Летом заготавливались дрова — швырок, которым заполнялся подвал. Участок со стороны леса огородили сплошным забором, со стороны улицы — штакетником, а две другие стороны только наметили жердями.
Детям много удовольствия доставляли прогулки. Зимой Миллона запрягали в саночки, и он степенно возил детей. Летом в саду устанавливали качели на специально врытых столбах и трясучку — длинную доску, укрепленную по концам на низких опорах. Стоило сесть или встать на нее, как она пружинила и подбрасывала вверх. В саду выкопали прудик скорее всего в противопожарных целях. Его огородили со всех сторон невысоким заборчиком, подходить к воде разрешалось только со взрослыми...
Геологический музей, где работал папа, был одним из старейших музеев России, он вел свое начало от минерального кабинета Петра I, образованного в 1716 году. Долгие годы он существовал как геологическое отделение Минералогического музея. По мере развития геологической науки в 1903 году геологическое отделение стало самостоятельным музеем, а в 1912 году оба музея объединили, образовался Геологический и минералогический музей имени Петра Великого. Директором объединенных музеев с небольшими перерывами был В.И. Вернадский, а геологического отделения с 1900 года до своей смерти в 1914-м — Ф.Н. Чернышев, после него руководство принял на себя Н.И. Андрусов.
Фонды музея постоянно росли, занимал же он в течение нескольких лет чрезвычайно тесное помещение в главном здании Академии наук, поэтому свои коллекции не мог представить для обозрения широкой публике — посещали его только специалисты и экскурсии студентов. В 1915 году музею передали две небольшие квартиры на третьем этаже главного здания. Шла Первая мировая война, Академия, как и большинство учреждений и дворцов города, отдавала свои помещения для размещения раненых. В Академии находился лазарет имени великой княгини Елизаветы Маврикиевны, вдовы покойного президента Академии. Оставшиеся комнаты были использованы для экспозиции коллекций и научной работы.
В 1915 году экспедиционная деятельность папы ограничилась изучением делювиальных отложений в окрестностях Петрограда. Текущая работа заключалась в изучении коллекций триаса Евразии и Кавказа, редактировании «Трудов» музея. Кроме того, ему поручили заведование
делопроизводством, как геологического отделения, так и всего Геолого-минералогического музея12. Помимо этого, в порядке помощи периферийным музеям, папа собрал и отправил в Симбирский областной музей геологическую коллекцию из дублетных образцов. В ответ ему прислали благодарственное письмо: «Милостивый государь Павел Владимирович, Правление Симбирского областного музея на собрании своем 29 мая 1915 года постановило просить Вас, Милостивый государь, принять звание члена-корреспондента Музея»13. По-видимому, папа давал рекомендации по борьбе с оползнями в Симбирской губернии, так как в домашнем архиве сохранился присланный оттуда в дар альбом с фотографиями разных случаев смещения почвы в окрестностях Симбирска.
1916
Все предыдущие годы папа работал над монографией, обобщающей его геологические исследования в заливе Петра Великого, начатые еще в 1908 году. Монография «Геологическое описание полуострова Муравьева-Амурского и архипелага Императрицы Евгении» вышла в качестве XV тома «Записок Общества изучения Амурского края» со многими иллюстрациями в виде карт, таблиц, рисунков и фотографий. Большая часть фотографий, в том числе и панорама бухты Золотой Рог, была снята самим автором. Исследование завершила геологическая карта полуострова.
Книгу автор посвятил Николаю Матвеевичу Соловьеву, председателю Общества изучения Амурского края, организатору экспедиции 1912 года. Н.М. Соловьев в ответ писал:
«Я не ожидал, что труд Ваш выйдет такой объемистой книгой, не ожидал такой массы иллюстраций, такой изящной внешности книги, особенно ввиду тяжелых условий военного времени. Приятным сюрпризом явился исторический очерк исследований Уссурийского края, старые карты, сотни ссылок на источники. XV том вышел объемистее, чем все предшествующие 14 томов вместе взятых, научную же ценность XV тома нечего и сравнивать с предшествующими»14.
Научные результаты экспедиции 1912 года предполагалось издать в трех частях, но помимо монографии отца в свет успела выйти только работа А.Н. Криштофовича «Материалы к познанию юрской флоры Уссурийского
12 П.В. Витгенбург работал на этих должностях с 1915 по 1920 г.
13 Письмо от 27.08.1915 // СПб ФАРАН, ф.4, оп. 4, д. 886, л. 40.
14 Архив ОИАК, ф. 19, оп. 3, д. 5, л. 1.
края» в виде XVI тома «Записок», а остальные шесть статей этого тома, хотя и готовились к печати, как и XVII том «Петрография», издать не успели в связи с революцией. Во всех папиных изданиях принимала участие мама: она редактировала рукописи, правила корректуру и даже составляла указатели.
Из-за войны и революции не весь тираж монографии отца был разослан, часть его осталась дома. Всего два или три года назад по просьбе нескольких геологов Владивостока, я выслала им эту книгу15. По своему научному значению она до сих пор не потеряла ценности, о чем они мне и сообщили. Эта монография всегда оставалась для папы дорогой и любимой.
Несмотря на военное время, отдел торговых портов министерства торговли и промышленности искал возможности освоения Северного морского пути для торгового мореплавания. Необходимо было строить порты в устьях великих сибирских рек — Енисея и Оби. «Прежде чем приступить к портовым изысканиям и выбору пункта для возведения порта, отделом торговых портов было поручено П.В. Виттенбургу, Р.Ю. Гутману и И.Д. Лукашевичу составить гидрометеорологический очерк рек Енисея и Енисейского залива»16.
С мая по сентябрь 1916 года папа продолжил изыскания на Северном Кавказе, особый интерес для него представляли найденные там триасовые отложения17. По возвращении в Петроград он получил по совместительству место геолога гидрометеорологической части отдела торговых портов министерства торговли и промышленности для производства гидрогеологических изысканий и предложение прочесть курс лекций «Учение о морских берегах и формах поверхности суши» на гидрометеорологических курсах. Кроме того, папа стал преподавателем открывшихся в Петрограде Высших географических курсов18 и в дальнейшем принял горячее участие в организации высшего географического образования. Одна из сторон папиной натуры — потребность передавать свои знания молодежи, воодушевлять ее, зажигать стремлением познать новое — с этого времени приобретает ведущее значение в его жизни.
В этом году папа подал просьбу в Харьковский университет о присуждении ему звания магистра минералогии и геологии за только что вышедшую
15 Книга была выслана председателю ОИАК А.А. Хисамугдинову (1986), геологу ДВАН Г.И. Бурий (1987), в дар городской библиотеке Владивостока (1989), историку В.И. Гохнаделю (1999).
16 Рабо Ш., Витгенбург П. Полярные страны 1914-1924. Л., 1924. С. 110.
17 Альбом фотографий этой экспедиции хранится в АРГО (Ф.123).
18 Витгенбург П.В. Путь к социальному обеспечению работника науки. Рукопись //Личный архив Е.П. Витгенбург.
монографию «Геологическое описание полуострова Муравьева-Амурского и архипелага Имп. Евгении». Просьба была удовлетворена. Это была третья ученая степень, полученная моим отцом. Две другие были получены в Тюбингенском (1909) и Юрьевском (Тартусском) (1912) университетах. Будучи уже членом Русского Географического общества и Петербургского общества естествоиспытателей, папа вступил в Русское палеонтологическое общество19.
Семейная жизнь шла своим чередом. Дом в Ольгино строился, девочки росли. Мама возобновила занятия медициной, посещала клиники института и готовилась к выпускным экзаменам.
1917
Наступил год революций. Жизнь в Петрограде бурлила, но катаклизмы этих лет для нашей семьи прошли не так трагично, как для других. Ни в армию, ни в ополчение папу не призывали, так как он состоял на службе в государственном учреждении и являлся уроженцем Владивостока20. Мама сдала государственные экзамены и получила диплом с отличием. Она считала, что для медицинского образования неприемлемы оценки ни хорошо, ни тем более удовлетворительно, так как врач должен знать свой предмет только на отлично. Теперь мама стала терапевтом-микропедиатром, это помимо хозяйки, жены, редактора папиных рукописей, а в душе еще и музыканта.
5 мая 1917 года Иван Александрович Разумихин, мамин отец, вышел в отставку. Он был на службе с 1880 года, вел инженерные наблюдения за строительством железных дорог в Польше, Закавказье, Средней России и принимал участие в проектировании Забайкальской железной дороги, имел чин статского советника и ордена Св. Анны 2-й степени и Св. Станислава 2-й степени. С 1914 года, будучи инженером при управлении железных дорог, он успешно провел работы по мобилизации железных дорог в связи с вступлением России в Мировую войну, за что в январе 1916 года был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. По ходатайству начальника управления железных дорог Рейснера ему была назначена усиленная пенсия в размере 1200 рублей в год «за продолжительную усердную и ревностную службу».21
19 Русское палеонтологическое общество организовано в 1916 группой ученых Геолкома.
20 Уроженцы Дальнего Востока освобождались от воинской повинности из-за малонаселенности тех мест.
21 Послужной список // РГИА, ф. 229, оп. 19, д. 2291, л. 25.
В начале 1917 года президентом Академии наук был избран А.П. Карпинский. Во время Февральской революции непременный секретарь Академии С.Ф. Ольденбург вошел во Временное правительство России в качестве министра народного просвещения. После Октябрьского переворота большевистское правительство обратилось к Академии с вопросом: согласна ли она сотрудничать с новыми властями? Ответ Академии: «Академия полагает, что значительная часть задач ставится самою жизнью, и Академия всегда готова по требованию жизни и Государства приняться за посильную научную и теоретическую разработку отдельных задач, выдвигаемых нуждами государственного строительства, являясь при этом организующим и привлекающим ученые силы страны центром»22. До поры до времени ученым позволили ведать наукой самостоятельно. В это время и еще несколько лет, как бы по инерции, ценился профессионализм: наукой занимались ученые, а политикой — политики.
Академия наук опять командировала папу в Южно-Уссурийский край для продолжения геологических исследований береговой полосы залива Петра Великого. Экспедиция продолжалась с мая по сентябрь 1917 года. Из письма к маме:
«...Мне очень важно знать, что мои детки здоровы, что они пьют, едят и отдыхают на свежем воздухе вдоволь.
Мои работы идут вперед. На днях устроил я совместную экскурсию с Полевым и Соловьевым. Хотел показать первому интересные места, но, конечно, как и следовало ожидать, комитетский геолог остался верен себе. Был ко всему окружающему хладнокровен и в объяснения мудрые не пускался. Прокатил я его в автомобиле по горам и доставил бы любому геологу западноевропейскому, наверное, бесконечное удовольствие, а этот даже не выразил особого интереса к таким геологическим явлениям, которые заставляют шевелиться, по моему, всякий инертный ум, не только геолога. <...>
Мною Соловьев, кажется, доволен. Я стараюсь добросовестно выполнять мою работу. Знаешь, дружок, я, кажется, тебе еще этого не писал, что он, кажется, собирался или имел мысль свою дочь — барышню — выдать за меня23 и был очень удивлен, когда узнал, что я уже женат и имею деточку. Он немного изменил свое поведение, но
22 Академия наук за 10 лет 1917-1927. Л., 1927. С. 1.
23 В 1919 году дочь Н.М. Соловьева Маргарита вышла замуж за Владимира Клавдиевича Арсеньева. См.: Хисамутдинав А. «Свеча горела!» // Дальний Восток. 1995. № 7. С. 99.
теперь вполне освоился и очень хорошо относится ко мне. Он вообще очень славный человек. Его сын, гимназист 4-го класса, живет у меня и экскурсирует со мной, очень симпатичный мальчик»24.
В это лето особенно подробно были изучены острова, расположенные в заливе Петра Великого: Аскольд, Путятин и группа островов архипелага Имп. Евгении. Кроме того, были исследованы в геологическом отношении Мангурайское и Николаевское угольные месторождения Уссурийского края.
Как видно из отчета Геологического музея за 1917 год, VIII том его « Трудов» находился в печати. Туда вошли отчеты папы по экспедиции на Шпицберген, материалы по геологии Северного склона Кавказа и история Минералогического общества за период с 1817 по 1863 год, выполненные по поручению этого общества, но весь тираж этого тома пропал.
На годичном собрании Академии наук 29 декабря 1917 года в торжественной обстановке было объявлено о присуждении папе Малой премии имени Ахматова25 за книгу «Геологическое описание полуострова Муравьева-Амурского и архипелага Имп. Евгении»: Академия еще жила своею жизнью.
По возвращении из экспедиции папа узнал, что пустующий дом геолога К.А. Воллосовича в Ольгино занят детской трудовой колонией. Книги и рукописи ученого, а также материалы Русской полярной экспедиции, геологические коллекции находятся где попало. Ему удалось собрать все уцелевшее и передать в Академию наук.
В октябре 1917 года папа был избран председателем Лахтинского волостного земства.
1918
Страна в глубоком кризисе. Парализована промышленность, разорено сельское хозяйство, голод, Гражданская война, бандитизм...
24 Письмо без даты. Написано на бланке: «Геологическая экспедиция по исследованию полуострова Муравьева-Амурского и прилежащих островов Доктора Естественных наук П.В. ф.-Виттенбург» // Личный архив Е.П. Виттенбург.
25 Ахматов Михаил Николаевич (1823—1891) — тайный советник, в 1885 завещал свой капитал в разных частях Академии наук, Казанскому университету и ссудно-сберегательной кассе для крестьян в с. Наголово и на содержание в этом селе школы и больницы. Премия имени Ахматова присуждалась, как обусловил завещатель, «за оригинальные сочинения по всем отраслям знаний и изящной литературы, писанные русскими подданными на русском языке». К 1909 именных премий в Академии наук было более 20 (Ф.Ф. Брандта, А. Бредихина, В.Я. Буняковского, К.М. Бэра, А.Ф. Кони, М. Ломоносова, М.Н. Майкова, К.Д. Ушинского и др.). — См.: СПб ФАРАН, ф. 2, оп. 1, д. 3, л. 54.
«Никогда еще со времени Государства Российского темнота и невежество широких масс не проявлялось в такой поражающей наготе, как во время Великой Революции, когда нация подводит итоги пережитого и производит себе самой переоценку. Поэтому лозунгом момента является "просвещение" — самое широкое, во всех видах. Не только школы, эти специальные органы Наркомпроса всех типов и ступеней, все учреждения отдают все силы просвещению, так как это единственный путь, который уведет нас от первобытной дикости и некультурности, к сознательному творчеству общественной жизни...»
Эти мысли, возможно, принадлежали В.И. Вернадскому и относятся к 1921 году26. Деятельность Академии и многих ее ученых демонстрировали именно такое понимание своих задач в новой обстановке. Вопреки тяжелым материальным условиям жизни ученые не только не потеряли интереса к своей деятельности, а, напротив, выступали инициаторами многих начинаний и с огромным энтузиазмом сплошь и рядом в них безвозмездно участвовали.
В феврале 1918 года при Коллегии единой трудовой школы Наркомпроса была учреждена Экскурсионная секция. Она была призвана организовать расширенное естественноисторическое и гуманитарное образование учащихся путем создания экскурсионных станций. В окрестностях Петрограда открылась сеть экскурсионных станций для углубленного изучения природы во всей ее «целокупности», а также истории своих мест. Фактическим руководителем Экскурсионной секции был профессор Иван Иванович Полянский при участии профессоров С.П. Кравкова, М.М. Римского-Корсакова, Б.А. Федченко и И.И. Михайлова. Консультантами стали профессора В.М. Шимкевич, В.Л. Комаров, Д.Н. Кайгородов, В.Я. Курбатов, Л.С. Берг и академик С.Ф. Ольденбург27.
Отец в это время занимался организацией в поселке Ольгино трудовой школы с политехническим уклоном и экскурсионной станции с музеем природы на Лахте в пустовавшем замке графа А.В. Стенбок-Фермора. Тогда же он был избран председателем объединенного школьного совета Сестрорецкого района. Одновременно с экскурсионным направлением в просветительной деятельности ученых в стране успешно развивалось краеведение. Широкие круги интеллигенции в центре и на местах, движимые заботой о сохранении культуры во всех ее проявлениях и охране природы, стали участниками этого общественного добровольного движения. Российские
26 Черновик служебной записки в Конференцию Академии наук (без подписи и даты)// СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 2, д. 9, л. 6.
27 Полянский И.И. Опыт новой организации экскурсионного дела в школах: Экскурсионная секция и экскурсионные станции // Экскурсионное дело (Пг). 1921. № 1. С. 1—20.
ученые в первые послереволюционные годы оказались в крайне тяжелом материальном положении. Кроме того, они постоянно ощущали недоверчивое и даже подозрительное отношение к себе новых властей.
Наряду с высокими материями Академии наук приходилось хлопотать о пайках ученым и служащим, о получении карточек на сахар и дрова, о защите имущества сотрудников от конфискации, а их самих от мобилизаций. В архиве Академии хранится такой документ: «Удостоверение в том, что П.В. Виттенбург состоит на службе по Комиссариату Народного просвещения в Российской Академии наук [Академия к этому времени была в ведении Наркомпроса. — Е.В.] в ученой должности и по условиям дела и рода занятий не подлежит привлечению к общественным трудовым повинностям, равно как и явке ко всеобщему воинскому обучению»28. Требовались «охранные грамоты» на обычное имущество ученого, что видно из справки от Академии наук о том, что пишущие машинки и бинокли, находящиеся в личном пользовании папы, принадлежат якобы государственному учреждению, в данном случае — Геологическому музею.
Характерно письмо Николая Ивановича Андрусова, обращенное частным порядком к главным хранителям Геологического музея:
«Отправляясь из Петрограда лишь по необходимости и в особенности по состоянию здоровья, я уезжаю, к сожалению, в такой момент, когда в Геологическом отделении нет ни одного хранителя. Хотя обстоятельства времени действительно таковы, что пребывание в Петрограде является тягостным и в материальном отношении мало выносимым, и такое положение Отделения является в высшей степени ненормальным и требует в будущем известных мер, которые бы обеспечивали наличность в Музее определенного % хранителей. Этого требуют: а) интересы самого Музея, который иногда может остаться без всякой защиты, б) интересы самих хранителей, для которых слишком продолжительное отсутствие из Петрограда может грозить им, если на это будет обращено внимание, потерей их места. <...> Продержавшись на этом посту в нынешнем году 10 месяцев, я дошел в настоящую минуту до крайнего физического истощения и душевной усталости, не говоря уже о части моей семьи — поэтому, несмотря на серьезный и даже опасный момент, который теперь переживает Геологический и Минералогический музей, повелительно требуется для меня продолжительный отпуск, после которого я, может быть, могу снова приняться за энергичную работу. В мое отсутствие тем из хранителей, которые соберутся, я надеюсь, хотя бы в малом числе,
28 СПб ФАРАН, ф. 4, оп. 4, д. 886, л. 76.
придется взять на себя сообща и коллегиально заботу о Музее, директором которого, в мое отсутствие, останется академик С.Ф. Ольденбург»29.
Далее Андрусов просит экономить газ и электричество, вечерами не работать из-за дороговизны энергоносителей.
Тем не менее жизнь в Геологическом музее продолжалась. «Тяжелые современные условия не давали возможности развить работы Геологического отделения, все же ученые хранители М.В. Баярунас, П.В. Виттенбург и И.П. Толмачев занимались обработкой научных коллекций и подготовкой их к выставке. <...> П.В. Виттенбургом была составлена коллекция для Вологодского учительского института и других учебных заведений», — отмечалось в отчете музея за 1918 год30. Летом трое старших ученых хранителей разъехались в длительные командировки за пределы Петрограда: И.П. Толмачев — в Западную Сибирь, И.П. Рачковский — в Урянхойский край, а О.О. Баклунд — в Финляндию и Швецию31. Папа оставался выполнять их обязанности один в течение двух лет, вплоть до 1920 года32. Помимо заведования делопроизводством Геологического и минералогического музея на него легло и временное заведование хозяйством музея.
Когда наступили летние месяцы, «академик Н.И. Андрусов попросил Отделение [физико-математическое, которому подчинялся Геологический музей. — Е.В.] командировать хранителя Геологического и Минералогического музея П.В. Виттенбурга в Архангельскую губернию, преимущественно на мурманское побережье (Кольский залив) для геологических исследований на срок с 15 июня по 25 июля 1918 года»33. Это была первая Лапландская экспедиция папы. Она началась позже и закончилась раньше намеченных сроков, так как в районе Мурмана шли военные действия. Экспедиция обследовала Кольский залив, остров Кильдин. Обнаружила залежи железной руды у мыса Мишукова. Папа предположил, что рудные залежи, скорее всего, простираются к Печенгскому заливу. Чтобы установить их промышленное значение, требовались специальные геологические изыскания, которые в том сезоне провести было невозможно. Не удалось даже доставить в Петроград полную коллекцию образцов. Тем не менее
29 Письмо Н.И. Андрусова от 25.07.1918 // СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 2, д. 6, л. 16.
30 СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 2, д. 87, л. 1.
31 И.П. Толмачев и И.П. Рачковский вернулись, а О.О. Баклунд остался в Швеции, потом жил в Германии.
32 Резолюция С.Ф. Ольденбурга на обращение А.П. Карпинского // СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 1, д. 4, л. 147.
33 Там же, л. 74.
попутно было обращено внимание на удобство расположения залежей железа для дальнейшей эксплуатации: береговые террасы и широкая долина пригодны для возведения построек, есть пресная вода и возможно получение электроэнергии из водопадов реки Лавны34.
Папу по-прежнему привлекала деятельность многих научных обществ, в которых встречались в диалоге исследователи разных школ и разных поколений, от приобщающихся к науке до уходящих на покой последних могикан. Но, может быть, еще более, чем интеллектуальную жизнь, он ценил то общественное мнение и тот моральный климат, хранителями которых являлись многие научные объединения. Несмотря на загруженность в этом тяжелом году папа вступил в Русское общество любителей мироведения35.
Возобновила свою работу постоянная Полярная комиссия. Ее председателем оставался А.П. Карпинский. Еще 25 января 1916 года комиссия предложила к изданию закон, «регулирующий плавания в полярных водах и предупреждающий возможность отправления плохо снаряженных экспедиций»36. Теперь, в феврале, на заседании комиссии обсуждалось в связи с окончанием Первой мировой войны проведение научных исследований Севера, и в частности экспедиции на Таймырский полуостров; расширение работ Мурманской биологической станции; издание трудов экспедиции Э.В. Толля по магнитным, метеорологическим и океанографическим наблюдениям; наконец, издание органа Полярной комиссии «Arktica», который должен был содержать извлечения из протоколов заседаний Комиссии, научные материалы, текущие известия, хронику и библиографию37. Однако следующее заседание Полярной комиссии состоялось только 26 сентября. Председатель комиссии А.П. Карпинский отметил, что «вследствие выезда из Петрограда половины членов комиссии <...> и отсутствия секретаря И.П. Толмачева, а также в силу обстоятельств переживаемого времени, заседания Постоянной Полярной комиссии в течение долгого времени не
34 Виттенбург П.В. Месторождение железной руды в районе Кольского залива //Труды Северной научно-промысловой экспедиции. Вып. 4. Пг., 1920. С. 2.
35 Русское Общество Любителей Мироведения (РОЛМ) организовал в 1905 Николай Александрович Морозов после освобождения из Шлиссельбургской крепости. С 1912 издавались «Известия РОЛМ», их преемник — журнал «Земля и Вселенная».
36 «Последующие события политического характера сделали невозможным осуществление этого намерения». — Протокол заседания Полярной комиссии от 25.01.1916 // СПб ФАРАН, ф. 75, оп. 1, д. 89, л. 14.
37 Однако осуществить эти планы стало возможным лишь через несколько лет, а издание журнала «Arktica», несмотря на многие попытки, так и не удалось.
было»38. На этом заседании секретарем временно был избран М.Е. Жданко. Обсуждались вопросы о возможности строительства железной дороги от низовий реки Оби до реки Печоры.
А что же мама? Конечно, она не оставалась в стороне. Еще до замужества, будучи студенткой, она мечтала работать в лепрозории, ей хотелось посвятить себя помощи несчастным. Теперь представилась такая возможность: профессор Даниил Кириллович Заболотный организовал в Петрограде противохолерные отряды. Ему нужны были молодые силы, и мама включилась в работу. В это же время в поселках Аахта и Ольгино вспыхнула эпидемия черной оспы. С помощью Евсея Наумовича Гуревича, владельца аптеки на Лахте, мама доставала бесплатные лекарства и сыворотки в институте имени Пастера и лечила больных, а особо тяжелых госпитализировала. Тогда не было поликлиник и участковых врачей. Эпидемия продолжалась вплоть до 1919 года. Черной оспой болело преимущественно бедное население Лахты и деревни Бобыльской, жившее в антисанитарных условиях. Кроме того, мама лечила детей в колонии беспризорных, так называемой Приморской трудовой колонии на Лахте.
Жизнь семьи осложнял голод. Около дома был участок земли, хотя и небольшой и заросший соснами, все же можно было на грядках кое-что вырастить. Детям было нужно молоко. Мама узнала, что на одной из дальних станций по Сестрорецкой железной дороге продается коза швейцарской породы. Нужно купить ее и привезти в Ольгино. Как? Пассажирским поездом ее не привезешь. Кое-как удалось втиснуться с козой в товарный вагон, набитый солдатами. Поезд шел в Петроград, а маме в Ольгино надо выходить. Выпрыгнуть из вагона с козой невозможно — нужны сходни, коза упирается. С 'большими трудностями маме все же удалось доставить безрогую козочку домой. Ее назвали Зорькой. Дети были обеспечены свежим молоком. Сперва Аннушка отказалась доить козу, пришлось учиться маме. Потом Аннушка привязалась к Зорьке и сама с удовольствием доила и ухаживала за нею.
Родители мамы, Анна Львовна и Иван Александрович, которые жили в Тайцах, решили окончательно переехать к дочери в Ольгино. Свою огромную библиотеку Иван Александрович взял с собой. Он собирал книги всю жизнь и хорошо знал литературу. Когда на подводе везли книги в Тайцах на вокзал, им повстречался отряд солдат. Они тут же реквизировали
38 Протокол заседания Полярной комиссии от 26.09.1918 // СПб ФАРАН, ф. 75. оп. 1, д. 33, л. 12.
библиотеку как несомненную собственность республики. Единственное, что дедушке удалось сохранить — это скрипку.
Наталия Ивановна, тетя Таля, тем временем без памяти увлеклась одним человеком и стремительно уехала с ним в Берлин, бросив мужа и сына. Как сложилась судьба Игоря Лунина, ее прежнего мужа, я не знаю. В нашей семье его любили. В начале 1920-х годов он жил в Риге. Больше о нем никто ничего не говорил, лишь в 1928 году мы получили фотографию Игоря с сыном Ростиславом (Славушкой), семнадцатилетним юношей. В это же время через Валериана Евгеньевича Ляхницкого, друга юности Зины и Тали, мы получили письмо и фото Наталии Ивановны из Парижа. Она писала о трудной жизни, которая выпала на ее долю во Франции. На фото мы увидели рядом с нею маленького сына Вольдемара Пузино, родившегося, по всей вероятности, в 1924 году.
1919
В Геологическом музее осталось совсем мало сотрудников, но все же велась обработка имеющихся коллекций. Папа изучал и систематизировал коллекции мезозоя, которыми впоследствии заведовал. Он также продолжал составлять естественноисторические коллекции для учебных целей.
1919 год был единственным годом в истории Академии наук, когда она не могла организовать ни одной экспедиции39. Страна была в огне Гражданской войны, многие территории оказались оккупированы иностранными войсками. По поручению Академии наук папа «производил совместно с управлением по изысканиям Петроградского порта геологические исследования побережья Невской губы от Лисьего Носа до Ораниенбаума»40.
В этом же году при Академии наук как специальное научное учреждение был создан Российский гидрологический институт41. Был проведен конкурс на замещение должности старшего гидролога — заведующего отделом изучения морфологии морских берегов. Папа принял участие в конкурсе и был избран на должность заведующего отделом, так как с 1916 года работал в Отделе торговых портов министерства торговли и промышленности, а затем в комиссариате того же профиля по изучению морских берегов Залива Петра Великого и Невской дельты.
39 Виттенбург П.В. Экспедиции Академии наук с 1920 по 1925 г. // Природа. 1925.№ 7-9. С. 222.
40 Отчет Геологического музея // СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 2, д. 7, л. 33.
41 Глушков В.Г. Российский Гидрологический институт / / Природа. 1925. № 7—8. С. 214.
Постоянная Полярная комиссия, несмотря на неполноту своего состава, провела шесть заседаний, на которых среди прочего обсуждался вопрос о необходимости ходатайства перед правительством об установлении четких границ в районе рек Печенги и Назреки в связи с притязаниями Финляндии в этом районе, о подготовке к навигации в Северных морях и о готовности причала в устье реки Дудинки, о целесообразности строительства железной дороги к будущим морским портам полярных морей страны. Представлялось неотложным исследование открытой в 1913 году Земли имени Николая II42, так как другие страны начали интересоваться ею. Стало очевидным, что Полярной комиссии надлежит объединить всю полярную деятельность Академии наук и вступить в контакт со всеми учреждениями, работающими на Севере.
Высшие географические курсы, на которых папа преподавал и был ученым секретарем, переросли в Географический институт43. Разместился он в здании под № 122 на набережной Мойки. Папа был избран профессором и читал курс «Геология и география Полярных стран», а затем и историю исследований Полярных стран. Один из студентов того времени, впоследствии доктор биологических наук, Роман Федорович Геккер, писал в своих воспоминаниях:
«Появление Павла Владимировича в качестве преподавателя в только что тогда созданном, единственном в своем роде — Географическом институте — и новая область знаний, которой он себя посвятил, полностью отвечали умонаклонению и запросам Павла Владимировича — его увлечению заманчивым новым, малоизвестным или полностью неизвестным, поэтому захватывающим и по большей частью красивым. Этим требованиям всецело отвечают география, географические исследования, и в особенности географическое изучение и освоение полярных стран. Поэтому Павел Владимирович избрал для себя это поле деятельности и создал в Географическом институте небольшую кафедру географии Полярных стран, на которой читал одноименный курс. На лекциях Павел Владимирович уделял преимущественное внимание истории открытий и изучения полярных стран, которая, как известно, вершилась мужественными личностями, полна эпизодами преодоления больших трудностей, героизма и романтики. На своих лекциях Павел Владимирович говорил, что на севере исследователь заражается "микробом севера" и он сам был им заражен»44.
42 Земля Николая II открыта в 1913 г. экспедицией Б.А. Вилькицкого, переименована в 1924 г. в Северную землю.
43 Географические курсы (1916—1919), Географический институт (1919—1925), Географический факультет ЛГУ с 1925 г.
44 Геккер Р.Ф. О Павле Владимировиче Виттенбурге. 10.08.1966. Рукопись. С. 1// Личный архив Е.П. Виттенбург.
В 1919 году в Ольгино папа закончил организацию полной средней школы в большом доме, принадлежавшем в прошлом шведу Русвурму. Школа открылась, оборудованная мастерскими по обработке дерева и металла, а также электротехнической лабораторией. Преподавательский состав сложился из местной интеллигенции. Мама стала врачом в этой школе, лечила детей и взрослых в Ольгино.
19 мая торжественно, в присутствии представителей Наркомпроса, Сестрорецкого и Лахтинского советов и местного населения, в бывшем замке графа Стенбок-Фермора была открыта Лахтинская экскурсионная станция и музей природы Северного побережья Невской губы. Организаторы станции, и прежде всего папа, ставили перед собой задачу исследовать окружающую природу, оставшуюся малоизученной, с одной стороны, а с другой — привлечь учащуюся молодежь к наблюдениям над природой и ознакомить ее с методами научной работы. Основные приемы обучения — экскурсии и кружковые занятия. При станции были устроены лаборатории, оборудованы террариумы, помещения для просушки гербария и тому подобное, а также столовая, спальни для приезжающих экскурсантов и помещение для персонала. Вокруг замка развели огороды, чтобы было чем кормить приезжих.
На следующий день после открытия станции, 20 мая, папа был арестован военным комиссариатом Сестрорецкого района, но уже 22 мая освобожден по ходатайству Отдела ученых учреждений и высших учебных заведений. 26 мая он опять был арестован, на этот раз по распоряжению ЧК. Отдел ученых учреждений 30 июня снова ходатайствовал о его освобождении45, и вскоре папа был освобожден, никаких обвинений выдвинуто не было.
За короткий срок открыть станцию и основать при ней музей природы стало возможно при поддержке местного населения и благодаря деятельному, абсолютно бескорыстному участию петроградских ученых, папиных коллег по Академии наук. Профессора А.А. Бялыницкий-Бируля, Д.Н. Кайгородов, Н.В. Шипчинский, Р.Ю. Рожвиц и Б.Ф. Земляков, а также многие другие проводили исследования животного и растительного мира, почвы, геологии и археологии окружающих мест. Некоторые из них жили подолгу в замке, тем самым им было легче «переносить невзгоды внешней жизни»46, как деликатно выразился папа. Академик С.Ф. Платонов занимался на станции и прочел курс истории колонизации Севера. Папа привлек к работе на станции и в музее студенток Географического института Таисию Ефимову и Ольгу Досманову, которые вскоре вошли в штат.
45 Ходатайство ОУУиВУЗ в ЧК по революционной охране Карельского участка от 30.06.1919 // ЦГА СПб., ф. 2555, оп. 1, д. 35, л. 28.
46 Северное побережье Невской губы в свете естествознания и истории.
Альберт Николаевич Бенуа, академик, живописец, архитектор, также бескорыстно принимал участие в создании музея.
«С Альбертом Николаевичем я познакомился в 1918 году, когда он заведовал Музеем прикладного искусства Комиссариата торговли и промышленности, который размещался на бывшей Морской улице под аркой Главного штаба, — вспоминал отец. — Я в то время работал в Геологическом музее Академии наук. Кроме того, по общественной линии, я занимался организацией трудовой школы в Ольгино под Ленинградом, где в то время жил в своей даче. Мне приходилось получать некоторые материалы для школы из Музея прикладного искусства.
Так состоялось наше знакомство. Обаятельная личность Альберта Николаевича не могла не привлечь к себе. Вскоре он стал частым гостем моей семьи и жил подолгу у меня дома в Ольгино по Полевой улице № 5. В это же время я был занят организацией Экскурсионной станции при отделе народного образования города Ленинграда (тогда Петрограда) на станции Лахта. Весной 1919 года при ней был основан возглавляемый мною Музей природы Северного побережья Невской губы. Альберт Николаевич принимал деятельное участие в оформлении музея.
А.Н. Бенуа написал акварель-панно, размером 2 на 1,5 метра, на фоне которой проводились экскурсии по геоморфологии Северного побережья Невской губы. Картина передает взморье у Экскурсионной станции. Эрратический валун рельефно выступает на фоне размытых моренных отложений, характеризуя ландшафт ледникового периода и размывающийся низменный берег, где сосны с обнаженной корневой системой периодически подмываются нагонными водами Невской губы при юго-западном ветре. Тут же вырисовывается засохшая "Петровская" сосна и братская могила русских солдат, погибших в Русско-шведской войне, на фоне более молодого соснового леса. Налево гладь Невской губы при свете вечерней зари дает в великолепном сочетании гамму красок, чем так известен наш талантливый акварелист А.Н. Бенуа»47.
Далее папа перечислил остальные картины, написанные для лахтинского музея48. Интересно, что для папы все они, помимо художественного значения, имели ценность как иллюстрация тех или иных природных явлений.
47 Письмо П.В. Виттенбурга в Словарную группу Института теории и истории искусства Академии художеств СССР от 25.08.1965 // Личный архив Е.П. Витгенбург.
48 Картины, написанные А.Н. Бенуа для Лахтинского музея — «Конная Лахта. Петровский прудя, «Березовая аллея от Лахтинского шоссе к заливу», «Стоянка доисторического человека на побережье Невской губы», диорама «Перспективное изображение Северного берега Невской губы», диорама «Вия взморья по направлению к северной Лахтинской отмели», «Семь лугов», «Северное побережье Невской губы», — утрачены. Рисунок « Терраса Древнего Балтийского моря на углу Полевой и Юнтоловской улиц» передан в отдел первобытного искусства Эрмитажа.
Экскурсионная станция и музей были любимым детищем папы. Его организаторские и педагогические способности проявились здесь в полной мере.
1920
В этом году папа провел вторую Лапландскую экспедицию на север Мурмана. Она оказалась возможной благодаря участию Академии в работе нового учреждения ВСНХ — Северной научно-промысловой экспедиции (Севэкспедиции).
Полярная комиссия Академии наук в январе подготовила план своей работы. Были определены ближайшие задачи ее деятельности:
«1. Составить общую сводку всего того, что сделано в области изучения Полярных стран и приполярных областей России до последнего времени.
2. Разработать общий план программы исследований указанных областей. В качестве первоочередной задачи подготовить экспедиции:
а) для подробного научно-промыслового исследования морей Баренцева и Карского, их побережий и прилегаемых к ним районов;
б) для исследования Земли Николая II.
3. Разработать план экономической политики по отношению к инородцам Севера и устроения их быта с целью предотвращения их вымирания и создания для них здоровых условий жизни.
4. Принять необходимые меры к осуществлению издания органа Полярной комиссии «Arktica»»49
Тем временем правительство искало путей организации снабжения армии и флота продовольствием и обратило свое внимание на Север. Президиум ВСНХ 4 марта 1920 года вынес постановление: «В целях научно-практических исследований и попутного использования естественных производительных сил, по преимуществу звериных, рыбных промыслов и оленеводства на Крайнем Севере, учредить при Научно-техническом отделе Выссовнархоза Северную научно-промысловую экспедицию»50. Экспедиция
49 Записка Председателю Полярной комиссии Кулика, Керцелли и др. от 31.01.1920 // СПб ФАРАН, ф. 75, оп. 1, д. 33, л. 14.
50 Белов М.И. Советское арктическое мореплавание. 1917—1932 гг. (История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 3). Л., 1959. С. 125.
получила государственные ассигнования (100 миллионов рублей), право пользования морскими судами и другие привилегии. Севэкспедиция должна была координировать всю работу, ведущуюся на Севере, ей было разрешено организовать горно-геологические, почвенно-ботанические, гидрологические и другие отряды, начальником был назначен Рудольф Лазаревич Самойлович. Таким образом, планы Севэкспедиции в какой-то мере совпали с направлением деятельности Полярной комиссии Академии наук. Ученые Академии наук приняли участие в организации научной деятельности Севэкспедиции.
Был создан ученый совет Севэкспедиции под председательством А.Е. Ферсмана и при секретаре М.Е. Жданко. Членами совета стали А.П. Карпинский, А.А. Бялыницкий-Бируля, К.М. Дерюгин, Л.С. Берг, Н.М. Книпович и другие, в том числе и папа. Вот тогда и представилась возможность Академии наук отправить несколько отрядов ученых на Кольский полуостров, Северный Урал и Печору51. Геологическому отряду под руководством папы надлежало исследовать полярную часть Кольского полуострова. В районе Мурмана необходимо было продолжить изучение железной руды, начатое в 1918 году. Подготовка к экспедиции велась с мая, но выехать на место удалось лишь 6 августа «ввиду сложности снаряжения в настоящих условиях»52. Отряд состоял из восьми человек: начальник — папа, заместитель начальника А.С. Кузнецов, помощник по геологической части Д.Н. Алякринский (студент Географического института), инженер Н.М. Кузьмина, коллектор и секретарь М.А. Лаврова, художник А.Н. Бенуа, кухарка Е.С. Воробьева, завхоз А.А. Куклина.
Принять участие в экспедиции папа предложил Альберту Николаевичу. В свои 68 лет академик живописи с удовольствием собрался в столь необычное путешествие. Мурманская железная дорога предоставила отряду теплушку — товарный вагон. Члены экспедиции теплушку оборудовали с максимально возможным комфортом — печуркой и всем необходимым для геологической работы и работы художника. Через две недели пути экспедиция прибыла в Мурманск. А.А. Куклина занялась добыванием продовольствия, так как из Петрограда взять было нечего. Для работы получили плоскодонную моторную лодку. На буксир взяли другую лодку с экспедиционным снаряжением и частью личного состава. Исследовать надлежало южную часть Кольского залива и реку Тулому с ее порогами и водопадами до Нотозера. Затем отряд приступил к исследованию медного железняка
51 Отчет Геологического музея // СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 2, д. 8, л. 40.
52 Бюллетень Географического института. 1921. Март. № 1. С. 8.
в районе массива Пинагория и Мишукова. В результате был составлен продольный профиль и геологическая карта этого района.
По возвращению в Мурманск экспедиции был предоставлен траулер под № 21 для исследования побережья полуострова Рыбачьего и дальше на запад, до Печенги. Осмотрев на полуострове Рыбачьем ряд бухт, доступных для траулера, папа задумал исследовать губу Долгая Щель. Попасть туда можно было только на шлюпке. 28 сентября он вместе с Марией Алексеевной Лавровой высадился в губе Долгая Щель, где были проведены исследования по геологии и минералогии, особое внимание было обращено на выходы серебросвинцовой руды. Тем временем поднялся шторм. Поспешили вернуться на корабль.
«По оплошности вахтенного на траулере, приближающаяся лодка не была замечена, и судно пошло отстаиваться от поднявшегося шторма в соседнюю бухту Базарную. Таким образом, лодка с одним гребцом и рулевым была предоставлена все возрастающим волнам и юго-восточному ветру, который уносил ее в открытое море»53. «...После девяти часов усиленной гребли в бурную и темную ночь счастливо выкинулись на берег губы Малой Волоковой [как установили впоследствии] голодные и мокрые. Только через двое суток добрались до становища Земляного, где нашли приют, подкрепились пищей и отдохнули. Из Земляного отправились на боте в Вайда-губу, куда пришли благополучно на шестой день после того, как вышли из губы Долгая Щель. Тем временем траулер усиленно искал начальника экспедиции и его спутницу по всему западному побережью Рыбачьего полуострова и, получив, наконец, телеграмму, что они в Вайда-губе, пришел туда и принял их на борт»54.
Пока папа добирался до становища Земляного, Академия наук получила известие, что начальник геологического отряда пропал без вести, о чем и сообщили маме в Ольгино. Можно себе представить, что пережила мама! Она с детьми и Аннушкой оставалась совсем одна в недостроенном доме. Было начало октября, темными вечерами какие-то оборванцы разжигали костер у самого нашего забора, выламывая для этого штакетник. Маму беспокоило, как бы огонь не подобрался к дому по остаткам строительного мусора и сухой траве. На случай нападения этих проходимцев мама и Аннушка условились между собой, что будут громко кричать: «Иван, ружье!» Но, увы, никакого Ивана и никакого ружья в доме не было.
53 Материалы для краткого отчета к выставке Севэкспедиции // СПб ФАРАН, ф. 75, оп. 1, д. 385, л. 3.
54 Протокол расширенного Заседания Ученого Совета и Президиума Севэкспедиции от 1.11.1920 // СПб ФАРАН, ф. 75, оп. 7, д. 17, л. 64.
После воссоединения членов экспедиции судно направилось в Мурманск, где им разрешили посетить город Киркинес в Норвегии. Папа хотел познакомиться на месте с разработками железно-рудных залежей и сравнить их с залежами в районе Пинагория и Мишукова.
Рассказ об экспедиции проходил в расширенном заседании ученого совета Севэкспедиции 1 ноября 1920 года под председательством А.Е. Ферсмана и при секретаре М.Е. Жданко в присутствии многих ученых. Всего было 28 человек.
Папа представил официальный отчет:
«Отряд вышел туда на предоставленном в его распоряжение пароходе "Руслан'. <...> подробно ознакомились с выработкой и обработкой железной руды в окрестностях этого маленького благоустроенного городка. Администрация железоделательного завода в Киркинесе оказала отряду полное внимание и показала все, что заслуживает осмотра. <...> Что касается самого месторождения, очень богатого рудой, то оно вполне аналогично месторождениям в Кольском заливе у мысов Пинагория и Мишукова, причем и простирание руды, так же как и там направлено с северо-запада на юго-восток.
<...> Затем Павел Владимирович Виттенбург поделился с собранием своими впечатлениями из командировки в Киркинес, которая доставила и ему лично и всем его сотрудникам много отрадных часов. Хлопот с местной властью нет. Дали представиться. На пароходе — Ч К, досмотр, арест55... Съехали на берег в Киркинес. Свободная торговля, булочные, рестораны, цены невеликие. Визит к старшему инженеру, вечером осмотр завода, но до этого гуляли по городу. Завод вечером освещен. Руда берется взрывами. Руда идет в дробилку, потом электромойка, сушка, весы, пароход. Все идет аккуратно, чисто. С работы в Рабочий дом... Встреча с известными геологами, старыми приятелями. В Рабочем доме устроили в честь нас банкет. Шоколад, сласти, виноград... Обмены любезностями... Товары для торговли готовы, но нет ответа от правительства. В Норвегии жизнь идет полным ходом. Свободная торговля, нет заботы о завтрашнем дне. Заключительный аккорд был восхитительный: подарки — сахар и другие продукты. Прием вообще очень любезный.
Пришли в Мурманск. Опять обыск. Разрешили взять с собой все. Представитель особого отдела просит изложить все письменно. Местные
55 Возможно, таким образом был обставлен таможенный досмотр.
власти относились вообще хорошо, не требовали канцелярщину. Власти дали теплушку в хорошем виде, часто посещали вагон. Бенуа дарил свои акварели. После трудной зимы в Петрограде экспедиция была отдыхом.
<...> Собрание благодарит Павла Владимировича за его интересный доклад и просит затем А.Н. Бенуа ознакомить с его картинами, рисующие как посещенные места, так и быт и условия работы отряда.
А.Н. Бенуа, переходя от картины к картине, провел собрание по тем местам, где работал и останавливался геологический отряд, и своим живым рассказом доставил присутствующим большое удовольствие. Его рассказ показал, что теплушка, в которой путешествовал отряд, была мастерской, где шла успешно работа с утра до ночи, а зачастую и в светлые северные ночи»56.
Во время экспедиции «собраны были обширные коллекции по физической геологии, по петрографии Западного Мурмана и по имеющей большой научный интерес фауне палеозойских кораллов острова Кильдина»57. Научную обработку материалов вели несколько ученых — Н.Н. Яковлев, И.А. Литгольм, А.А. Полканов, Н.И. Свитальский. Папа и М.А. Лаврова работали над геологическим описанием района работ экспедиции.
Альберт Николаевич за время экспедиции написал 76 акварелей. В январе 1921 года он выставил их в Доме искусств. В Географическом институте была развернута экспозиция в виде наиболее характерных образцов из геологической и палеонтологической коллекции и также несколько мурманских пейзажей А.Н. Бенуа58. В домашнем архиве сохранился альбом фотографий этой экспедиции.
В Геологическом музее папа по-прежнему исполнял обязанности отсутствовавших старших ученых хранителей, поэтому А.П. Карпинский, совмещавший в это время должность президента Академии наук и директора Геологического и минералогического музея, обратился к правлению Академии с просьбой утвердить папу с 1 января 1920 года временно в должности старшего ученого хранителя. На следующий год папу утвердили в этой должности окончательно.
56 Протокол расширенного Заседания Ученого совета и Президиума Севэкспедиции от 1.11.1920 // СПб ФАРАН, ф. 75, оп. 7, д. 17, л. 64-66.
57 Результаты работ Мурманского геологического отряда проф. П.В. Виттенбурга// Бюллетень Географического института. 1921. Март. № 1. С. 8.
58 Там же.
Помимо музейной работы, папа все еще должен был заниматься делопроизводством и выполнять чисто хозяйственные обязанности. В архиве Академии наук сохранились его многочисленные расписки, удостоверяющие выполнение тех или иных хозяйственных работ: пилка и доставка дров, просьбы о выдаче мыла со склада Совнархоза для мытья коллекций, а также веревок, красок, печных дверок и т.д. О хозяйственных проблемах того времени можно судить, например, по такому документу: «С 20 марта 1919 года каждую из топившихся печей полагается топить два (2) раза в неделю и на нее выдается вязанка дров в неделю»59.
В конце года вернулся в Петроград с Украины Иван Петрович Рач-ковский и «принял заведование петрографическим отделением и принял в свои руки ведение хозяйства музея от П.В. Виттенбурга»60. К этому времени заведование канцелярией музея поручили Т.П. Дон. Эта аккуратная и исполнительная женщина все время работы папы в Академии была ему помощницей в делах делопроизводства. Уже много позже, в 1960-х годах, они снова встретились.
Дома, после возвращения из экспедиции, папа рассказал, как трудно пришлось на полуострове Рыбачьем. Двое суток они шли вдоль берега неизвестно куда, надеясь встретить следы человека. Речки, скалистые бухты, сон под открытым небом в конце сентября... Питались только яйцами птиц. Достигли становища Земляного совершенно измученными. Папа задумал найти ту шлюпку, которая спасла им жизнь во время экспедиции. Это была особая шлюпка: у нее были борта, обитые пробкой, и высокий киль. Она не могла ни утонуть, ни перевернуться. Несколько лет спустя папе удалось найти ее. Лодку привезли в Ольгино и поставили в специально построенный для нее сарай.
В 1920 году дедушка Иван Александрович и бабушка Анна Львовна уехали в Берлин, куда их настойчиво звала старшая дочь, Наталия Ивановна. Горестно сложился остаток их жизни. В Берлине они ничего хорошего не нашли. Дедушка вскоре заболел и умер в 1921 году, а бабушка не смогла жить в тоске и одиночестве и в 1922 году покончила с собой на могиле мужа (повесилась на кресте).
Глава III Время полярных стран. 1921—1926
Глава III
Время полярных стран. 1921—1926
1921 год начался с очередного ареста папы1. Его взяли в марте в качестве заложника (!) в связи с Кронштадтским восстанием. Сколько продолжался арест — я не знаю, по-видимому, недолго. Мама в поисках заступничества обратилась к Максиму Горькому, так как он в это время пытался помогать ученым. Горький жил в Петрограде на Кронверкском проспекте. Принял ли он участие в судьбе папы — осталось неизвестным. Много лет спустя мама вспоминала, что ее поразила необъятность квартиры писателя, представлявшей собою соединение двух барских квартир.
Работа музея оживилась в связи с возвращением в Петроград значительного числа штатных сотрудников из Сибири, Кавказа и других областей России. В.И. Вернадский был вновь избран директором Геологического и минералогического музея. В середине года после многолетних хлопот Академии удалось получить право на владение зданием по Тучковой набережной, дом 22, «столь необходимого для правильной деятельности Музея, для превращения его в Национальный геолого-палеонтологический и минералогический музей»3, как мечтал Ф.Н. Чернышев.
Папе как старшему ученому хранителю было поручено заведование отделом мезозоя музея. Предстояло готовить фонды к переезду в новое здание. В отчете за 1921 год читаем:
1 Северное побережье Невской губы в свете естествознания и истории. Сб. 1. Пг., 1923. С. 54.
2 Складские помещения фондовой биржи, в настоящее время — Институт докембрия.
3 Отчет Геологического и минералогического музея за 1921 // СПб ФАР АН, ф. 128, оп. 2, д. 87, л. 19.
«Возрождение ученой и учебной жизни России за отчетный год вызвало также усиленную работу ученого персонала музея по снаряжению вновь открытых высших учебных заведений палеонтологическими коллекциями и собраниями по исторической геологии, которые выделялись из дублетных коллекций. Этой работой руководил П.В. Виттенбург»4. И далее: «Как новый отдел и новую часть музея, нужно отметить отдел негативов. По инициативе П.В. Виттенбурга в музее собираются негативы экспедиций, которые хранятся в специальных шкафах и особо каталогизируются, при этом к каждой коллекции составляются альбомы. Так составлены собрания негативов и фотографий экспедиции Ф.Н. Чернышева на архипелаг Шпицберген, В.И. Воробьева — Кавказ, С.А. Яковлева — Черноморское побережье. Для заведования Отделом негативов приглашена М.А. Лаврова»5.
Сергей Федорович Ольденбург, непременный секретарь в отчете Академии наук за этот год писал:
«Холод, недостаток света, недостаток во всех рабочих материалах, недостаток в книгах, отсутствие или невероятное запаздывание кредитов, постоянно тормозящее работу, бесконечное бумажное делопроизводство, с невероятным количеством анкет, отрывающих от настоящей работы, от дела, болезни и смерти работников, вообще исключительная трудность жизненных условий, вот картина, которую рисует каждый отчет. <...> Казалось бы, о какой серьезной и плодотворной работе можно здесь говорить? Это было бы так, если бы мы не знали, что ученый больше всего любит науку и для нее готов на все, на какие угодно лишения, преодоление всех трудностей. Поэтому мы и можем говорить о сделанной и делающейся работе, и даже, несмотря на почти катастрофические трудности, можем говорить о несомненных успехах и улучшениях сравнительно с прошлым годом»6.
Приближавшийся летний сезон знаменовал собою подготовку к новым экспедициям. Папа предполагал продолжить обследование геологического строения остатков континента Арктис, начатое в 1920 году. Теперь следовало осмотреть северное побережье Кольского и Канина полуостровов, а в следующем, 1922 году, направиться в пределы той части Баренцева моря, которая омывает берега Новой Земли.
4 Отчет Геологического и Минералогического музея за 1921 // СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 2, д. 87, л. 20.
5 Там же, л. 8.
6 Ольденбург С.Ф. Российская Академия наук в 1921 г. Пг., 1921. С. 5.
Экспедиция готовилась первоначально Академией наук совместно с Севэкспедицией. В состав ее входило двенадцать человек, в том числе студенты Географического института, художник (А.Н. Бенуа) и кинооператор-фотограф (Ф.К. Вериго-Доровский). «В мае месяце возникла необходимость осведомить общественные организации города Архангельска о целях и задачах Северной научно-промысловой экспедиции и о работах Мурманского Кольско-Канинского геологических отрядов»7. Для этой цели в Архангельск поехали Р.Л. Самойлович, папа и А.Н. Бенуа. Папа прочел два доклада: «Геологическое исследование Севера» и «Проблемы геологических работ в прошлом и настоящем».
«Доклады были иллюстрированы художественными произведениями академика А.Н. Бенуа. Р.Л. Самойлович ознакомил власти Архангельска с целями и задачами Северной научно-промысловой экспедиции. <...> Профессор П.В. Виттенбург и горный инженер Р.Л. Самойлович взяли на себя осуществить экспедицию на Новую Землю в 1921 году. Горный инженер Р.Л. Самойлович взял на себя часть горноразведовательную, а геологическую часть исследований и научное освещение вопросов, сопряженных с ним, выпала на долю профессора П.В. Виттенбурга, на что он был уполномочен также Академией наук, Российским Гидрологическим и Географическим институтами»8.
В результате геологический отряд на Новую Землю сложился из части сотрудников Кольско-Канинской экспедиции. Альберт Николаевич Бенуа на Новую Землю не поехал. Начальником геологического отряда был папа, а начальником всей экспедиции — Р.Л. Самойлович9.
«8 августа все погрузились на парусно-моторную шхуну «Шарлотту», разместившись в количестве 11 человек в трюме, который был приспособлен для жилья нашей экспедиции, — записал папа в дневнике. — Судно "Шарлотта" до 120 т емкостью с мотором в 40 л.с., имея полную парусную оснастку, должно быть вполне пригодно для экспедиционных целей, но оно запущено и нуждается в основательном ремонте такелажа, что делает его в настоящий момент не достаточно пригодным для путешествия в Полярных странах. 15 августа, после того как мы
7 Виттенбург П.В. Кольско-Канинская экспедиция (деловая записка) // СПб ФАРАН, . 75, оп. 1, д. 385, л. 7.
8 Там же, л. 8.
9 Работы отрядов Севэкспедиции в 1921 г. Предварительный отчет. Труды Северной научно-промысловой экспедиции. Вып. 14. Пг., 1922. С. 11.
брали ряд галсов по горлу Белого моря, мы обогнули Канин Нос и 17 августа вечером пришли на Новую Землю и бросили якорь у становища Малые Кармакулы»10. Геологическому обследованию подвергся как Южный остров Новой Земли, так и часть Северного со стороны Баренцева моря, включая губу Сульменевую. «Во время работы экспедицией собран богатый материал по морфологии морских берегов и их строению, большие палеонтологические сборы по палеозою, значительно дополняющие таковые, собранные экспедицией академика Ф.Н. Чернышева, затем собран исключительный материал по почвообразовательным процессам полярной области и обильный гербарии. Прекрасная погода благоприятствовала фотографической работе, вследствие чего удалось сделать более 300 фотоснимков и весь ход экспедиции снять киноаппаратом, лентою 250 метров длины; во время этой экспедиции производились метеорологические наблюдения и измерения температуры поверхностного слоя воды»11.
Работы продолжались до октября месяца. Геологическое строение Новой Земли оказалось столь интересным, что папа счел необходимым продолжить планомерное ее исследование в ближайшие же годы. С этой целью при Полярной комиссии Академии была создана Новоземельская подкомиссия, но об этом позже.
Фотографии экспедиции составили специальный альбом, который хранится в архиве Российского Географического общества12. У нас в семейном альбоме сохранилась фотография Ш.К. Вериго-Доровского, подаренная М.М. Ермолаевым, на ней видим папу, который рассматривает обнажения, открывшие древние почвы под мореной отступившего ледника. Одна из фотографий этой экспедиции послужила сюжетом для экслибриса папиной библиотеки: борт шхуны, край паруса и чайка над морем. Кто автор рисунка экслибриса — не знаю, скорее всего Б. Земляков или Н. Пинегин. Типографским методом он был напечатан много позже в двух форматах — малом и большом.
Перед отъездом в экспедицию папа пригласил Ф.К. Вериго-Доровского в Ольгино сделать несколько снимков для семейного альбома. Эти фотографии запечатлели нашу семью в саду, на крыльце, детей на балконе и в детской. Мама в длинной юбке, блузке с галстуком, папа в костюме с жилетом, девочки в прелестных платьицах, обшитых кружевом и с бантами
10 Виттенбург П.В. Новая Земля 1921. Дневник // Личный архив Е.П. Витгенбург.
11 Виттенбург П.В. Кольско-Канинская и Новоземельская экспедиция 1921 года// Бюллетень Географического института. 1922. № 5—6. С. 4.
12 АРГО, ф. 123.
в волосах. Платьица и даже туфли Ники — это изделия маминых рук. Туфли связаны из веревки, подошва — пришитые плотные подметки. Через плечо Люси (ей 6 лет) висит мешочек с аппликацией — для носового платочка.
Поселок Ольгино с начала 1920-х понемножку оживал, чему, возможно, способствовало начало НЭПа. На лето приезжали из Петрограда дачники. Многие из них до революции любили отдыхать в Финляндии — теперь недоступной. Интеллигенция, которой было не так уж много, естественно, знакомилась между собой. Недалеко от нашего дома, по Полевой улице, снимала дачу писательница Татьяна Львовна Щепкина-Куперник со своей приятельницей москвичкой-художницей Анной Алексеевной Геннерт. Татьяна Львовна потом рассказывала, что обратила внимание на женский голос, который спокойно звал: «Дети, идите обедать», тогда как всюду детей уже называли ребятами. Вскоре мама с ними познакомилась, и они обе, а также муж Татьяны Львовны — адвокат Николай Борисович Полынов — стали друзьями нашей семьи до конца своих дней. «Ваша семья дала мне очень много и навсегда осталась в моих воспоминаниях примером настоящей (подчеркнуто автором письма. — Е.В.) семьи. Я любила всех вас девочек, а у Николая Борисовича любимицей была ты»13, — так много лет спустя Татьяна Львовна писала в письме ко мне.
Альберт Николаевич, наверное именно он, пригласил к нам свою племянницу Зинаиду Евгеньевну Серебрякову. Она написала пастелью два портрета — Ники и Люси. Особенно хорош был портрет Люси. К великому сожалению, оба портрета погибли: их стерла сырой тряпкой прислуга, пожелав «освежить». Летние месяцы в Ольгино проводил и профессор Академии художеств Михаил Васильевич Матюшин. Его живой темперамент, разносторонность интересов, оригинальность ума привлекали к нему внимание окружающих. Он часто бывал у нас в семье, играл на своей самодельной скрипке в форме прямоугольника. Дома у нас его называли просто Михвасом.
В эти годы многие художники, свободные от каких-либо традиций в искусстве и горящие в душе пламенем революции, ниспровержения всего и вся, образовывали множество различных группировок. Специального образования не требовалось, свобода творчества выливалась в деформацию образных средств, создание ребусов. Главное — поразить зрителя своей оригинальностью. Для этого использовались разные предметы, такие как пружины, болты, гайки и тому подобное. Их произведения часто вызывали
13 Из письма Т.Л. Щепкиной-Куперник к Е.П. Витгенбург от 03.09.1943 // РО ИРЛИ РАН, Р-1, оп. 37, ед. хр. 23-27.
недоумение и споры. В Петрограде объединения художников имели весьма оригинальные названия: «Всёки», «Поствсёки», «Ничвоки», «Пост-ничевока». Мама любила ходить на эти выставки с Михаилом Васильевичем, который охотно расшифровывал супрематические построения и разъяснял замыслы авторов.
Между Альбертом Николаевичем и Михаилом Васильевичем, видимо, бывали споры на художественные темы. Один — убежденный реалист, другой — сторонник экспериментального искусства. Сохранилась акварель-пародия Альберта Николаевича на систему «цветовых контрастов» Михаила Васильевича: на небольшом листе ватмана — ряд горизонтальных цветовых полос — прием, часто применявшийся Матюшиным, но реалист Бенуа не удержался, чтобы по сторонам не нарисовать по пальме14.
У нас часто бывал профессор, орнитолог и фенолог, Дмитрий Никифорович Кайгородов, инициатор и поборник изучения природы в ее «целокупности», то есть среди самой природы путем наблюдений и экскурсий. Дмитрий Никифорович осень 1920 и зиму 1921 пережил на Лахтинской станции. Там он плодотворно работал, а в свободное время с удовольствием посещал нас. Папа и мама его очень любили.
1922
Мое появление на свет произошло в начале этого года в Петрограде в клинике Вайдемана. Папа был очень занят в Академии наук (приехали какие-то геологи из-за границы), ему было некогда привезти домой маму с новорожденной: пришлось подождать. Потом мама не раз подтрунивала над папой на эту тему, а он отшучивался. Всех детей в семье крестили по православному обряду. С моим крещением оказались некоторые затруднения. Сначала родители не могли остановиться на каком-либо имени: Агата — в школе будут дразнить Агашкой, — потом еще какое-то имя обсуждалось, затем решили назвать Виргинией. Почему-то это имя в то время не казалось претенциозным. Но священник нашей Лахтинской церкви15, справившись в святцах, сказал, что такого православного имени нет. Пришлось наречь Евгенией. Моими восприемниками от купели были Ника и Альберт Николаевич. Едва я начала говорить, то стала сама себя называть Гулей. И так это детское нелепое имя осталось со мной на всю жизнь.
14 Акварель хранится в Музее семьи Бенуа в Петергофе.
15 Церковь Св. апостола Петра, деревянная (Лахтинский пр., 94). Построена в 1893—1894, архитектор В.И. Шауб. В настоящее время действующая (открыта вновь в 1991 г.).
Из моего раннего детства известно несколько курьезных ситуаций. Однажды в дождливый летний день Татьяна Львовна Щепкина-Куперник подходила к парадному крыльцу дома. Из распахнутой двери доносились звуки фортепиано. Перед крыльцом в саду стояла детская коляска, уже насквозь промокшая. Татьяна Львовна заглянула в нее и увидела там спящего младенца: мама забыла обо мне... В другой раз, уже наверное на следующий год, приехала Татьяна Львовна тоже днем, вошла в столовую (вход от парадной двери вел через маленькую переднюю прямо в столовую) и чуть было не споткнулась о какой-то странный предмет. Будучи сильно близорукой, она раскрыла свой лорнет и увидела опрокинутый детский стульчик с перевернутым горшком, а под ним спящего ребенка. Из соседней комнаты — гостиной — неслись звуки фортепиано.
Музыка постоянно звучала в нашем доме. Альберт Николаевич прекрасно импровизировал, он мог играть на рояле подолгу, не отрываясь, тут же сочиняя, но никогда не записывая. Во время музицирования он любил меня сажать себе на колени, играть и что-нибудь рассказывать.
Наш сад перед домом был очень красив, Альберт Николаевич запечатлел его на одной из акварелей.
Летом в Ольгино жил Корней Иванович Чуковский, который бывал у нас и даже бегал с мамой наперегонки. Мама познакомила Корнея Ивановича с Татьяной Львовной, и они оба участвовали в концерте «Утро для маленьких». В концерте для детей, где исполнялись различные вокальные и инструментальные произведения, принимал участие и Михаил Васильевич Матюшин — он играл на скрипке, Татьяна Львовна читала стихи. Это нашло отражение в дневнике Корнея Ивановича: «1 сентября. Ольгино. <...> Детское утро в Ольгино — вышло не слишком удачно. Щепкина-Куперник читала долго и нудно. Романсы пелись самые неподходящие. Должно быть, поэтому мой "Тараканище" имел наибольший успех»16. «Утро...», как и два других публичных концерта, были организованы папой с целью получения средств на ремонт здания Экскурсионной станции. У меня сохранилась программа одного из вечерних концертов, устроенного в воскресенье, 6 августа, в зале Ольгинской трудовой школы. Программа концерта издана типографски. Над текстом — репродукция с рисунка пером А.Н. Бенуа «Лахта. Морской берег» — пейзаж с Гром-камнем. Этот рисунок был у папы словно визитная карточка ко всем изданиям, касающимся Лахтинской экскурсионной станции и Музея природы. Концерт
16 Чуковский К. Дневник: 1901-1929. М., 1991. С. 215.
состоял из двух отделений: фортепианной, скрипичной и вокальной музыки от Генделя до Грига и Римского-Корсакова, а также художественного чтения. Исполнители — коренные жители Лахты и Ольгино, а также гости. Кроме концерта, программа приглашала на «открытие выставки картин Лахты и сопредельных с нею мест художника Академика Альберта Николаевича Бенуа на Лахтинской экскурсионной станции»17. В экспозиции находилось около 40 акварелей. Экскурсионная станция открыла свой кинотеатр, которым занимался завхоз Влас Семенович Семенов, житель поселка Ольгино, но кинотеатр дохода не приносил.
В этом году папе посчастливилось привлечь к работе на Экскурсионной станции опытного педагога и доброго человека Наталию Петровну Серебренникову, которая стала верным его помощником и другом нашей семьи.
Лето 1922 года ознаменовалось неожиданным открытием стоянки первобытного человека. Семилетняя Люся со своим приятелем Витей Александровым, играя невдалеке от нашего дома, нашли в песке интересные камешки. Оказалось, что это были наконечники стрел и скребки из кремня и кварца — орудия человека каменного века, и найдены они были в береговом склоне древнего Балтийского моря. Эта находка привлекла внимание ученых, так как до сих пор не было известно о пребывании доисторического человека в окрестностях Ольгино. Находки детей заняли подобающее место в археологическом отделе Музея природы Северного побережья Невской губы.
Для Геологического музея 1922 год был трижды знаменателен: во-первых, музей получил новое здание на Тучковой набережной и начал готовиться к переезду, во-вторых, была издана краткая памятка, содержащая перечень главных коллекций музея с их характеристикой18 и, в-третьих, музей посетили делегаты Первого всероссийского геологического съезда19. Последний раз его осматривали в 1897 году члены Международного геологического конгресса. Как упоминалось, в последующие годы музей для массовых посещений был недоступен.
В связи с расширением экспозиции музея возникла необходимость дополнить и издать инструкцию по каталогизации, описанию и хранению коллекций. Еще во времена Н.И. Андрусова, по его поручению и при участии И.П. Толмачева и В.И. Воробьева, папа составил таковую, и
17 Программа концерта // Личный архив Е.П. Виттенбург.
18 Краткая памятка Геологического отделения ГММ. Пг., 1922.
19 Всероссийские геологические съезды (I — Петроград, 1922; II — Киев, 1926; III — Ташкент, 1928).
теперь отредактированная инструкция была принята советом музея и издана для внутреннего пользования. В этом году научному персоналу пришлось отказаться от участия в экспедициях, так как переезд в новое здание потребовал усилий всего коллектива. Папе поручили лишь собрать коллекцию послетретичных отложений в районе поселка Токсово и на реке Мга, а Гидрологический институт — провести наблюдения над разрушением береговой полосы Невской губы. В конце 1921 года на заседании сотрудников музея папе предложили курировать библиотеку Геологического и минералогического музея. Можно себе представить, с каким особым удовольствием он взялся и за эту работу, так как любил, знал и ценил книгу. Принялся пополнять библиотеку русскими изданиями и налаживать выписку книг и журналов из-за границы.
Папа принимал деятельное участие в работе еще одной комиссии Академии наук — Постоянной комиссии по научным экспедициям. Комиссия была основана конференцией Академии в конце 1921 года. Председательствовал в комиссии С.Ф. Ольденбург, секретарем был избран М.В. Баярунас. Она предназначалась для разработки правильной организации научных экспедиций, так как «до сих пор экспедиционное дело в организационном отношении нигде не поставлено надлежащим образом и что принципы научной экспедиции не только не применяются на практике, но даже и не выработаны. Этой выработке и должна себя посвятить новая академическая комиссия, объединяя в этом отношении науки естественноисторические и гуманитарные»20. Вначале комиссия состояла из пяти постоянных членов: М.В. Баярунаса, А.А. Бялыницкого-Бирули, Б.Н. Городкова, Н.А. Кулика и Золотарева. На одном из заседаний в начале 1922 года В.И. Вернадский предложил пригласить папу21. На комиссии обсуждалась организация экспедиций: палеонтологической в Тургайскую область, геологической и зоологической в Монголию, геоботанической в Северо-Западную Сибирь и других. Сметы экспедиций в первом чтении рассматривались Нарком-просом, поэтому Академия получала отказы по причине высокой стоимости одних, излишней научности других, не дающих практической выгоды сегодня же, или «невозможности провоза вещей и продовольствия и через районы, захваченные голодом, ввиду грабежей поездов».22
20 Ольденбург С.Ф. Российская Академия наук в 1921 г. Пг., 1921. С. 13.
21 Протокол заседания Комиссии по научным экспедициям от 25.11.1922 // СПб ФАРАН, ф. 138, оп. 1, д. 1, л. 6.
22 Там же, л. 8.
Обсуждению предстоящей экспедиции на Новую Землю было посвящено специальное заседание23. Папа охарактеризовал деятельность норвежской экспедиции под руководством О.Хольтедаля, которая в это время исследовала Новую Землю. (Районы Арктики в это время еще не были распределены между государствами.) А.Е. Ферсман зачитал письмо самоеда Вылка о плохом отношении к самоедам русских, в отличие от норвежцев. С.Ф. Ольденбург подытожил: «Необходимо принять все меры, чтобы предупредить возможность мирного завоевания Новой Земли норвежцами, и наука должна здесь сыграть громадную роль. <...> Приступить немедленно к составлению обзоров литературы и напечатания ее»24. Для возбуждения интереса к проблемам Севера комиссия просила папу и Р.Л. Самойловича прочесть ряд популярных докладов.
Полярная комиссия понесла большие потери в последние годы: в числе других «скончались участники русской полярной экспедиции К.А. Воллосович, А.В. Колчак, плодотворно работавшие над исследованием полярных окраин Сибири»25. Постоянная Полярная комиссия как наследница научных трудов и технического инвентаря Русской полярной экспедиции под руководством Э.В. Толля продолжала работы по подготовке к изданию научных результатов экспедиции. Папе было поручено наблюдение за обработкой геологического материала экспедиции и за изданием трудов.
1923
В 1923 году переезд в новое здание Геологического музея был полностью завершен. Отдел мезозоя (более 300 образцов), который находился в ведении папы, был упорядочен и снабжен каталогом26. Каждый старший ученый хранитель получил в свое распоряжение кабинет, в котором мог расположиться со всеми необходимыми материалами. Папин кабинет — № 28. У окна большой письменный стол, полка книг, столы с книгами и папками, а на стене геологическая карта полуострова Муравьева-Амурского, акварели Альберта Бенуа и, как всегда, у письменного стола цветы в горшках.
Некоторые сотрудники музея получили по маленькой квартире — комната и кухня. Папа тоже имел такую в помещении музея. В то время поощрялось наличие жилых квартир в учреждениях, так как это служило дополнительной охраной заведению. Нередко ученые заседания оканчивались
23 Протокол заседания Комиссии по научным экспедициям от 25.11.1922 // СПб ФАРАН, ф. 138, оп. 1, д. 1, л. 15.
24 Там же, л. 16.
25 Там же, ф. 75, оп. 1, д. 80, л. 34.
26 Отчет геологического музея за 1923 г. // Там же, ф. 128, оп. 2, д. 14, л. 362.
поздно вечером, возвратиться в Ольгино было невозможно, и папа оставался в музее. Кроме того, в эти годы так развилось воровство, что для нового здания Геологического музея были затребованы решетки к окнам первого этажа и железные двери, а также организовано дежурство сторожей и дворников, установлена сигнализация. Хищению музейных ценностей и возможному вывозу их за границу было посвящено специальное заседание правления Академии наук.
Папа готовил развернутый план изучения геологии Новой Земли, но экспедиция туда в этом году не удалась, так как у Академии не было денег. Предстояла командировка в Уссурийский край с целью дополнительных исследований на побережье у Владивостока и доставки ранее собранных коллекций. Во Владивостоке к экспедиции присоединились те ученые, которые были в то время на Дальнем Востоке: А.Н. Криштофович, В.Д. Принада, В.Е. Глуздовский27 и несколько студентов Географического института, приехавших из Петрограда. Папа приглашал на экскурсии Марго Мейссель, свою племянницу, — она жила во Владивостоке. Папа хотел заинтересовать ее геологией. В музей Общества изучения Амурского края папа передал привезенную с собой «Панораму залива Петра Великого» — акварель Альберта Бенуа28.
«Последняя экспедиция собрала обильный материал по флоре и фауне палеозоя, мезозоя, кайнозоя и обнаружила впервые распространение верхнетриасовых отложений в Восточной Сибири»29. Академии пришлось ходатайствовать перед наркоматом путей сообщения о предоставлении льготного провоза научного материала, который состоял из 150 пудов геологических образцов экспедиций папы 1917 и 1923 годов и гидрографической экспедиции Тихого океана за 5 лет работы30.
Кроме научной работы, во Владивостоке папа занялся хлопотами по утверждению в наследстве детей Марии Ивановны Виттенбург. Наследников осталось шестеро: дочери — Елена (Эля) Делакроа, Ванда Армфельт, сыновья — Вильгельм, Павел и две внучки, сироты Марго и Ира Мейссель. Наследство состояло из дома по Косой улице № 16, земельного
27 Аннотация П.В. Виттенбурга к фотографии в семейном альбоме // Личный архив Е.П. Виттенбург.
28 В настоящее время акварель находится в Приморском государственном музее им. В.К. Арсеньева.
29 Виттенбург П.В. Экспедиции Академии наук с 1920 по 1925 г. // Природа. 1925.№ 7-9. С. 224.
30 СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 2, д. 14, л. 70.
участка в квартале 180, сданного под застройку китайского городка, и вклада в сейфе № 78 в бывшем Русско-Азиатском банке31. Хлопоты были напрасны, обращения в суд не принесли, конечно, успеха.
Перед отъездом во Владивосток папа оформил завещание. В здании Фондовой биржи в то время помещалась, среди прочих учреждений, государственная нотариальная контора. Представив в качестве удостоверения личности трудовую книжку (тогда паспортов еще не было), папа 31 марта получил на руки текст завещания, где было указано, что в случае смерти завещателя все имущество передается во владение жене, а в случае ее смерти, в равных долях их детям, настоящим и будущим.
Во время поездки во Владивосток папа вел записную книжку, в которой среди множества деловых заметок, фамилий и адресов, названий необходимых книг, текстов заявлений в суд по наследству, находим стихи. Это гимн йогов. Он об ответственности человека за свои поступки и о том, что только добродетели выносят человека из мрака забвения.
В 1923 году Лахтинская экскурсионная станция и Музей природы отмечали пятилетие своей работы. Весной вышел из печати сборник научных статей и материалов сотрудников станции под редакцией папы: «Северное побережье Невской губы в свете естествознания и истории». Папа посвятил его профессору Д.Н. Кайгородову. Из 14 статей, касающихся биологических, исторических и этнографических результатов деятельности ученых, напечатать удалось только три «по независимым от редакции обстоятельствам»32: Б.Ф. Землякова «О следах каменного века в районе Северного побережья Невской губы», П.П. Иванова «Дюны Сестрорецка и зоологические экскурсии на них» и папы «Лахтинская экскурсионная станция и Музей природы Северного побережья Невской губы». В своей статье папа охарактеризовал задачи и деятельность экскурсионной станции, методы работы с учащимися, способствующие развитию «интереса к родиноведению». Вторая часть статьи посвящена описанию музея. Книга иллюстрирована репродукциями с акварелей Альберта Бенуа, заставками к статьям послужили его же рисунки пером. Научным статьям предпосланы два стихотворения Т.Л. Щепкиной-Куперник «На Лахте» и «Лахта зимой». Первое посвящено маме.
31 Записная книжка П.В. Виттенбурга // Личный архив Е.П. Виттенбург.
32 Северное побережье Невской губы в свете естествознания и истории. Сб. 1. Пг., 1923. С. XII. Остальные статьи не были изданы, скорее всего, из-за отсутствия финансирования.
Издание вызвало интерес научной общественности.
«Многоуважаемый Павел Владимирович, — писал А.П. Карпинский. — Приношу Вам большую благодарность за присланный мне сборник «Северное побережье Невской губы», изданный под Вашей редакцией. Он интересен для меня вдвойне: и как дающий новые знания о окрестностях любимого мною Петербурга, а также потому, что на Лахте и в Сестрорецке я много раз бывал, а недавно был в экскурсии с Б.Ф. Земляковым и на Тарховском разливе на стоянке неолитического человека. Кроме того, меня заинтересовала судьба дома графов Стенбок-Фермор. Дело в том, что последний из них, Александр Владимирович, был моим учеником, как раз по естественным наукам... Радуюсь, что он сделался большим настоящим естество-[испытателем] и даже дом его пошел на естественно научную станцию, (хотя последнее едва ли для него утешительно!). Затем, изумляюсь Вашей энергии, помогшей осуществить это издание. Пусть скорее явится Сборник № 2»33.
К сожалению, второй сборник так и не удалось издать. Впоследствии некоторые статьи были напечатаны в других сборниках и журналах.
В конце лета, по возвращении папы из Владивостока, в замке Стенбок-Фермора состоялось большое собрание, приуроченное к пятой годовщине работы станции и музея. Приглашены были деятели краеведческого движения Петрограда, ученые, принимавшие участие в создании Музея, президент Академии наук А.П. Карпинский, а также местные жители и учащиеся. Говоря о работе станции, папа демонстрировал различные схемы и графики, наглядно иллюстрировавшие методику экскурсионной работы, посещаемость музея34, маршруты экскурсий и т.д.35 Относительно себя папа заметил: «Несмотря на все неудобства внешней жизни, многодневные экскурсии пользовались большим успехом, и систематические занятия с детьми принадлежат к лучшим воспоминаниям моей деятельности на экскурсионной станции»36.
Затем приезжим демонстрировался музей, теперь состоящий из семи отделов: зоологического, ботанического, болотного, почвенного, геологического, археологического и исторического. Из просторного вестибюля
33 Письмо А.П. Карпинского к П.В. Виттенбургу от 01.04.1923 // АРГО, ф.123.
34 За период с 1919 по декабрь 1922 Станцию и музей посетило более 30 тысяч экскурсантов. См.: Северное побережье Невской губы в свете естествознания и истории. Сб. 1. Пг., 1923. С. 57.
35 Материалы подарены Е.П. Витгенбург в 1980-е краеведу Н.В. Михайлову.
36 Северное побережье Невской губы в свете естествознания и истории. Сб. 1. Пг., 1923. С. 74.
первого этажа, где размещались разные лаборатории, террариум, столовая и спальные комнаты для приезжающих, широкая лестница вела в залы второго этажа. Первый — зоологический, где чучела животных соседствовали с коллекцией птиц (52 вида). Особый интерес посетителей вызывал инсектарий с живыми муравьями, представлявший муравейник в разрезе. В ботаническом отделе 17 видов древесных растений были показаны по этапам роста каждого и в зависимости от условий произрастания. Остальные залы также открывали много нового и занимательного. Их украшали соответствующие акварели Бенуа.
В том же году на станции появился молодой и энергичный студент Академии художеств Борис Пестинский. Он заинтересовался зоологией и начал изучать местную фауну. Его увлечение животным миром переросло во вторую специальность, и, окончив в 1925 году Академию художеств, он остался работать на экскурсионной станции как зоолог и художник. Экскурсии его были столь увлекательны и по научному интересны, что многие дети в дальнейшем избрали зоологию своей специальностью.
1924
Геологическому музею, наконец, представилась возможность расширить свою деятельность, подвести итоги и разработать устав. Директор музея А.А. Борисяк поручил М.В. Баярунасу и папе собрать необходимый материал и составить отчет за период с 1914 по 1918 годы для опубликования его в «Трудах» музея.
В архиве Академии сохранился проект устава Геологического музея РАН, рассматривавший музей как «высшее научное геологическое учреждение СССР», призванное собирать и хранить геологические материалы Земли, вести научные разработки по различным видам геологических дисциплин и популяризацию геологических знаний37. Интересно, что спустя много лет, когда папа выходил на пенсию, чтобы получить пенсию научного работника, ему пришлось предъявить этот устав в качестве доказательства того, что Геологический музей Академии наук — научное учреждение.
В 1924 году музей имел три отдела: геологии, палеонтологии и петрографии с соответствующими подотделами и самостоятельные коллекции: Сибирскую, Северо-Двинскую и Центрально-Азиатскую. Папа предложил выделить в самостоятельный отдел геологию Полярных стран.
37 Проект Устава // СПб ФАР АН, ф. 128, оп. 2, д. 18, л. 56.
Он вообще был горячим сторонником отражения в музейных экспозициях достижений науки, мечтал о создании комплексного музея, посвященного Полярным странам как научно-исследовательского центра.
Полярный отдел, по его замыслу, который он изложил в докладной записке38, должен был представить геологию Арктики, а затем и Антарктики. Он комплектуется за счет коллекций, имеющихся в музее и полученных в дар или обмен из-за границы.
«Выявлению подлежат: коллекции с архипелага Шпицбергена, острова Новой Земли, острова Вайгача и части Евразии, тяготеющей к Шпицбергеновскому квадранту, затем Таймырского полуострова и Северной Земли, архипелага Ново-Сибирского и северной части Якутии и Чукотского полуострова, относящегося к сибирскому квадранту. Коллекции квадранта Американского в музее немногочисленны, но все же музей располагает коллекциями из Аляски и дублетами с архипелага Пэрри, нет лишь коллекций с Северной Гренландии, но они могут быть получены от исследователей Гренландии (Лауте Коха). Наряду с коллекциями предложено геологию Арктики иллюстрировать геологическими разрезами и палеографическими и геотектоническими картами по географии Полярных стран, с выявлением характерных полярных ландшафтов посредством соответствующих рисунков и акварелей. Галерея исследователей Полярных стран дополняет содержание отдела. Для систематического пополнения коллекций отдел Полярных стран производит полевые исследования и принимает меры к посылке коллекторов для сбора материалов по геологии Полярных стран»39.
10 февраля 1925 года Ученый совет одобрил предложенный подробный план этого отдела, физико-математическое отделение Академии, в чьем ведении был музей, назначило заведующим Полярного отдела его автора — папу. Он вместе с научными сотрудниками М.А. Лавровой, Б.Ш. Земляковым, Е.К. Ивановой и Э.Г. Шредер осуществлял научную обработку коллекций и подготовку их к выставке.
В 1926 году отдел пополнился ценнейшими рукописными материалами полярных исследователей: дневниками Э.В. Толля в экспедициях 1885— 1886, 1893 и 1900—1901 годов, переданных вдовой покойного геолога
38 Докладная записка Ученому совету музея // СПб ФАР АН, ф. 128, оп. 2, д. 85, л. 17.
39 Там же, л. 17.
Эммелиной Николаевной Толль, дневниками К.А. Воллосовича, также полученными от его вдовы, рукописями М.И. Бруснёва о геологических наблюдениях на островах Новой Сибири. А.А. Бунге прислал свой экспедиционный дневник из Ревеля (Таллина). Ряд ценных геологических коллекций этих ученых пополнили экспозицию Полярного отдела. Позже папа писал одному из своих корреспондентов: «С родственниками Э.В. Толля (женой) я был в переписке до моего лишения свободы в 1930 г. и выплачивал ей пособие за предоставление Академии наук материалов, но эта поддержка кончилась вместе с моей свободой»40. Кроме того, папа приобрел рукописи и материалы у вдовы Н.А. Бегичева, боцмана яхты «Заря», судна последней экспедиции Толля. Также удалось, на этот раз из личных средств, поддержать его бедствовавшую семью41.
Несмотря на все развивающиеся международные контакты ученых, существовало как бы соперничество в исследовании малоизученных недавно открытых территорий в районе Ледовитого океана. Это касалось Новой Земли, Земли Николая II и острова Врангеля. Еще раньше папа докладывал в Полярной комиссии о попытке присвоения острова Врангеля разными странами и о трагических последствиях Канадской экспедиции в 1923 году. В марте 1924 года папа сообщил постоянной Полярной комиссии, что, по имеющимся у него сведениям, датский геолог Лауте Кох и норвежец Олаф Хольтедаль намерены получить субсидии от своих правительств для исследования Новой Северной Земли (так назвал он Землю Николая II). Его, как и всю Полярную комиссию, беспокоила возможность исследования этими учеными земель, открытых русскими моряками в 1913 году.
12 апреля 1924 года Полярная комиссия обратилась с письмом в конференцию Академии наук «с просьбой ходатайствовать перед центром о необходимости в ближайшее время в интересах науки и государства организовать исследование Таймыра и вновь открытых островов. Необходим отпуск средств в срочном, сверхсрочном порядке для организации исследований»42.
Ответ правительства, видимо, был отрицательным.
Тем не менее папа не терял надежды приступить к планомерному исследованию Новой Земли. Полярная комиссия его поддерживала. Одно время даже были попытки создать специальный Новоземельский отдел при КЕПСе (Комиссии для изучения естественных производительных сил
40 Письмо П.В. Виттенбурга к В.А. Троицкому от 26.06.1965. С. 5 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
41 Письмо П.В. Виттенбурга к Н.Я. Болотникову от 14.06.1950 // Там же.
42 СПб ФАРАН, ф. 75, он. 1, д. 88, л. 44.
России). Но они остались нереализованными. При Полярной комиссии в течение двух лет, с 1922 по 1924 год, состояла Новоземельская подкомиссия. Она разработала пятилетний план комплексного исследования Новой Земли согласно предложению Госплана. Однако Госплан денег на пятилетний план не выделил, предложив рассматривать смету отдельно на каждый год.
В июле 1924 года Полярная комиссия поручила папе организовать геологические исследования Новой Земли в следующем, 1925 году, составить программу и смету. То и другое Полярная комиссия утвердила: «Продолжаются исследования Полярных стран в области Новой Земли. Академия наук отправляет экспедицию под руководством профессора П.В. Витген-бурга. В программу работ Новоземельской экспедиции, которой Академия наук придает большое значение, входят...»43 Далее следует изложение целей и направлений маршрутов от западного побережья (Баренцева моря) до восточного (Карского моря), составление геологического разреза, пересекающего северный остров, что чрезвычайно важно для понимания геологического строения Новой Земли. По мнению папы, в этом должна была заключаться первая часть исследований, а с 1926 года надлежало попутно с геологическими работами провести ботанические сборы, наблюдения над почвенным покровом, ископаемыми торфяниками, скоростью движения ледников, гидрологические исследования и прочее. Но в осуществлении своих новоземельских планов папе так и не пришлось принять участия: в следующем же году перед ним были поставлены новые задачи.
Из архивных материалов видно, какая огромная предварительная работа была проведена для подготовки экспедиции. От поиска приборов и инструментов в разных институтах и лабораториях до раздобывания палаток и резиновых лодок. Был налажен контакт с фабрикой «Красный водник», которая предложила палатку английского образца, и в свою очередь с благодарностью приняла к производству брезентовые лодки по образцу, присланному начальником экспедиции (это была первая надувная лодка). Помню, я ужасно боялась, когда нас, детей, катали на такой лодке по Маркизовой луже напротив Лахтинской экскурсионной станции. Мне казалось, что лодка вот-вот пойдет ко дну. Находясь на Новой Земле еще в 1921 году, папа выяснил, что самоеды готовы предоставить оленьи упряжки и вместе с экспедицией кочевать по острову. Для отъезда все было готово, но Академия не смогла отпустить папу, так как предстояло празднование ее 200-летия. Пришлось передать проведение экспедиции М.А. Лавровой.
43 Там же, ф. 138, оп. 1, д. 1, л. 160.
Под ее руководством все намеченные маршруты были выполнены. По окончании работ в бухте Крестовой ждали судна «Декрет». Оно не пришло, так как потерпело аварию. Был уже октябрь, навигация заканчивалась. Комиссия по научным экспедициям обратилась в Управление государственного торгового флота в Архангельске с просьбой направить на Новую Землю другое судно. Ледокольный пароход «Русанов» взял курс на Новую Землю. Чтобы известить об этом персонал экспедиции, пришлось просить московскую радиостанцию «Коминтерн» сообщить об этом по радио в бухту Крестовую — в Ленинграде в то время не было достаточно мощной радиостанции.
На заседании Полярной комиссии в декабре 1924 года обсуждался проект капитана В.Брунса (Германия) об использовании воздухоплавательных аппаратов для трансарктических перелетов. С докладом выступил Р.Л. Самойлович. У членов комиссии возникли сомнения в возможности осуществления перелетов при отсутствии метеорологических станций на островах и материке. Вместе с тем с помощью аэропланов, по мнению папы, можно было бы скорее организовать и содержать метеорологические станции, которые так нужны и судам, плавающим в северных морях, и науке. О значении авиации для исследования Полярных стран он писал еще в 1922 году44. Кроме того, папа предложил «высказать пожелание об участии русских представителей в пробном полете капитана Брунса к Северному полюсу»45 и о необходимости созыва Международного съезда по изучению Полярных стран. Полярная комиссия поручила В.Ю. Визе и Р.Л. Самойловичу разработать экономическую и метеорологическую часть проекта. В результате в Ленинградское бюро Госплана была направлена записка, в которой отмечалось, что по рассмотрении проекта капитана Брунса Полярная комиссия признала его трудноосуществимым, пока не будет поставлен ряд метео- и аэростанций в высоких широтах. Эти станции нужно снабдить воздухоплавательными аппаратами для рекогносцировки ледовых условий -в научных целях. Кроме того, желателен созыв Международного совещания по изучению Полярных стран с участием представителей заинтересованных государств.
В 1924 году по инициативе В.Брунса и Л.Брейтфуса (в прошлом одного из первых членов Полярной комиссии Академии наук) было положено начало созданию Международного общества «Аэроарктик» (цель — изуче-
44 Виттенбург П.В. Исследование Полярных стран и больших высот при помощи аэроплана и подводных лодок // Природа. 1922. № 6—7. С. 40—49.
45 Протокол заседания Полярной комиссии // СПб ФАР АН, ф. 75, оп. 1, д. 89, л. 39.
ние Арктики при помощи воздушного корабля, предпочтительно дирижабля). Полярная комиссия не раз обращала внимание ученых на необходимость подытожить работы в Арктике за период войны и первые послевоенные годы. Такой итоговой работой стала папина книга, написанная при участии французского историка Арктики и Антарктики Ш. Рабо «Полярные страны. 1914—1924»46. В книге собран материал обо всех научных экспедициях разных стран, работавших в Арктике и Антарктике за это десятилетие, приведены маршруты и научные итоги экспедиций. Как свойственно папиным книгам, в ней подробный справочный аппарат, список русской и иностранной литературы, а также именной, географический и предметный указатели. Интересно предложение автора: «Ныне, когда меняются многие географические названия, следовало бы, если заменить данное экспедицией Б.А. Вилькицкого название (Земля Николая II) новым, предложить назвать вновь открытую землю «Новая Северная Земля»»47.
В предисловии папа пишет:
«Если мы окинем взором всю совершенную работу в области исследования Полярных стран за время с 1914 года, начала великой войны, по 1924 год, мы видим, что за последние 10 лет произведено более 70 полярных экспедиций и издан целый ряд выдающихся произведений, посвященных физической географии этих стран. <...> Первой четвертью XX столетия, когда были достигнуты крайние точки земного шара, быть может, кончается героический период полярных исследований и новая декада даст нам возможность, покорив воздушные стихии, свободно покрывать пространства, которые с таким упорством и жертвами преодолевались в течение столетий»48.
Эту книгу папа послал Ф. Нансену и получил в ответ теплое письмо с благодарностью.
Академия наук придавала большое значение созданной в 1921 году комиссии по научным экспедициям. В этом она видела один из способов организации плановых и согласованных исследований страны49. Госплан предложил Академии составить пятилетний план работ по всем ее учреждениям. К этому времени (июнь 1924 года) ученый секретарь комиссии М.В. Баярунас уехал в экспедицию, и С.Ф. Ольденбург как председатель
46 Рабо Ш., Виттенбург П. Полярные страны 1914-1924. Л., 1924. 183 с., 8 л. карт.
47 Там же. С. 1
48 Там же. С. ХIV-ХV.
49 Ольденбург С.Ф. Российская Академия наук в 1921 году. Пг., 1921. С. 5.
Комиссии предложил на эту должность временно выбрать папу. Прежде всего, предстояло составить отчет за 1923 и начало 1924 года. Затем обещанную Госпланом сумму в 15000 рублей распределить между экспедициями, заявленными Азиатским, Зоологическим, Геологическим, Ботаническим, Минералогическим музеями, Комиссией по изучению Байкала, КЕПСом, Полярной комиссией, Севастопольской биологической станцией. С получением от Госплана ассигнований на экспедиции возникла потребность в расширении состава комиссии путем делегирования представителей от заинтересованных учреждений Академии. Товарищем председателя был избран А.Е. Ферсман, ученым секретарем — папа. При составлении экспедиционных планов на 1925 год вся экспедиционная деятельность в стране координировалась Академией наук, в том числе экспедиции, осуществляемые краеведческим движением и отдельными учеными. «Всего за 1924 год было проведено 78 экспедиций50 и отдельных поездок»51.
Домашняя жизнь текла спокойно. Для меня пригласили бонну, некую Ольгу Владимировну. Она была в нашей семье недолго. Я ее совсем не помню, и чувств, которые она во мне вызывала, не сохранилось. Называла я ее Дидикой, но кто она была, откуда — не знаю. В раннем детстве я мечтала иметь бабушку. Аннушка в какой-то мере удовлетворяла мое желание ласки и любви. Я ее называла Бабенькой и очень любила. Но Аннушка была много занята по хозяйству: готовила обед, завтрак, ужин, ухаживала за козами, содержала в чистоте кухню. У нее оставалось мало времени для меня.
Мама много работала. Обычно она делала в день несколько визитов к больным (как я уже писала, в то время еще не было поликлиник). Сохранились ее записные книжки, в которых она помечала имя, возраст и адрес больного, диагноз, выписанные ею лекарства или назначения. Уборкой дома большей частью мама занималась сама, но для генеральных уборок перед праздниками приглашали кого-нибудь на помощь. Детскую комнату, которая принадлежала нам с Люсей, убирать должны были мы сами и, конечно, ужасно не любили это делать. В то время мама сама шила нам платья, главным образом переделывая одно из другого. Временами приезжала к нам глуховатая белошвейка Луша (Гликерия Андреевна). Мне она казалась
50 Персидская экспедиция по изучению книжного дела (рук. Ю.Н. Марр), Забайкальская зоологическая (Б.С. Виноградов), Туркестанская комплексная (А.В. Мартынов), Крымская (Н.С. Курнаков), экспедиция по изучению флоры Кавказа (Н.А. Буш) и др.
51 Виттенбург П.В. Экспедиции Академии наук с 1920 по 1925 г. // Природа. 1925.
№ 7-8. С. 225.
старушкой, хотя вряд ли это соответствовало действительности. Она чинила белье, шила незамысловатые платья. За работой она любила заунывно напевать: «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить...» и еще: «Милый, купи ты мне дачу, не купишь — тогда я заплачу и перестану любить».
Мы часто видели маму сидящей с карандашом за рукописями. Перед моим письменным столом висит прекрасная акварель Анны Алексеевны Геннерт: мама у окна в папином кабинете на фоне книжных полок склонилась над листами бумаги. Мама в Ольгино много играла на рояле. Если находился кто-то, кто тоже умел играть, то она приглашала поиграть в четыре руки симфонии Бетховена и Гайдна. К нам приходил книгоноша — невысокий старичок (а может быть, и не старый человек!) с рюкзаком за плечами и сумками в руках. Он приносил книги и ноты, давал их на время и принимал любые заказы.. Благодаря ему дома читали только что вышедшие в свет романы и стихи, а мама могла играть с листа (что она так любила) почти всю изданную музыкальную литературу. Из письма Т.Л. Щепкиной-Куперник: «...Мы с Маргаритой Николаевной52 стали с нежностью вспоминать Вашу семью и всю жизнь на Лахте, и то, например, как вы одновременно мыли Гуленьку, играли Грига и пекли миндальный кекс — и все это выходило прекрасно»53.
Чтение в нашей семье было любимым занятием. Летом в саду мама или Татьяна Львовна читали вслух, а тот, кто не читал, обычно был занят вышиванием, дети тоже вышивали или рисовали. Детям читали сказки Андерсена и братьев Гримм, «Радужную книжку» (не помню автора), где каждому цвету радуги соответствовал определенный занимательный сюжет. Я особенно любила «Дюймовочку» Андерсена. Читать ее просила каждый раз, от многократного повторения она не становилась скучной, напротив, волновала все более. Всеобщими нашими любимцами были Макс и Мориц — герои небольшой немецкой книжки Буша с множеством иллюстраций, изображавших всевозможные проделки этих отпетых шалунов. По вечерам — уже в более поздние годы — Люся читала на кухне вслух Аннушке, главным образом Диккенса. Я при этом тоже присутствовала. Люся читала хорошо, выразительно. В драматических местах все лили слезы.
Кухня нас, Люсю и меня, притягивала по вечерам, особенно зимою, когда появлялись на свет козлята. Их, совсем еще маленьких, приносили из
52 Маргарита Николаевна Зеленина, дочь Марии Николаевны Ермоловой — близкий друг Т.Л. Щепкиной-Куперник.
53 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к З.И. Витгенбург от 07.08.1943 // РО ИРЛИ
РАН, Р-1, оп. 37, ед. хр. 23-27.
козлятника. Спуск к отопительному котлу заслонялся табуретками, и эти прелестные трогательные создания прыгали, играли, бодались друг с другом и резвились по всей кухне. Удовольствие они доставляли огромное! С ними можно было и самой попрыгать. Кроме козлят близкими животными был и песик по имени Тобик — лайка черная с белым «ошейником» (Миллона пришлось застрелить, так как он взбесился), и кошка Мушка, тоже черная с белым. Тобик жил в саду, в своей будке, сторожевую службу нес по мере умения. Ника любила его дразнить — звала к себе в комнату и выставляла перед дверью зеркало. Бедный Тобик выходил из себя при виде своего отражения. В интересы кошки я особенно не вникала, так как у меня была любимая игрушка — плюшевый мишка, который принадлежал только мне.
Старые знакомые, небольшой круг друзей, посещали наш дом. Покинул нас только Альберт Николаевич — он уехал во Францию. «Моя милая хорошая Зинаида Ивановна! — писала Татьяна Львовна. — Завидую Анне Алексеевне, которая послезавтра уже очутится в чудесном "домике в лесу", увидит вас всех и моих любимиц-девочек. Я чувствую, как ей будет хорошо у Вас — у Вас не может быть плохо, в атмосфере Вашего тепла и умной простоты, в очаровании Вашего семейного уюта...»54.
Корней Иванович Чуковский весною этого года жил на Лахтинской экскурсионной станции. Папа предложил ему стол и кров, чтобы тот мог спокойно заняться литературным трудом. Как увидим, поработал он успешно, но привычка во всем видеть смешное и поязвить ему не изменила. Вот заметка из его дневника:
«15 апреля 1924. Лахта. Экскурсионная станция. Надо мною полка, на ней банки: «Гадюка обыкновенная» «acerta vivipara»(ящерица живородящая) и пр. Я только что закончил целую кучу работ: 1) статью об Алексее Толстом, 2) перевод романа Честертона «Manalive», 3) редактуру Джэка Лондона "Лунная долина", 4) редактуру первой книжки № Современника55 и пр. Здесь мне было хорошо, уединенно. Учреждение патетически ненужное: мальчишки и девчонки, которые приезжают с экскурсиями, музеем не интересуются, но дуются ночью в карты; солдаты похищают банки с лягушками и пьют налитый в банки спирт с формалином. Есть ученая женщина Таисия Львовна56, которая три раза в день делает наблюдения над высотой снега, направлением и силою ветра, количеством атмосферных осадков. Делает она это добросовестно, в трех местах у нее снегомеры, к двум из них она идет на лыжах и даже ложится на снег
54 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к З.И. Виттенбург от 02.08.1928. С. 1 // Там же.
55 Журнал назывался «Русский современник», выходил в 1924 при участии К. Чуковского.
56 Ефимова Таисия Львовна — сотрудница Лахтинской экскурсионной станции и музея.
животом, чтобы точнее рассмотреть цифру. И вот, когда мы заговорили о будущей погоде, кто-то сказал: будет завтра дождь. Я, веря в науку, спрашиваю: "Откуда вы знаете?" — Таисия Львовна видела во сне покойника. Покойника видеть — к дождю! " Зачем же тогда ложиться на снег животом?»57
Кстати, детские книжки Чуковского с дарственными надписями Нике и Люсе принесли много удовольствия двум поколениям нашей семьи. Лаконичные иллюстрации Ю. Анненкова и Вл. Конашевича как и стихи легко запоминались.
Этот год, как известно, был отмечен одним из самых больших наводнений в бытность Петербурга — Петрограда — Ленинграда58. Последствия его были ужасны. Приведу отрывок из воспоминаний о нем моей сестры Люси (Валентины Павловны Сапрыкиной):
«В тот страшный сентябрьский день 1924 года дул сильный западный ветер, который к вечеру превратился в ураган. Под его напором гнулись и ломались стволы сосен, некоторые вырывало с корнями. Одно дерево, сломавшись, упало на крышу нашего дома. Ветер завывал в кронах деревьев, напоминая шум морского прибоя. Хлестал дождь.
Выглянув из дома, мы увидели, что река Юнтоловка подобралась вплотную к нашему участку и плескалась у самой ограды. Всех нас очень волновало, как сможет вернуться домой наш отец, который работал в Академии наук и ежедневно ездил в Ленинград на поезде. Телефонные провода были оборваны, связь с городом отсутствовала. Всю ночь и следующий день ураган неистовствовал. Буря стала утихать только на третьи сутки. Наконец вода начала постепенно спадать. Наш поселок оказался отрезанным от города, железную дорогу и шоссе размыло. Рельсы вместе со шпалами отнесло далеко в сторону. Мост в устье Юнтоловки разрушило. Стало известно, что некоторые жители поселка, попытавшиеся добраться вечером домой, пропали без вести. Никто ничего определенного не знал. Ходили всевозможные слухи. Каждый понимал, что бедствия, причиненные наводнением, огромны, и в городе могут быть жертвы.
Мы ждали возвращения отца несколько дней. Кто-то из соседей сказал, что видел его вечером в день наводнения, идущего из города пешком, но шоссе и железнодорожное полотно были залиты, а вода катастрофически поднималась. Больше его не видели. Но вот наконец установилась связь с городом, люди смогли добраться пешком, и пришел наш отец. Разрушенная железная дорога и шоссе были восстановлены не скоро, так как в первую очередь нужно было ликвидировать последствия наводнения в Ленинграде.
57 Чуковский К. Дневник: 1901-1929. М., 1991. С. 270.
58 Наводнение 23 сентября 1924, уровень воды составил 3 м 69 см выше ординара.
Через некоторое время мы с мамой направились пешком в город, так как у нас был абонементный спектакль в Народном доме. И что мы увидели? Больше всего пострадала окраина станции Лахта, примыкающая к заливу, так называемая деревня Бобылка. Здесь везде были следы разбушевавшейся стихии: сломаны и вывернуты с корнем деревья, разрушены дома, снесены сараи и заборы. Двухэтажного дома, стоявшего ближе всего к заливу, не оказалось вообще — он был смыт. К счастью, женщину с детьми, находившихся в доме, успели спасти на лодке. Вдоль дорог, в канавах, на огородах — повсюду валялись вещи, вынесенные водой из домов: мебель, всевозможная утварь, одежда. Все было изломано и испорчено. Возле вокзала станции Лахта мне запомнился лежавший в канаве диван с вывернутыми пружинами.
Следы урагана долго еще были видны повсюду. Так, например, в парке, окружавшем Лахтинскую экскурсионную станцию, еще не скоро заросла широченная "просека", образованная вывернутыми с корнем вековыми деревьями»59.
3 января 1925 года произошло еще одно довольно сильное наводнение. Ранней весной мама привела нас на побережье посмотреть на последствия разгула стихии. На берегу громоздились горы ломаного льда, намного превышавшие Гром-камень60, лежали деревья, вывернутые с корнем. Страшно было представить, что здесь творилось осенью... Гидрологический институт командировал папу и нескольких сотрудников обследовать берега Невской губы от Сестрорецка до Северной Лахтинской отмели и от деревни Красная Горка до Южной Лахтинской отмели для выяснения разрушений, причиненных наводнением61.
1925
К 1925 году деятельность Академии наук уже имела четкую организационную структуру: научные разработки проблем велись отраслевыми научными институтами и музеями, а общие комплексные проблемы изучались специальными комиссиями, состоявшими из сотрудников, делегированных научными учреждениями Академии. Комиссии были постоянными, например Полярная, и временными, которые создавались по мере необходимости.
59 Сапрыкина В.П. Ольгино, Полевая, 5 // Михайлов Н.В. Лахта. Пять веков истории. 1500-2000: СПб., 2001. С. 276-277.
60 Так в годы существования Лахтинской экскурсионной станции называли осколки Гром-камня на берегу Финского залива в Лахте, другое название — Большой камень.
61 Постановление Морского отдела Гидрологического института от 18 октября 1924 г. //Известия Российского Гидрологического института. 1925. № 12. С. 99.
Постоянная Полярная комиссия неоднократно обращала внимание на необходимость исследования Северо-Восточной Сибири — района, совершенно не изученного. Однако денег на эти работы не поступило. Ситуация изменилась, когда весной 1924 года в Академию наук обратился представитель Якутской республики62 М.К. Аммосов63 с просьбой взять на себя разработку плана и организацию изучения производительных сил Якутии. Правительство Якутии проявляло заинтересованность не только в изучении, но и в рекомендациях по использованию природных богатств края, развитию народного хозяйства и в исследовании демографических процессов.
Письмо за подписью М.К. Аммосова, полученное Академией наук 25 апреля 1924 года, гласило:
«...По поручению нашего Автономного Правительства настоящим обращаюсь в Академию Наук с предложением, не возьмется ли Академия за организацию научно-исследовательской экспедиции, ставящей себе задачей — изучение естественно-производительных сил Якутии? Основные вопросы, подлежащие освещению, суть: 1) Население, главным образом со стороны смертности и прироста, 2) Скотоводство, включая собаководство и оленеводство, 3) Земледелие, 4) Пушной и рыбный промысел, 5) Кустарная промышленность <...>»64.
Академия наук поддержала предложение правительства Якутии. Непременный секретарь Академии и он же председатель комиссии по научным экспедициям С.Ф. Ольденбург провел ряд обсуждений реальных планов и направлений деятельности будущих экспедиций. Для Академии эта задача была совершенно новой как по масштабу работ, так и в связи с необходимостью сформулировать практические рекомендации. Всю подготовительную работу по планированию научных исследований на ближайшие пять лет в Якутии провел С.Ш. Ольденбург при участии папы как
62 Якутская АССР в составе РСФСР создана 27.04.1922, ранее — Якутская область.
63 Аммосов Максим Кирович (1897—1938), государственный деятель. Окончил Учительскую семинарию в Якутске (1918). Председатель и секретарь Губбюро РКП(б)г. Якутск (1920-1921). Секретарь обкома РКП(б) Якутии (1922-1923). Постоянный представитель ЯАССР при ВЦИК (1923—1925). Председатель СНК Якутской Автономной Республики (1927-1928). 1-й секретарь Западно-Казахстанского обкома ВКП(б) (1932-1934), 1-й секретарь Карагандинского обкома ВКП(б) (1934—1937), 1-й секретарь ЦК ВКП(б) Киргизии (1937). Арестован 16.11.1937 в г. Фрунзе. Этапирован в Москву 26.07.1938. По постановлению ВК ВС СССР от 28.07.1938 приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 28 июля 1938. Ныне Якутскому государственному университету присвоено имя М.К. Аммосова.
64 Виттенбург П.В. Якутская экспедиция Академии наук. (Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 1). Л., 1925. С. 9.
секретаря комиссии по научным экспедициям, в том числе обсуждение финансирования в Госплане СССР.
«7 апреля 1925 г. в истории исследования не только северо-востока Азии, но и всего Союза является знаменательной датой. В этот день Совет Народных Комиссаров признал необходимым произвести всестороннее исследование Якутской Советской Социалистической Республики и отпустить на осуществление исследований и изучение этнических и естественно-производительных сил страны необходимые средства»65. Общее собрание Академии наук как высшая инстанция Академии 4 апреля 1925 года утвердило создание новой комиссии — комиссии по изучению Якутской АССР (КЯР).
«Академик С.Ф. Ольденбург, закончив первую часть работы, передал председательствование академику А.Е. Ферсману, ответственным секретарем был избран профессор П.В. Виттенбург. 11 апреля на заседании пленума комиссии был избран президиум, в который, помимо Витгенбурга и Ферсмана, вошли академик Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, проф. А.А. Бялыницкий-Бируля и М.К. Аммосов, как представитель Совнаркома Якутреспублики и его заместитель И.Н. Винокуров, уполномоченный Я.А.С.С.Р. при ВЦИКе»66.
В состав Якутской комиссии вошли также академики: А.П. Карпинский, В.А. Стеклов, С.Ф. Ольденбург, В.В. Бартольд, В.Л. Комаров, П.П. Сушкин; представители ведомств и учреждений: Главнауки, ВСНХ, Наркомпути, Наркомздрава, Главной Геофизической обсерватории, Главного Гидрологического Управления, Северного Научно-исследовательского института (бывшей Северной научно-промысловой экспедиции) и другие, всего 15 человек. Кроме того, были приглашены 35 ученых разных специальностей67.
«Якутская Академическая экспедиция поставила себе задачей в течение ряда лет подвергнуть всестороннему исследованию территорию Якутской АССР, общая площадь которой простирается на 3.827.613 кв. км., т.е. занимает пространство, превосходящее в общей сложности площадь Англии, Германии, Франции, Австрии, Венгрии, Испании, Греции, Италии, Швеции и Норвегии вместе взятых. Принимая во внимание огромное протяжение подлежащей изучению территории, ее малонаселенность, отдаленность исследуемых районов от обитаемых пунктов и, наконец, слабое развитие и местами полное отсутствие
65 Виттенбург П.В. Якутская экспедиция Академии наук. (Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 1). А, 1925. С. 1.
66 Там же. С. 36.
67 Там же. С. 155-157.
путей сообщения, следует признать чрезвычайную важность выбора маршрута и правильно сконструированной программы для успешности полевых работ»68.
Уже в мае 1925 года в Якутию выехало шесть отрядов в составе 44 человек. Это были комплексные отряды Алданский и Вилюйский, представленные учеными разных специальностей, затем Ленский ихтиологический, Алданский гидрологический, Тимптонская гидрологическая станция и аэрометеорологическая служба. Отряды направились в зоны, имевшие первоочередное хозяйственно-экономическое значение. В конце августа был сформирован еще статистико-экономический отряд, который тотчас выехал в Якутию. «Таким образом, персонал научных работников 1925 года достиг 50 человек, причем, большая часть осталась зимовать в Якутском крае»69.
На ближайшую зиму и следующий год в Якутии остался Вилюйский отряд. Помощником начальника отряда по медицинской части была Тамара Александровна Колпакова, мамина соученица по Медицинскому институту и друг нашей семьи. Столь не тронутое цивилизацией место требовало от медицинской группы напряжения всех сил и знаний. Следовало изучить причины чрезвычайно высокой смертности, особенно женской части населения и детей. Помимо сбора научного материала в связи с широким распространением инфекционных заболеваний и низкой социальной гигиеной, надо было просто вести врачебный прием, лечить больных не только в поселках, но и в местах кочевья.
Тамара Александровна, будучи человеком, горячо заинтересованным в своей работе (она не посчитала возможным пожертвовать своим медицинским призванием ради семейного очага), активно принялась за работу. Неудобства экспедиционной жизни ее не смущали. Имея отзывчивое сердце, она находила среди якутских юношей способных молодых людей, которым помогла получить высшее образование и специальность. Помню ее воспитанника якута Гришу Кокшарского. Он жил у нее в ленинградской квартире, учился в Медицинском институте. Приобрел специальность хирурга. Кроме того, он увлекался игрой на скрипке, достиг профессионального уровня. Получив образование, вернулся в Якутию. К сожалению, он умер в расцвете лет не то от рака, не то от туберкулеза.
В следующем году Якутской комиссией было организовано десять отрядов и 24 подотряда, а также семь аэрологических и метеорологических
68 Виттенбург П.В. Якутская экспедиция Академии наук. (Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 1). Л., 1925. С. 61.
69 Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1925 год. А, 1925. С. 243.
станций, гидрологические и водомерные посты и опорные сельскохозяйственные пункты70. Я не смогу описать все направления работы отрядов комиссии. Это специальная тема для научного исследования. Упомяну лишь о некоторых моментах их деятельности. «Так, всем начальникам экспедиционных отрядов вменено было в обязанность производство докладов и научных сообщений по пути следования отрядов и в пунктах больших остановок. Доклады и сообщения были сделаны в городах Иркутске и Якутске, а также предстоят в ближайшее время в некоторых научных учреждениях Ленинграда»71, — читаем мы в отчете за 1925 год. Комиссия с самого начала предусматривала подготовку научных кадров из местного населения. Были установлены тесные контакты с научно-просветительным обществом «Саха-Кескиле», которому оказывалась поддержка.
В сентябре 1925 года папа получил письмо от представителя Якутской Республики при Президиуме ВЦИК в Москве И.Н. Винокурова: «Многоуважаемый Павел Владимирович! Якутское исследовательское общество «Саха-Кескиле», ценя Вашу неустанную работу в должности ответственного секретаря Комиссии по исследованию Якутии, избрало Вас своим почетным членом. Сообщая об этом, прошу принять мое искреннее поздравление»72.
Краеведческий музей в Якутске нуждался в упорядочении коллекций и пополнении их. Якутской комиссией было предложено членам экспедиции, занятым в полевых партиях, собирать материалы для музея. Заведование музеем поручили специалисту, был найден препаратор, а Зоологический музей Академии наук подготовил специалиста по набивке чучел и обработке скелетов.
Организация Национальной библиотеки началась с доставки книг, посвященных Сибири, Северу и Якутии, из разных библиотек и книгохранилищ Ленинграда и Москвы. В первый же год было прислано в Якутск около 7000 томов, снабженных каталожными карточками. По ходатайству КЯР перед коллегией Наркомпроса Национальная библиотека Якутии стала получать обязательный экземпляр печатных издании, выходящих в СССР.
В задачу комиссии входила и целенаправленная издательская деятельность. Причем не только публикация научных трудов сотрудников экспедиции, но и издание всех материалов по Якутии, которые были выполнены прежними экспедициями, путешественниками и отдельными исследователями, остававшихся не опубликованными. Издантаг КЯР выходили в виде сборников «Трудов» и «Материалов».
70 Витгенбург П.В, Комиссия по изучению Якутской АССР. Л., 1927. С. 137.
71 Отчет о деятельности Академии наук в 1925 году. Л., 1926. С. 250.
72 СПб ФАРАН, Ф. 4, оп. 4, д. 886, л, 169.
Из всех изданных отчетов по Якутской комиссии, других публикаций и архивных материалов видно, что основным организатором разносторонних исследований в Якутии являлся папа. Приведу воспоминания Романа Федоровича Геккера, работавшего также в Якутской комиссии:
«В личности и характере Павла Владимировича сочетается несколько черт, которые позволили ему сделать то многое, что он сделал за свою жизнь. По складу ума Павел Владимирович энтузиаст, человек увлекающийся, а не спокойно, размеренно делающий свое дело. Поэтому он очень активный человек. Павел Владимирович всегда вдохновлялся новым, полезным и вместе с тем красивым: у него большой и хороший вкус. Павел Владимирович обладает большими организаторскими способностями, которые при его активном характере, приводили к очень большим положительным результатам. <...>
Когда в 1920-х годах перед Российской Академией наук была поставлена задача крупных комплексных исследований на территории тогда очень слабо изученной сибирской части Союза — в Якутской АССР, — Павел Владимирович полностью ушел в это совершенно новое по своему масштабу и организационным формам дело. Он стал работать в Якутии не как полевой исследователь — начальник одного из многочисленных отрядов, которые тогда отправлялись изучать ее территорию, — он взял на себя значительно более трудное, сложное и ответственное дело. Он стал ученым секретарем академической Комиссии по изучению Якутской республики, при сменявших друг друга председателях — академиках В.Л. Комарове, А.Е. Ферсмане и Ф.Ю. Левинсон-Лессинге.
Павел Владимирович был организаторской душой этого крупного и сложного начинания — первого в своем роде в Академии наук. Деятельность П.В. Виттенбурга в КЯР была кипучей. Лучшего секретаря трудно было бы найти, и, думается, не будь Павла Владимировича, работы экспедиций КЯР не получили бы такого размаха и не принесли бы столько пользы. Вспоминая сейчас работу КЯР и роль Павла Владимировича в ней, можно понять, что здесь он нашел свое настоящее место. Действительно, требовалась организация очень большой исследовательской работы на огромной, в то время еще во многих ее частях и в многих областях знаний неведомой территории, лежащей в северном и полярном поясах, — на территории с героическим, почти легендарным прошлым ее открытия и изучения немногочисленными мужественными землепроходцами, моряками и учеными.
Павел Владимирович очень любит книгу. Поэтому издательское дело в КЯР было им поставлено на большую высоту. Сразу стали издаваться «Труды», «Материалы» и другие серии, в которых публиковались результаты работ экспедиций КЯР и предшествовавших им исследователей на территории Якутской АССР. Очень полезным было издание, под редакцией Павла Владимировича, сборника «Якутия», в кратких очерках подытоживавшего все то, в общем, очень немногое, что к тому времени было известно о природе Якутии.
Этот сборник явился вместе с тем портретной галереей многих исследователей территории Якутской республики. Если бы в те годы не были собраны для сборника, трудами Павла Владимировича, эти фотографии, — они могли бы быть навсегда утрачены»73.
На одном из заседаний Комиссии по научным экспедициям папа передал мнение президиума Госплана в связи с утверждением Положения об Якутской комиссии: «Это первая большая, серьезно продуманная и соответствующая плановому требованию экспедиция, которая могла бы служить образцом для других автономных республик»74.
Папа по-прежнему принимал участие в краеведческом движении. Комиссия по научным экспедициям Академии командировала его на 2-й Краеведческий съезд Аджаристана и Черноморского побережья Северного Кавказа. Съезд проходил в Батуми в конце сентября и начале октября. Папа выступил с тремя докладами: «Краеведение в трудовой школе», «Географический факультет ЛГУ»75, «Якутская экспедиция Академии наук».
Воспользовавшись пребыванием в Аджарии, он по поручению Гидрологического института исследовал береговую зону Кавказа в районе Батуми в геоморфологическом отношении. Сохранились фотографии участников съезда на Зеленом Мысу. Снимал, наверное, папа. Рядом с учеными — В.Г. Богоразом-Таном, В.П. Семеновым-Тян-Шанским, Л.Я. Штеренбергом — десятилетняя Люся, папа взял ее с собой. Скромная серьезная девочка не могла помешать в работе — ей всегда можно было дать книгу, и она забывала обо всем.
Ко времени возвращения папы со съезда произошло разделение музеев: Геологический и Минералогический музеи получили самостоятельность внутри Академии наук. Директором Геологического музея стал Ф.Ю. Левинсон-Лессинг.
В конце года папа получил приглашение от В.К. Арсеньева принять участие в работе конференции по изучению производительных сил Дальнего Востока. Он с сожалением отказался от участия в конференции из-за «сложности, лежащих на мне обязанностей по Академии наук», пожелал успеха от имени КЯР и послал 3 экземпляра первого выпуска «Материалов
73 Геккер Р.Ф. О Павле Владимировиче Виттенбурге. 10.VIII.1966. Рукопись. С. 1-3// Личный архив Е.П. Виттенбург.
74 СПб ФАРАН, ф. 138, оп. 1, д. 3, л. 21. В конце 1925 года вслед за Якутией в Академию наук обратились с просьбой об исследовании производительных сил Казахстанская и Бурято-Монгольская автономные республики (см.: Там же, д. 5, л. 1).
75 Осенью 1925 Географический институт влился в ЛГУ на правах факультета.
по изучению Якутии»76. Видимо, папа все же не смог принять участия в дальневосточном съезде еще и потому, что в том же 1926 году с 10 апреля по 15 июня он получил командировку по делам КЯР за границу.
В июле 1925 года Российская Академия наук из ведения Наркомпроса была переведена в ведение Отдела научных учреждений Совнаркома СССР77. А осенью 1925 года Академия праздновала свой 200-летний юбилей. Юбилейные тожества начались в Ленинграде и продолжались в Москве. В Большом зале Ленинградской филармонии собрались отечественные ученые и гости из двадцати четырех стран мира. С приветственным словом выступил президент Академии А.П. Карпинский и объявил об открытии торжественного заседания. Оркестр Филармонии и хор Капеллы исполнили Интернационал и Торжественную увертюру А. Глазунова под управлением автора. Затем Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин обратился с речью, в которой он огласил текст официального приветствия правительства, где объявлялось, что Российской Академии наук присвоено название Академии наук СССР78.
Далее он отметил:
«Народ не знал Академии наук, и она его очень немного знала, да и не могла знать, ибо этому решительно воспротивилось бы самодержавие. Теперь Академия наук получила возможность широкой связи с народными массами, из недр которых будут приливать новые и новые силы для развития науки. Лозунгом Академии теперь должно быть "Наука для масс — для трудового народа'». М.И. Калинин выразил пожелания Академии: «Теснее связаться с революционными массами, откуда черпать творческие соки и туда возвращать результаты побед человеческого разума над силами природы и прийти на помощь союзным и автономным республикам и областям в развитии их языка и культуры»79.
В ответной речи непременный секретарь Академии наук С.Ф. Ольденбург сказал:
«Ближайшие задачи будущей работы Академии предопределяются сами: интенсивная исследовательская работа и ее организация в союзном и мировом масштабе, детальное и планомерное исследование нашей страны во всех отношениях путем экспедиций, с одной стороны, и организации и поддержки местных краеведческих исследований, с другой. Таким путем она лучше исполнит
76 СПб ФАРАН, ф. 47, оп. 4, д. 90, л. 50.
77 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР.№ 34. Отд. 1. Ст. 367.
78 Известия ВЦИК. № 170. 1925. 28 июля.
79 200 лет АН СССР // Вестник знания. 1925. № 15. С. 1046-1047.
свой долг — внести науку в жизнь для наилучшего ее устройства и понимания. <...> Между наукой и трудом не может не существовать тесного единения. Научная работа дается с таким же трудом, как работа серпом и молотом»80.
Обращает на себя внимание противоположная оценка роли науки компартией и учеными: борьба человека с силами природы для подчинения природы, противопоставление физического труда интеллектуальному (Калинин), и наука — способ познания жизни для наилучшего ее устройства и понимания (Ольденбург). Еще в 1918 году А.П. Карпинский писал А.В. Луначарскому: «...Глубоко ложное понимание труда квалифицированного как труда привилегированного, антидемократического <...> легло тяжелой гранью между массами и работниками мысли и науки»81. Характерно, что в краеведческом движении Академия наук находила один из путей проведения исследовательской работы на всей территории страны силами местной интеллигенции. Не случайно академик С.Ф. Ольденбург возглавлял Центральное бюро краеведения. Однако уже через несколько лет краеведение было признано правительством вредным для Советского государства и уничтожено82.
В январе 1925 года папа был избран проректором по учебной части Географического института83. С организацией на базе института географического факультета Ленинградского университета он стал штатным профессором по кафедре страноведения, ему было поручено чтение курса «Полярные страны» и заведование кабинетом «Полярные страны», превращенного вскоре в кафедру географии Полярных стран84, руководство дипломными работами. Кроме того, он был избран членом президиума (ученого совета) географического факультета85. Папа с увлечением читал лекции и занимался со студентами. Его кабинет Полярных стран превратился в маленький музей. Сохранились краткие конспекты лекций, читанные им с осени 1928 года по начало 1930 года: история исследования Полярных стран, их география и геология. Видимо, он постепенно разрабатывал свой курс. Переплетенные вместе, по всей вероятности позже, на Вайгаче, простые школьные тетради исписаны четким беглым мелким почерком. Каждой теме
80 200 лет АН СССР // Вестник знания. 1925. № 15. С. 1002, 1053.
81 Документы по истории Академии наук СССР: 1917-1925 гг. Л., 1986. С. 38-39.
82 Перчёнок Ф.Ф. Академия Наук на «великом переломе».// Звенья: исторический альманах. Вып. 1. М., 1991. С. 234.
83 СПб ФАРАН, ф. 4, оп. 4, д. 886, л. 93.
84 Справка ЛГУ № 62 выдана Виттенбургу П.В. 1946 г. // Личный архив Е.П. Виттенбург.
85 СПб ФАРАН, ф. 4, оп. 4, д. 91, л. %; д. 886, л. 128.
предшествует перечень использованной литературы. Текст сопровождается вклеенными выкопировками карт тех регионов, о которых идет речь.
В Ольгино жизнь летом 1925 года протекала тихо, без особых событий. Погода выдалась прохладная. Занятость папы, отъезд его с Люсей на Кавказ придавали нашей жизни ощущение покинутости. Татьяна Львовна с Николаем Борисовичем уехали далеко — через Берлин и Париж в бретонскую деревню отдыхать на берегу океана. В письме она напоминала о своей просьбе, обращенной к папе: похлопотать об аренде соседнего с нами участка по Полевой улице, для строительства на нем собственного дома86. Мама в сопровождении своих коллег докторов С.Е. Шрейбер, В.И. Андрусон и других совершила поездку в лепрозорий «Крутые Ручьи» для ознакомления на месте с новыми методами лечения проказы. Расширился круг ее пациентов среди дачников. Потребовалась медицинская помощь академику химику Оресту Даниловичу Хвольсону. О.Д. Хвольсон был очень милым приветливым человеком, приходил к нам, и завязалось приятное знакомство. Он обращался к маме и в последующие годы, когда отдыхал в Ольгино.
Зима, какое это было веселое время года!.. Катание на саночках с горы — берега древнего Балтийского моря около стоянки человека каменного века... Особенно почему-то любили кататься вечером, перед ужином... Собирались дети и молодежь из ближайших домов, играли в снежки, дурачились. Огромное удовольствие доставляли финские сани-спортетинги: деревянный стул на длинных и узких металлических полозьях. Один сидит, а другой сзади толкает перед собой сани. По хорошо накатанной дороге можно было развить большую скорость. Мальчики, воспитанники Лахтинской экскурсионной станции, часто приходили к нам и катали с ветерком нас, девочек, по поселку и на взморье.
Каждую зиму перед нашим домом в саду заливался каток, небольшой, но вполне достаточный, чтобы на нем можно было кататься всей семьей. Папа, заядлый фигурист еще со студенческих лет, зимой в своем портфеле всегда носил фигурные коньки. Рядом с Финляндским вокзалом находился каток, если перед поездом оставалось время, папа надевал коньки и с удовольствием делал несколько фигур или проходился «голландским шагом». На домашнем катке папа учил нас стоять на льду, показывал фигуры, которые мы старались повторить далеко не всегда успешно. В центре катка якорем спасения служила липа — за ее ствол всегда можно было ухватиться.
86 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к 3-Й. Виттенбург от 14.08.1925 // РО ИРЛИ РАН, Р-1, от. 37, ед. хр. 23-37.
Как-то в солнечный морозный зимний день папа повез нас в Стрельну на экскурсионную станцию87 при Яхт-клубе. У заведующего были буера, и зимой можно было на них кататься. Нас закутали в медвежью полость, уложили на деревянный настил, подняли паруса, и мы понеслись по гладкому льду залива. Незабываемое впечатление полета, простора, солнечного света!..
Зима — праздник Рождества. Не могу сказать, что родители были религиозны, но в семье соблюдались все большие церковные праздники с их общепринятыми ритуалами и приличествующими каждому празднику яствами. Как было свойственно интеллигенции того времени, вера в Бога не отягощалась неприменным строгим соблюдением правил той или иной конфессии. Икон, как мне помнится, в доме было только три: в кухне, в столовой и в комнате Аннушки. Перед праздниками в них зажигались лампады. В столовой лампадка мерцала красным огоньком. Становилось как-то удивительно спокойно и уютно. Праздник Рождества у нас в семье отмечался по новому стилю — 24 декабря, а остальные по старому вместе с православной церковью.
К Рождеству готовились заранее. Радостное волнение начиналось с изготовления елочных украшений. Всей семьей, кроме папы, мы усаживались в столовой вокруг стола, и приступали к осуществлению своих фантазий. Материалом служила разноцветная бумага, пустые яичные скорлупки, вата, бертолетова соль, акварельные краски, клей. Из яичной скорлупы или кусочка картона делалась голова задуманного персонажа. Одеждой служила вата: ее покрывали клеем из крахмала и обсыпали бертолетовой солью для блеска. Иногда использовали проволочные каркасы, чтобы придать фигуркам разные позы. Какая радость была разрисовывать физиономии пьеро, арлекинов, коломбин, снегурочек, принцесс или рожицы разной лесной нечисти! Мы вырезали и клеили разноцветные колпачки, жабо, короны, костюмчики! Каждый творил в пределах своих возможностей. Все волновало, все испытывали муки и радости творчества. У Люси удач было больше всех. На кухне тоже велась подготовка к празднику. Дети там выполняли подсобные функции — главным образом, вылизывали миски из-под кремов.
Пик радостного возбуждения — поездка за елкой в лес. Папа звонил по телефону владельцу лошади Казимиру Федоровичу Грюнбушу (дедушке Грюнбушу) и просил на какой-то определенный день предоставить нам
87 Стрельнинская экскурсионная станция при Яхт-клубе (открыта весной 1920), заведующий Б.В. Соловьев. Летом 1921 — Гидробиологическая экскурсионная станция в Стрельне, заведующий проф. Л.С. Берг. Назначение: гидробиологические экскурсии и спортивные экскурсии на яхтах и лодках, зимой — на буерах.
лошадь с розвальнями. Казимир Федорович, седой солидный строгий старик, с готовностью выполнял папину просьбу, и мы, папа и дети, ехали в лес за Конную Лахту. Закутанные, катили на санях, снег хрустел под полозьями, солнышко подымалось над лесом, сердце радовалось. Въехав в лес, все, кроме меня, углублялись в чащу, а меня оставляли «стеречь» лошадь, строго-настрого наказывая никуда не уходить — мол могут выскочить волки или медведи. Становилось немного жутковато, но делать было нечего. И хорошо, что мне не приходилось видеть, как рубят дерево, как оно падает — этого ребенку видеть не надо. Когда же пушистую лесную красавицу взваливали на розвальни, мне, наивной, казалось, что она сама пришла к нам на радость.
Быстро темнело, на небе зажигались звезды. Уже в полной темноте подъезжали к дому. Всей гурьбой вваливались в кухню. Соблазнительные запахи праздничных яств кружили голову. Папа устанавливал елку в гостиной (она обычно упиралась вершиной в потолок), и мы все вместе ее украшали.
Надо описать наш дом — домик в сосновом лесу, как назвал его папа. Дом на Полевой улице, 5, сначала был бревенчатый, темный, со светлой обшитой досками мансардой и крышей, крытой толем. Такой вид он имел до второй половины 1920-х годов.
Если войти в дом через черное крыльцо и пройти темноватый тамбур, попадаешь в просторную кухню с широким окном на запад. Это царство Аннушки. Большая плита топилась ежедневно дровами, в огромном котле — пойло для коз. Основная еда для нас тоже тут приготавливалась Аннушкой, а сфера деятельности мамы на кухне — сладкие блюда: крем-буберт, «снежки», мороженое, торты, кексы, печенья и т.п. Над плитой на полке блестят начищенные медные кастрюли. В глубине кухни — буфет из темного резного дуба. Он необычайно высок и глубок, и всегда казался мне живым таинственным существом, молчаливым и знающим себе цену. Перед окном — большой стол для приготовления пищи. За этим столом обедала Аннушка и ее гости, когда случались. Ближе к входной двери помещался огромный светло-коричневый бак, куда мотором, находившимся рядом, накачивалась вода из колодца. За плитой несколько ступеней вели вниз к котлу водяного отопления.
Из кухни коротенький коридорчик вел в столовую. Налево в этом коридорчике — дверь в чулан. Этот чулан мне весьма памятен: Ника как-то заперла меня в нем. Не помню за что, но, конечно, по моим представлениям, абсолютно несправедливо. Во-первых, я была не ее, а мамина, и она не имела права мной распоряжаться, а во-вторых, никого в этот чулан не сажали — там темно и страшно. Аннушка подходила к двери и утешала меня, даже втайне приносила что-то вкусное. Мамы в это время, видимо, не было дома.
Мама нас редко наказывала. Самым убедительным и уничижительным было, когда она своим маленьким кулачком стучала провинившейся по лбу, приговаривая: «Рохля, ты, рохля!» или: «Какая плохая девочка!» Бывало, за ту или иную провинность ставили нас в угол. Больше всего попадало Нике. Случилось даже, что в саду, при всех Никиных приятелях, папа ее выдрал тут же.вырванной из земли елкой, — это свою любимицу! (Ника без спроса отдала папин фотоаппарат кому-то из мальчишек.) Люсю я хорошо помню в том возрасте, когда не хочется слушаться, и она частенько дерзила маме. Папа всегда спокойно объяснял ей, что так нельзя, а когда возвращался домой поздно, и мы уже спали, оставлял записку примерно такого содержания: «Люсенька, надо мамочку беречь, надо мамочку любить, она у нас хорошая»! Метод этот был весьма действенен.
В детстве Ника с Люсей часто дрались. Маме надоело их разнимать и выслушивать претензии сторон. Тогда мама предложила: «Пожалуйста, деритесь, только по четвергам за сараями». Удивительное дело, именно по четвергам драться не хотелось и, таким образом, драки прекратились.
В столовой, оклеенной синими обоями, было высоко поставленное горизонтальное окно. Оно смотрело на север, в поля. Сразу налево от двери из коридорчика пологая деревянная лестница вела на второй этаж. Напротив нее на стене висел телефон (наш № 48—393) в деревянном футляре с ручкой. Нужно было несколько раз повернуть ручку, чтобы вызвать станцию. Мебели в столовой было мало: посередине большой обеденный стол со стульями, у стены, между двумя арками, полубуфет с чайной и обеденной посудой. Направо от двери из коридорчика — диванчик с полкой книг. Над ним висела большая вышитая мамой картина — финский пейзаж, о которой я уже писала.
Диванчик этот был замечательным, он находился как бы в нише, образованной верхним маршем лестницы. Зимними вечерами мы, дети, усаживались на нем около Татьяны Львовны и пускались в «путешествие в город Самовар» — так это называлось. Татьяна Львовна рассказывала нам всевозможные истории из своей жизни, путешествий или сочиняла увлекательные сказки, которые имели продолжение на следующий день. Мама обычно в это время играла на рояле. Аннушка приносила пыхтящий самовар, звала маму: «Барынька, самовар подан!» Мама не могла оторваться от музыки, мы не могли оторваться от захватывающих рассказов, Аннушка уносила остывший самовар, а затем, подогрев, опять приносила. Папа в это время работал у себя в кабинете.
За столом каждый имел свое место. Все вместе собирались только по вечерам и в воскресенья. В будние дни папа рано завтракал (всегда
геркулесовой кашей), к обеду не успевал вернуться. Когда встречалась вся семья, папа спрашивал нас, что мы делали, что видели, что узнали, обсуждали планы. За разговором выяснялись разные животрепещущие вопросы, маленькие и большие. После ужина папа уходил к себе в кабинет работать. Частенько меня посылал наверх в спальню за вечным пером, которое оставалось у него в пиджаке рабочего костюма. В детстве я была ужасная трусиха. Подняться на второй этаж, пройти через одну темную комнату в другую — требовалась мобилизация всей моей воли. Показать трусость — нельзя. Исключено. Если поблизости оказывалась кошка Мушка, то я брала ее на руки и с нею шла увереннее. Ступени лестницы поскрипывали, в темных углах мерещилось что-то страшное. Схватив авторучку, я опрометью неслась назад.
Из столовой две арки вели — большая в гостиную и малая в переднюю — маленькую комнату с небольшим квадратным высоко расположенным окном. Здесь стояли шкафы с верхней одеждой, зеркало и комод. Помимо обычной одежды, там висело пальто, которое называлось искательное. Темное, весьма потрепанное пальто надевалось, когда вечером ходили искать старших девочек, которые иногда засиживались где-нибудь со своими друзьями, в то время как давно уже пора было спать. Комод, стоявший в передней! Что это был за комод! Что только в нем не хранилось!.. — старинные шляпы, платья, невиданная обувь. Любимейшим занятием Люси и ее подруги Люли88 было наряжаться во все эти вещи и разыгрывать придуманные ими же роли, а особенное удовольствие получали, мистифицируя меня, маленькую девчушку.
Из передней вела двухстворчатая стеклянная дверь к парадному крыльцу. Парадный вход открывали только летом, а зимою за стеклянной дверью на полках хранились приготовленные мамой различные варенья. Мама посылала кого-либо из нас положить из банки в вазочку варенье и при этом говорила: «Облизанной ложкой в банку лезть нельзя — варенье сразу заплесневеет». А как хотелось тайком съесть ложечку варенья!..
Высокую арку, ведущую в гостиную, задергивали шерстяной темно-зеленой портьерой. Обычно портьера была раздвинута. Наверху арки ввинчены два крюка, на которые иногда вешали трапецию-лесенку на веревках. Мы по ней лазали и качались, как на качелях. Однажды, когда папа с мамой были в городе, Ника и Аннушка тоже куда-то ушли, дома остались мы с Люсей. Играя, я залезла на самую верхнюю перекладину, уселась на подушку и начала качаться. Конечно, подушка соскользнула, я полетела на пол. Люся в ужасе не знала, что делать, я ревела, кровь струилась изо рта. К счастью,
88 Коломийцева Ирина Владимировна, внучка Казимира Федоровича Грюнбуша.
вскоре вернулись мама с папой. Оказывается, я прокусила себе нижнюю губу, пришлось маме накладывать швы. Шрам так и остался на всю жизнь.
В гостиной было много света: три высоких окна в эркере почти от потолка до пола выходили на юг. Обои светло-зеленого цвета, окаймленные широким бордюром с розами в зелени, ковер на всю комнату тоже с гирляндами из роз придавали комнате особую легкость и жизнерадостность. Здесь стоял черный кабинетный рояль, гарнитур светлой мебели в стиле модерн и торшер с большим абажуром в крупных розах с бахромой из бисера. Он был специально заказан мамой. (Этот абажур мы утаили во время конфискации, но в войну его у нас украли.) В углу гостиной — небольшой мраморный камин. В эркере стояли два кресла и журнальный столик с настольной лампой тоже под большим абажуром. Общей люстры в гостиной не было, по углам с потолка свисали одиночные лампы с матовыми колпачками. В эркере на подоконниках было много цветов в горшках, а рядом — высокое дерево в кадке — камелия. Она расцветала к Рождеству. На боковых стенах эркера симметрично висели две вертикальные картины маслом работы Г.З. Башинджигяна «Сосна» и «Береза». В углу перед аркой маминого кабинета на мольберте стоял этюд И.И. Шишкина. Стены украшали пейзажи А.Н. Бенуа. В эркере в простенке между окнами находился самодельный детекторный радиоприемник с наушниками. Как-то во время большой грозы, к моему страху и ужасу, из него посыпались искры.
Из гостиной по левой стене раздвижная дверь вела в папин кабинет, а справа большая арка — в мамин. Пол маминого кабинета был на ступень выше общего пола, край которого до половины ограждали деревянные перила. Такой же занавес, как и из столовой, прикрывал часть арки.
Папин кабинет — угловая комната с двумя большими квадратными окнами. Стены в книжных полках до потолка. Большой письменный стол поставлен перпендикулярно к правому окну. Между полками напротив стола встроен узенький шкафчик с запирающейся на ключ дверкой (по-моему, единственное, что у нас в доме закрывалось на ключ). В этом шкафчике хранились конфеты и всякие необыкновенные сладости. Ключ мама прятала на одну из книжных полок. Он иногда терялся, но мы всегда точно знали, где его найти. Однако сами в шкаф никогда не лазали. На шкафу большие старинные часы, каждые полчаса раздавался их низкий мерный бой. Мы их спасли от конфискации, и сейчас они стоят в моей комнате на шкафу.
Слева от двери в глубине между стеллажами помещался широкий диван с тумбами по бокам, где хранились две пишущие машинки с русским и латинским шрифтами — мама печатала на них папины рукописи. На одной
из тумб стоял глобус, такой таинственный и непонятый. И еще там лежал стереоскоп с фотографиями европейских городов, видами Альп и другими пейзажами. Рассматривать все это было чрезвычайно интересно, словно присутствуешь при чужой жизни. Около дивана под окном находился небольшой, несколько примитивный, деревянный столик, на котором лежала толстая старинная книга с раскрашенными от руки иллюстрациями. Не помню, что это была за книга, рукописная или печатная. Эта книга и столик видны на акварели А.А. Геннерт, о которой я упоминала выше. Дверь папиного кабинета, когда он работал за письменным столом, всегда оставалась открытой — он любил чувствовать жизнь дома и особенно слышать мамино музицирование. Нам, детям, и в голову не могло прийти отрывать его от работы или чем-либо беспокоить.
Когда папе случалось поздно возвращаться из города, а к нам приезжала Татьяна Львовна, то в столовой он находил у своего прибора записочку с таким текстом:
Вам у себя покоя нет.
Как не роптать на жизнь такую?
Не заходите в кабинет —
Сегодня я у Вас ночую!
Мамин кабинет был обставлен совсем просто: письменный стол, кожаный диван и два книжных шкафа. Продолговатое окно расположено высоко, так что сидя за письменным столом, можно было видеть только вершины сосен и небо. Под окном находился открытый балкон. Бывало, когда мама засиживалась поздним вечером, в окне появлялась какая-либо подозрительная физиономия. Дубовый письменный стол был в одночасье покрашен папой белой масляной краской, когда мама однажды пришла от больных скарлатиной детей. Чтобы не заразились свои дети, папа таким образом произвел дезинфекцию. За этим самым белым столом я теперь и пишу. Передо мною стоят мамин любимый чернильный прибор и настольные часы, вмонтированные в подставку из камня.
В одном из шкафов кабинета хранились домашние печенья и бисквиты в высоких железных банках когда-то процветавших кондитерских фирм Ландрин и Жорж Борман. Мы, дети, конечно, с любопытством заглядывали в эти банки. Другой шкаф, книжный, был сделан по папиному заказу ольгинским столяром Петром Ивановичем, прекрасным мастером, но горьким пьяницей. У него была маленькая собачка по кличке Нобиле (!), которая всегда его сопровождала, совсем как чеховская Каштанка.
Из маминого кабинета небольшая дверь вела в кухню. Можно было пробежать вкруговую: кухня, столовая, гостиная, кабинет и так далее. Летом из кухни около большого буфета открывалась дверь на веранду. Застекленная веранда делилась как бы на две части — ближе к кухне стоял большой круглый обеденный стол со спускающимся над ним большим абажуром, а дальше, ближе к выходу, как бы маленькая летняя гостиная: угловой деревянный диванчик с разбросанными по нему подушками, кресло-шезлонг и круглый журнальный столик. На подоконниках цветы и здесь же на полу камелия. Она на лето выносилась из дома. Под ногами лежал якутский меховой коврик. В дождливую погоду так уютно чувствовали себя здесь и взрослые и дети — кто читал, кто вышивал, а кто играл в куклы.
Спальные и ванная комнаты помещались на втором этаже дома, в мансарде. Деревянная широкая лестница вела туда из столовой. При подходе ко второму этажу на правой сплошной стене висела огромная картина художника Р.Г. Судковского «Берег Черного моря в Крыму». Не знаю, был ли это подлинник или копия. Прозрачность воды, когда виден каждый камушек, залитый солнцем берег, голубое море — словно открывалось окно в другой мир. Картина хорошо была видна из общей комнаты второго этажа — халле89. Три окна этой комнаты помещались выше обычного уровня, поэтому под окнами стоял угловой диван, изготовленный тем же Петром Ивановичем. Обои, как и обивка дивана, имели приятный голубовато-сероватый матовый цвет — электрик. Первоначально здесь тоже был камин в виде очага под колпаком и на опорах. Пришлось его разобрать, так как он дымил. Эта комната — основное место пребывания женской части семьи в холодное время года. В халле шили, вышивали, читали вслух, чинили белье, а дети с упоением играли в куклы. Большая часть пространства около перил принадлежала Люсиной кукле Тусе, а позже Сольвейг, а другая — мне с моей куклой Ирочкой (эта большая кукла с закрывающимися глазами перешла по наследству ко мне от Ники). Но особенно любимой у меня была тряпичная кукла с лицом из папье-маше, увы, облысевшая, по имени Мимилка. Ее можно было класть с собой в постель, как угодно сгибать, а иногда и колотить головой об стол, держа за ноги — было и такое проявление любви. Люся играла в куклы очень серьезно: как хорошая мать она воспитывала своих «детей», учила их, шила из лоскутков всевозможные одежды. Иногда появлялся «отец семейства» в лице Люли Коломийцевой, которая напускала на себя ужасающую строгость и тут же придумывала
89 Наllе (норв.) — зал.
всевозможные шалости: объектом всяческих шуток оказывались мои куклы. При этом безжалостно попирались мои «родительские» права.
В этот период жизни разница в возрасте между мной и сестрами — с Люсей в 7 лет, с Никой в 10 лет — была чувствительна. Старшим сестрам частенько доставляло удовольствие меня третировать, а Ника любила использовать меня на побегушках — принеси то, подай сё, за что она однажды и поплатилась. Как-то все сидели внизу в гостиной. Ника меня послала в свою комнату за корзинкой для рукоделия. Она вышивала гладью какую-то салфетку. В этой корзиночке лежали новые маленькие ножницы. Когда я пришла в ее комнату, меня охватило, по всей вероятности, чувство мести: я надрезала материал этими новыми ножницами и преспокойно принесла все вниз. Как только Ника увидела следы моей проделки, она ударилась в слезы не без некоторой аффектации (чем грешила в ту пору). Я же забилась в угол под рояль — лучшее детское укрытие.
Папа прошел в свой кабинет, сел за письменный стол и позвал меня. Он сидел за письменным столом, говорил со мной строго — хотел знать причину моего поступка. Я стояла напротив стола с поникшей головой. Строгим голосом спросил о причине моего поступка. Я запомнила эту сцену на всю жизнь, так как в то время не могла понять себя, на душе было ужасно, объяснить свое поведение не могла. И здесь впервые я сказала неправду, что мол хотела попробовать новые ножницы. Папа, все понял, сделал мне внушение. Я в смятении отправилась спать.
В халле стоял двухэтажный кукольный домик размером метр на метр, коробка поставленная вертикально без передней стенки. Он представлял собою дом как бы в разрезе. Внутреннее пространство было разделено перегородками на четыре комнатки: кухня и столовая — внизу, спальня и гостиная — наверху. Каждая комната имела полную меблировку, на окнах висели занавески, а в кухне стояла плита с кухонными принадлежностями. На крыше дома — сад с деревьями, кустами, дорожками и скамейками, а также небольшой бассейн, куда якобы накачивалась вода из колодца ручным насосом. Самое интересное было переставлять в нем мебель, что-то дополнять, усовершенствовать, а в кухне будто бы готовить обед. «Жили» в этом доме маленькие куклы.
Из халле четыре двери вели в спальные комнаты — мамину с папой, нашу детскую — Люси и мою, Никину комнату и комнату Аннушки. Крайняя левая дверь вела в ванную комнату с окном на восток. В ней светло-зеленые стены окаймлял греческий бегущий орнамент. Дровяная ванная колонка нагревала воду, когда мама нас мыла. Папа каждое утро принимал холодный душ. Из ванной вторая дверь вела в спальню родителей, окна и
балконная дверь которой также были обращены на восток. Небольшой балкон служил одновременно навесом над парадным крыльцом. С балкона открывался чудесный вид через стволы сосен на дальние поля и виднеющуюся вдалеке речку Юнтоловку. Мебель этой комнаты — две белые эмалированные кровати, туалетный столик, зеркальный шкаф и кресло. Стены были оклеены светлыми розовато-желтыми обоями, на стене большая картина (фотокопия) Г. Гесмина «Музыка — утешительница», изображающая двух молодых женщин, одна из которых играет на скрипке, другая в задумчивости слушает. Под зеркальным шкафом почему-то хранились старые журналы мод и «Нива». Когда совсем нечего было делать, то мы их вытаскивали и раскрашивали картинки.
Из спальни родителей еще одна дверь вела в детскую комнату. Здесь, кроме двух кроваток, помещались шведский книжный шкаф, на одной из полок которого — зоосад А.П. Карпинского90, два письменных столика — Люсин и маленький мой. У Люсиного стола — книжная полка, на столе лампа и маленький глобус. Люся очень серьезно относилась к наукам, много занималась и читала, за что Ника дразнила ее зубрилой. У изголовья Люсиной кровати висело небольшое распятие. В детстве под влиянием Аннушки она была очень набожная, каждый вечер молилась, целовала распятие. Над моей кроватью висела географическая карта Африки. Когда папа подходил к моей кроватке пожелать спокойной ночи, он рассказывал мне о природе и обычаях африканцев, вспоминал стишок о крокодилах и реке Ниле (к сожалению, я его забыла). У моего изголовья висела картинка-олеография «Христос в окружении ангелов», Я также перед сном читала молитву (в произвольной форме), прося у Бога здоровья всем родным и любимым.
В детской обои завершались бордюром с занимательными сюжетами из жизни детей, рассматривать которые было преинтересно.
Бывали такие счастливые дни, когда Люле разрешали остаться у нас ночевать. В детской еще до завтрака мы начинали устраивать разные шалости: борьбу подушками, шутки с переодеванием наподобие театральных сцен. Игры с участием Люли всегда были живыми и интересными. Одна из таких занимательных игр длилась не один год, строилась на импровизированных сюжетах и Люлиной изобретательности. Еще мы с Люсей увлекались рисованием туалетов для своих бумажных кукол. Анна Алексеевна Геннерт нарисовала и подарила двух куколок одетых в нижнее белье.
90 Александр Петрович Карпинский подарил Нике и Люсе скульптурки диких животных из тонированного гипса. Они были небольшого размера и иногда участвовали в кукольных играх.
Потом Люся мне нарисовала еще маму, дочку, сына, мужа, бабушку. Отец семейства, конечно, был капитан дальнего плавания, его молодая стройная жена Инга скандинавка, а бабушка — это моя милая Бабенька — наша Аннушка. Все это семейство я наделяла различными жизненными историями — отголосками услышанного, прочитанного взрослыми и собственными фантазиями. (Признаюсь, рисовать платья я продолжала лет до двадцати.)
Соседняя с нашей детской комната принадлежала Нике. Широкое, высоко расположенное окно было обращено на запад, кровать помещалась как бы в алькове, образованном срезом крыши, в комнате был небольшой туалетный столик и большой письменный стол. Надо сказать, что величина стола не способствовала усердию Ники в науках. Ее характер удивительно был похож на характер Тали — маминой сестры. Мама иногда по ошибка называла ее Талей.
Следующая комната, крайняя направо, — это комната Аннушки. Большое окно также смотрело на запад. Кровать с перинами, лоскутным одеялом и множеством подушек выглядела очень уютной. Большой комод и столик дополняли меблировку этой комнаты. Из комнаты Аннушки вела крутая лестница на чердак, вход задвигался специальными щитами. Чердак был огромным, там сушили белье после стирки.
Между комнатой Аннушки и лестницей вниз находилась уборная. Это было узкое длинное помещение с окном наверху. В уборной стоял большой платяной шкаф, на котором в футляре лежала дедушкина скрипка. Иногда сестры запирались в уборной, чтобы попиликать на этой скрипке.
Возвращаюсь к кульминации зимних удовольствий — Рождеству.
Елка установлена в гостиной и украшена, от нее пахнет хвоей и праздником. Занавес в гостиную опущен и плотно задернут. Мы в столовой накрываем на стол, из кухни проникают соблазнительные запахи. Нас отправляют наверх нарядиться. Мы быстро одеваемся и с замиранием сердца ждем звуков рояля. Мама берет несколько аккордов — мы летим вниз. Занавес в гостиную распахнут, и под елкой с зажженными многочисленными свечами находим свои подарки. В этот момент было очень важно не ошибиться и раскрыть именно свой пакет. Я ужасно волновалась, пожалуй, даже больше, чем потом на экзаменах в школе. Подарки бывали разные — и лакомства, и игрушки, и книжки. Бросались благодарить маму и папу. Все были счастливы... Потом в столовой сочельник завершался праздничным ужином.
На следующий день утром, едва одевшись, а иногда и не вполне, бежали вниз снова смотреть подарки — те, что остались под елкой. В гостиной цвела камелия, солнце заливало комнату, елка поблескивала игрушками... Казалось, весь мир улыбается!..
В рождественские праздники жизнь переносилась в гостиную. Часто приезжали гости: Татьяна Львовна с Маргаритой Николаевной Зелениной, Мария Викторовна Тарковская (сестра Е.В. Тарле), Тамара Александровна Колпакова или папины коллеги по Лахтинской экскурсионной станции — Наталия Петровна Серебренникова и Борис Владимирович Пестинский, не говоря о молодых людях — Вове Лежоеве и Шуре Алешко — воспитанниках станции. Если гостей не было, то ничуть не становилось скучно: папа был свободен от службы, с удовольствием придумывал разные игры с нами. Самой его любимой игрой были прятки. Папа бросал кого-либо из нас на диван в своем кабинете, задвигал дверь, и вместе с остальными прятался в доме. Тем, кто был еще мал, найти папу было трудно. Для них папа облегчал задачу, показывая путь, как его найти: в столовой лежала его туфля, на лестнице — вторая, наверху — пиджак, в халле — жилет, а за дверью спальни был сам папа. Радость постепенного нахождения была необычайной!..
С мамой мы пели детские песенки «Есть в лесу темном избушка, стоит задом наперед, а в избушке той старушка — бабушка-яга живет...» и «Кошка Машка и Мяушка, Васька кот и кот Мордан как-то в детскую забрались и уселись на диван...» — дальше о проделках кота Мордана. Эту песенку я любила больше всех других. Ну, конечно, и рождественскую песенку «О, Tannenbaum...» и «Новгород великий, город буйных сил...». Когда я немножко подросла, мы с Люсей танцевали под мамину музыку. То мог быть и Бетховен, и Шопен, и Григ... Наши танцевальные импровизации строились на сюжете, который рождался из характера музыки — лирической или драматической. Позже, уже во второй половине 1930-х годов, когда у нас вновь появился рояль, мы с Люсей продолжали эти танцевальные импровизации.
За Рождеством шел черед дней рождения членов семьи. Дни рождения родителей отмечались скромно. Мы заранее готовили подарки: рисунки со стишками, картинки, вышивки. Что-нибудь вкусное готовилось на кухне, одевались по-праздничному и день проходил в приподнятом настроении. Дни рождения детей, напротив, проходили шумно и весело. Приглашали друзей — девочек и мальчиков, устраивали в гостиной разные игры, например «море волнуется». Посреди комнаты ставили стулья спинками друг к другу на один меньше, чем количество играющих. Кто-нибудь садился за рояль, и под спокойную музыку все должны были ходить, пока не зазвучит бравурная музыка — тогда надо было успеть занять стул. Тот, кто остался без места, должен был спеть, сыграть или станцевать.
Другой любимой игрой была «пробка». Кто-то один удалялся в соседнюю комнату, а оставшиеся ставили на видное место пробку от бутылки.
Удаленный возвращался и под общий смех и возгласы «холодно», «тепло», «жарко» отыскивал пробку. Была еще игра в «колечко»: присутствующие садились в кружок и брали в руки веревочку, на которую было надето колечко. Один из играющих стоял в центре. Он должен был угадать, в чьих руках находится это колечко, которое все время передавалось от одного к другому. Когда Ника и Люся подросли, то стали играть с друзьями в шарады. Все эти игры комнатные, так как дни рождения падали на зимние и весенние месяцы. Не помню, чтобы устраивались пышные застолья. Скорее всего, чай с домашним печеньем и вареньем. Продолжением общих праздников было Вербное воскресенье. Приведу воспоминания Люси.
«Верба — один из самых веселых, пестрых праздников. Нас, детей, особенно привлекал Вербный базар, который длился всю Вербную неделю, предшествующую Страстной. Заканчивался праздник Вербным воскресеньем. Вербная неделя приходилась на Великий пост, но нас это ничем не ограничивало, так как никакие посты у нас в семье не соблюдались.
Вербные базары в Петрограде всегда устраивались на Большой Конюшенной улице. Вдоль бульвара по обе его стороны располагались небольшие ярко разукрашенные ларьки. Торговали в них, главным образом, сладостями и игрушками, а также канцелярскими принадлежностями, галантереей и всякой мелочью. Традиционными угощениями были халва, коврижки и леденцы. Большим успехом пользовались пирожки — "с пылу, с жару — пятачок за пару\" На прилавках выставлялось обилие разнообразных поделок — частной продукции начала НЭПа.
Бульвар кишел народом — в основном детьми и просто зеваками. Среди базарной толпы толкались продавцы мелких нехитрых поделок — "тещиных языков", "морских жителей"91, "раскидаев" и проч. Продавцы заманивали покупателей всевозможными свистками, дудочками и забавными присказками. Стоял невообразимый шум, писк и визг. В общем, толкаться среди всего этого гама было весело и интересно. Но больше всего привлекала, конечно, карусель. <...> Карусель — это еще не завершение праздника. Предстояло катание на вейке.
Вейки — легкие обычные извозничьи саночки с лошадками, разукрашенными пестрыми ленточками и бумажными цветами. Цветы и ленты вплетались в гриву и хвост, а под расписной дугой звенели колокольчики. У самых богатых хозяев сбруя была очень нарядная, с бубенцами и медными бляхами. Мама договаривалась с кучером, мы садились в санки, ноги прикрывались медвежьей полостью. Счастливые, мы неслись по городу. В те времена снег
91 «Тещин язык» — пронзительная свистулька. Из нее высовывался длинный бумажный язык. «Морской житель» — забавный выдутый из стекла маленький человечек, который сидел в пробирке с водой, сверху пробирка завязывалась тонкой резиновой пленкой. При надавливании пальцем на пленку и резком отпускании «морской житель» прыгал вверх и вниз, как водолаз.
с улиц не убирался, только кое-где его разгребали. Мостовые были булыжные, а на главных проспектах — деревянные торцовые. Асфальта в Ленинграде тогда еще не было. Дорога была прекрасно накатана. Наш путь кончался на Финляндском вокзале. Пофыркивающий паровик увозил нас домой в Ольгино с массой впечатлений и кучей дешевеньких покупок.
В Вербную субботу вечером мы шли в церковь святить вербу. Наша Аннушка — Бабенька — и я были одни из самых аккуратных прихожан нашей маленькой уютной деревянной церковки. В большие праздники иногда к нам присоединялись мама и кое-кто из ее друзей, гостивших у нас в это время. Обычно это была Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. В руках у всех букетики вербы, перевязанные цветной ленточкой. Возвращаясь в темноте, мы несли с собой "святые огоньки" — свечи, зажженные от церковных лампадок. Наш путь составлял около километра, и сберечь огонек от свежего весеннего ветра было нелегко. Существовали даже специальные приспособления в виде стеклянных вазочек для защиты свечи от ветра.
Народ расходился из церкви с огоньками в руках, мерцавшими в темноте, как светлячки. Донести домой непотухший огонек было особой доблестью. Дома от этого огонька зажигались лампадки — одна в столовой, другая на кухне. Иконы украшались букетиками вербы. Тихо теплится живой огонек в цветной лампадке, создавая какую-то особую умиротворенную обстановку, особенно при погашенном электричестве»92.
С приближением Пасхи было много хлопот, особенно на кухне: пеклись куличи, растирался творог, вкусно пахло ванилью и другими специями. В духовке запекался окорок. Занимательным занятием было крашение яиц. Мы с мамой усаживались в столовой вокруг стола. Разного цвета лак для яиц, кисточки и собственная фантазия превращали яйца в пестрый цветистый букет, когда их складывали на тарелку... Вечером шли в церковь на Лахту и возвращались к празднично накрытому столу. Не помню, чтобы по-настоящему постились. В будние дни всегда питались скромно. Великий пост соблюдали лишь Аннушка и, возможно, Люся. Радость прихода весны, возрождения природы и чего-то большого, доброго, светлого — такими остались у меня в памяти дни праздника Пасхи.
Чтобы закончить с церковными праздниками, приведу воспоминания Люси о Троице, которая, несмотря на свою раннюю набожность, о символическом смысле праздника тогда почти ничего не знала:
«У нас же праздник состоял главным образом в том, что мы всей семьей, включая нашу домработницу Анну Власьевну — Бабеньку, как мы, дети, ее
92 Сапрыкина В.П. Ольгино, Полевая, 5 // Михайлов Н.В., Лахта. Пять веков истории. СПб., 2001. С. 272-274.
называли — шли в субботу в лес за березками. Готовились к этому походу с вечера. Приготавливали себе старенькую обувь и далеко не праздничную одежду. Мы, девочки и мама, повязывали головы на деревенский манер ситцевыми косынками. Утром папа и Бабенька брали топорики и все запасались веревками. Шли напрямик через поле к темнеющей вдали полоске леса. Происходило варварское, с современной точки зрения, уничтожение молодых березок. Папа срубал отдельные молодые деревца, высотой 1,5—2 метра, а мы ломали ветки. Выбирались самые красивые, свежие, с липкими молодыми листочками. Каждый связывал себе вязанку, перекидывал через плечо, и мы двигались назад.
Всякое путешествие на природу, в лес, вместе со взрослыми доставляло большую радость — это уже был праздник. Березками украшали все комнаты. Большие деревца ставили в углах столовой и гостиной. Из-за картин и икон выглядывали зеленые веточки. У нас в детской за кроватями зеленели деревца, украшался и кукольный уголок. По всем комнатам распространялся аромат весеннего леса. Очень приятно было засыпать в этот вечер и просыпаться наутро в березовой роще.
Завтрак был праздничный — с ароматным кофе, домашним печеньем за белой скатертью, украшенной желтыми японскими салфеточками из какого-то необычайно прозрачного шелка, привезенными папой из Владивостока. Пили из английских прабабушкиных розовых чашек. Так стол выглядел только в особо торжественных случаях. Так как березки стояли без воды, то, к большому нашему огорчению, через несколько дней они начинали вянуть. От праздника оставалось приятное воспоминание и легкий запах увядшей листвы»93.
1926
В середине 1920-х годов Академию наук особенно привлекала возможность возобновления международных связей для решения научных проблем. «Теперь главная задача Академий вообще, а следовательно и нашей, создать общую научную работу в мировом масштабе. Трудно сейчас даже представить громадные результаты этой объединенной работы, но и теперь ясно, что они будут громадны»94, — писал С.Ф. Ольденбург в академическом журнале. В это время научные конгрессы в разных странах Европы и Азии не обходились без участия русских исследователей, практиковались обмены учеными, совместные работы в лабораториях, обмен научными изданиями и коллекциями95.
93 Сапрыкина В.П. Ольгино, Полевая, 5 // Михайлов Н.В. Лахта. Пять веков истории. СПб., 2001. С. 272-274.
94 Ольденбург С.Ф. 200 лет работы Академии // Природа. 1925. № 7—9. С. 3.
95 Молк. Б.М. Международные сношения Академии // Академия наук за 10 лет 1917-1927. Л., 1927. С. 201-215.
Международные контакты в области изучения Полярных стран задуманы были еще в XIX веке. В 1879 году в Гамбурге была создана Международная Полярная комиссия. В 1882—1883 годах она организовала Первый международный полярный год — одновременное изучение учеными разных стран Арктики и Антарктики. Результатом явились 37 томов описания географии Полярных стран. В 1905 году в Бельгии собралась Вторая Полярная комиссия, а в 1913 году была поставлена задача объединения исследований Полярных стран и ведение их едиными методами96. Первая мировая война помешала осуществлению этого замысла. И только в середине 1920-х годов контакты ученых возобновились.
В 1926 году в Англии в Кембридже был открыт Институт исследования Полярных стран имени Роберта Скотта. По поводу открытия этого института папа написал обстоятельную статью. В ней он поддержал тех ученых, которые стремились объединить полярных исследователей всех стран как практиков, так и историков, создать специально укомплектованную библиотеку, полярный архив и музей, где были бы собраны рукописи, дневники, карты, записи очевидцев и, конечно, материалы экспедиций и плаваний, а также образцы полярного снаряжения с указанием основных характеристик (вес, материал, прочность и др.), их изготовителей, отзывы полярников, чтобы на опыте предыдущих исследователей не повторять их ошибок.
Развивая мысль о необходимости создания при институте музея, папа писал, что полезно коллекционирование снимков и негативов прошлых экспедиций. Его украшением, по его мнению, должна была бы служить картинная галерея ландшафтов Полярных стран и портреты всех выдающихся полярных исследователей.
«Основанный при институте музей должен выявить целокупную природу полярных стран на основании того богатейшего материала, который годами собирался экспедициями и редко где был выявлен настолько полно, чтобы дать хотя бы приближенное представление о полярном ландшафте, геологическом строении, флоре и фауне, так как в общих естественноисторических музеях Арктике и Антарктике отведено скромное место лишь в виде второстепенных отделов»97.
Папа считал, что пока Институт Полярных стран не располагает собственным зданием, а находится в стенах Кембриджского университета, то решение
96 «Аэроарктик». Труды 2-й Полярной конференции. Л., 1930. С. 1-Х.
97 Виттенбург П.В. Институт исследования Полярных стран // Научный работник. 1926. № 10. С. 73.
о местоположении музея Полярных стран должно быть принято на международной конференции.
В том же 1926 году В. Брунс и Л. Брейтфус созвали в Берлине I съезд Международного общества «Аэроарктик», созданного ими еще в 1924 году. Председателем общества был избран 75-летний Фритьоф Нансен. Его дочь Лив вспоминает, что он до последних дней жизни лелеял мечту самому провести изыскания Северного морского пути98.
Папе предстояло несколько командировок за границу. Приведу выписку из протокола заседания президиума Академии наук:
«§ 15. Доложено: 1) Просьба КЯР разрешить заграничную командировку Ученому секретарю Комиссии П.В. Виттенбургу с 10/IV по 15/VI с.г. в Норвегию и Германию для ознакомления с техникой судостроения в целях выработки наиболее целесообразного типа судов каботажного плавания в полярных условиях, между устьями рек Колымы и Лены и 2) дополнительная просьба П.В. Витгенбурга о той же командировке с указанием на необходимость быть в Швеции и Норвегии в связи с работами по изучению геологии о. Шпицберген, так как у него находится в обработке не только фауна триасовых отложений по сборам Ф.Н. Чернышева, но и собранные шведскими и норвежскими экспедициями материалы. Кроме того, П.В. Виттенбург предлагает ознакомиться там же с работами в области техники экспедиционного дела, которым ныне Комиссия по научным экспедициям уделяет особое внимание, и желал бы посетить и Германию»99.
Эти командировки папа получил, но ему хотелось еще летом принять участие в Международном геологическом конгрессе в Мадриде. Но это оказалось невозможным, так как у Академии уже не осталось денег.
Командировки в Швецию и Норвегию прошли успешно. Папа имел полезные встречи с Ф. Нансеном, О. Свердрупом в связи с необходимостью приобретения судна для геофизической обсерватории на острове Большой Ляховский (Новосибирские острова). Там же он получил возможность обсудить специальные вопросы с коллегами-геологами, ознакомиться с собраниями музеев Стокгольма и Христиании, где хранились материалы по исследованиям острова Шпицберген. Осенью папа поехал в Берлин на 1 съезд Международного общества «Аэроарктик». Собрались ученые девяти государств (Англии, Германии, Норвегии, Испании, СССР, Финляндии,
98 Нансен-Хейбер Л. Книга об отце. Л., 1971. С. 402.
99 Протокол заседания Президиума АН от 11.03.1926 // СПб ФАРАН, ф. 4, оп. 4,д. 886, д. 113.
Франции, Эстонии, Японии). На съезде было решено предпринять полет в Северные полярные страны на дирижабле100.
К этому времени состоялся раздел районов Арктики между государствами. Советский Союз решением ВЦИК весною 1926 года объявил «о принадлежности к его территории всех уже известных, или имеющих быть открытыми в будущем земель, островов, расположенных в секторе, образованном меридианами, проходящими от точки побережья у северной части Советско-Финляндской границы <...> и между островами Ратманова и Крузенштерна в Беринговом проливе»101. Необходимость раздела Арктики была вызвана многими причинами, в том числе и потребностью обеспечения работы полярных станций для проведения метеорологических и аэрологических наблюдений.
Вслед за съездом общества «Аэроарктик» также в Берлине происходила международная конференция по проблемам фотометрии, в то время совершенно нового направления. Получив разрешение продлить командировку до 26 ноября, папа принял участие в работе и этой конференции. По возвращении в Ленинград он прочел доклад в Гидрологическом институте о фотометрических методах исследования и их применении. «В результате поездок П.В. Виттенбурга за границу Полярный отдел (Геологического музея) вступил в сношения с целым рядом музеев: Швеции, Норвегии и Германии. Намечен также обмен коллекциями и гипсовыми слепками», — сообщалось в отчете Геологического музея102.
Папины командировки в Норвегию и Швецию совпали с перелетом Роальда Амундсена на дирижабле «Норвегия» из Рима через Северный полюс на Аляску. Остановка «Норвегии» была под Ленинградом в Гатчине (тогда г. Троцк). Дирижабль прилетел 15 апреля, а 25 апреля географический факультет университета устроил прием в честь участников экспедиции. Одним из членов экспедиции был известный полярный исследователь 27-летний швед Финн Мальмгрен. На него «в этом полете была возложена обязанность проводить не только текущие метеорологические наблюдения, но и предсказывать погоду во время пути на основе данных, сообщаемых по радио»103. Мальмгрен, заинтересованный в налаживании четкой и
100 «Аэроарктик». Труды 2-й полярной конференции. Л., 1930. С. XIV.
101 Левинский К.Н. Раздел приполярных областей // Вестник знания. 1928. № 13.С. 670; Белов М.И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 3. Л.,1959. С. 457.
102 СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 2, д. 87, л. 107.
103 Воспоминания В.Э. Делакроа // Личный архив Н.С. Несмелою.
устойчивой радиосвязи, попросил устроителей встречи познакомить его с опытным радистом, работавшим в экспедиционных условиях. Таким радистом оказалась папина племянница Валида Делакроа. По-видимому, перед отъездом за границу папа их познакомил. Валида уже имела семилетний стаж работы радистом, из которых пять лет — в довольно сложных условиях на судах дальнего плавания. Валида свободно общалась на немецком языке с Ф. Мальмгреном, она охарактеризовала ему особенности приема информации при различных состояниях погоды. Мальмгрен и Валида подружились, позднее она писала: «В его характере великолепно сочетались упорство ученого, здоровая жизнерадостность и юмор»104. Мальмгрен пригласил Валиду осмотреть воздушный корабль и предложил в качестве радиста принять участие в этом полете, но от участия в полете ей пришлось отказаться — тяжело болела ее мать.
«Утром 5 мая 1926 г. дирижабль медленно пролетел над проспектом 25 Октября (Невским). На неярком утреннем солнце "Норвегия ослепительно блестит. Хорошо видна надпись "Норге I". Люди шапками и платками машут вслед воздушному кораблю. Стрекочущий звук моторов удаляется и уже еле слышен. Дирижабль взял курс на Шпицберген»105.
Папа получил персональное приглашение участвовать во II Всесоюзном геологическом съезде и в октябре 1926 года выехал в Киев. Там он выступил с докладом о геологических работах, проводимых Якутской комиссией.
Занятость папы по организации исследований в Якутской республике, изданию трудов и материалов — результатов работ партий, привела его к мысли о необходимости отойти от работы в качестве ученого секретаря Постоянной комиссии по экспедициям, несмотря на его заинтересованность в наилучшей научной организации экспедиционного дела. За три года работы сделано было немало: с одной стороны, Академией были охвачены вниманием все экспедиционные исследования в стране, в том числе и краеведение, в целях согласования их действий; с другой — попытки развернуть плановое комплексное исследование территорий. Об этом свидетельствует хотя бы пятилетний план исследований Новой Земли (не осуществленный полностью из-за отсутствия финансирования) и организация работ Якутской комиссии. Кроме того, с весны 1925 года комиссией было введено чтение публичных лекций о деятельности экспедиций и сообщения о командировках как по Союзу, так и в зарубежные страны. За три года работы папы в качестве ученого секретаря комиссии по экспедициям было
проведено 56 естественноисторических экспедиций, 18 гуманитарных, две комплексных (Северный Урал и Якутия) и большое количество научных командировок. Как ученый секретарь, папа вел многочисленные переговоры и переписку с различными учреждениями страны в целях координации и организации взаимопомощи проводимых экспедиций106.
12 апреля 1926 года председатель Комиссии по экспедициям С.Ф. Ольденбург доложил правлению Академии о просьбе папы освободить его от обязанностей ученого секретаря комиссии. В тот же день папа получил письмо от С.Ф. Ольденбурга:
«В связи с оставлением Вами должности Ученого секретаря Комиссии по экспедициям, которую Вы исполняли с таким успехом в течение трех лет, Президиум Академии наук поручил мне выразить от его имени большую и искреннюю благодарность Вам за Ваш труд по несению указанных сложных обязанностей. С особым удовольствием выполняя это поручение Президиума, не могу вместе с тем не выразить Вам и лично моей, как непременного Секретаря и Председателя Комиссии по Экспедициям, признательности за Вашу энергичную работу в Комиссии, всегда проникнутую интересами и пользою дела»107.
На заседании комиссии по экспедициям 4 мая 1926 года папа принес свою благодарность С.Ф. Ольденбургу за руководство и помощь в работе комиссии. Сергей Федорович выразил надежду, что комиссия по экспедициям не лишится П.В. Виттенбурга как своего члена. Постановили: просить П.В. Виттенбурга остаться членом. На том же заседании его включили в комиссию под председательством А.Е. Ферсмана по изданию отчетов экспедиций. На следующем заседании было решено просить В.И. Вернадского, В.И. Крыжановского и папу выступить в защиту смет геологических экспедиций Академии в Ленинградском бюро Госплана. И в дальнейшем папа продолжал участвовать в работе комиссии по экспедициям, пока она существовала.
В этом же году при Академии создавалась новая структура — Особый комитет по исследованию союзных и автономных республик (ОКИСАР), поддерживаемый Совнаркомом, под председательством А.Е. Ферсмана108. Цель комитета — организация исследования национальных республик
106 СПб ФАРАН, ф. 138, оп. 1, д. 11, л. 3 и далее.
107 Письмо С.Ф. Ольденбурга к П.В. Виттенбургу от 12.04.1926 // СПб ФАРАН, ф.4, оп. 4, д. 886, л. 127.
108 СПб ФАРАН, ф. 138, оп. 1, 1925, д. 6, л. 8.
со стороны практических запросов культурно-хозяйственного значения109. Казахская, Туркменская, Таджикская, Бурято-Монгольская, Карельская и Киргизская республики обратились в Академию наук с соответствующей просьбой. В ОКИСАР Якутская комиссия не вошла, она осталась самостоятельной. ОКИСАР в значительной мере потеснил комиссию по экспедициям, хотя имел несколько другие экономико-хозяйственные задачи. Через два года, в 1928 году, ОКИСАР был реорганизован110 в Комиссию экспедиционных исследований (КЭИ). В стране началась пора всеобщей реорганизации.
Еще от одной нагрузки папа просил освободить его — от заведования библиотекой Геологического и Минералогического музеев111 (он выполнял это поручение в течение пяти лет). Время от времени на заседаниях совета музея он докладывал о состоянии библиотеки, пополнении ее отечественными и иностранными периодическими изданиями, приобретении геологической литературы из разных научных и частных библиотек города, об отправке дублетных экземпляров в Хабаровский музей и тому подобное. В 1923 году библиотека насчитывала 17114 названий112. При переезде Геологического музея в новое здание она получила новые возможности для роста. Библиотека, помимо книг и периодики, включала также и картографический фонд. В 1925 году ассигнования на новые приобретения составили 11 тысяч рублей113.
На заседании ученого совета Геологического музея 24 марта 1926 года «Зачитано заявление П.В. Виттенбурга с просьбой о снятии с него обязанностей по заведованию библиотекой Геологического музея»114. Заведование библиотекой поручили Р.Ф. Геккеру.
Командировки этого года предоставили папе возможность повидаться со своей сестрой Вандой и братом Вильгельмом. По пути в Швецию в 1926 году папа остановился в Гельсингфорсе и встретился там с Вандой. К этому времени она жила одна с двумя сыновьями — двенадцатилетним Акселем и девятилетним Эриком. Муж ее, Константин-Аксель-Рафаель
109 Ферсман А.Е. Экспедиционная деятельность // Академия наук СССР. 1917—1927.Л., 1927. С. 167-168.
110 Покровский М.Н. К отчету о деятельности Академии Наук за 1926 год // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 595.
111 Когда в 1925 году Геологический и Минералогический музеи снова разъединились, библиотека осталась при Геологическом музее (см.: СПб ФАР АН, ф. 128, оп. 2, д. 11, л. 124).
112 Там же, л. 65.
113 Там же, д. 85, л. 8.
114 Там же, л. 20.
Армфельт, оставил семью еще в 1923 году. Ванда тогда тяжело заболела и долго лежала в больнице. Детей поместили в приют. Поскольку доходы бывшего мужа оставались небольшими, Ванде жилось трудно. Дети учились. Как мы узнали позднее, с 1932 года положение семьи несколько поправилось, так как мальчики стали работать, а через несколько лет обрели собственные семьи. В 1960 году Аксель-младший с женой Улли купили квартиру, в которой жили все вместе. В 1966 году восьмидесятишестилетняя Ванда пожелала переехать в дом престарелых лютеранского прихода «Люднет», что означает спокойствие. Там, в покое и довольстве, она прожила еще десять лет. Умерла 6 марта 1976 года. От Ванды в 1926 году папа, видимо, узнал и о судьбе своего старшего брата Сергея, о том, что он умер в 1921 году в Эстонии.
К сожалению, в то время папе ничего не было известно об Эрне, его любимой племяннице. Оказывается, в это время она тоже жила в Гельсингфорсе. С тех пор как Эрна уехала из Петрограда, мы о ней ничего не знали. Только в 1995 году выяснилось, что Эрна уехала в Финляндию, чтобы соединить там свою судьбу с избранником сердца Алексеем Парменовичем Шеншиным — одним из представителей рода Шеншиных, к которому, как известно, принадлежал поэт Афанасий Шет. (Впоследствии их внучка Вероника посвятила свою жизнь изучению творчества Афанасия Фета.) Для того чтобы обвенчаться, Эрна считала необходимым получить благословение матери Алексея Парменовича — Софии Алексеевны, жившей в то время в Орловской губернии. Несмотря на ужасы Гражданской войны, Эрна пробралась в Касьяново, и София Алексеевна благословила ее на брак с сыном. Свадьба состоялась 30 мая 1924 года в Сердоболе (Сортавала).
Алексей Парменович окончил Александровский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище, служил в канцелярии двора его императорского величества. В Первую мировую войну пошел в ополчение и сражался в артиллерийских частях русской армии. В 1921 году служил в Кронштадте, после подавления Кронштадтского восстания ушел по льду Финского залива в Финляндию. После смерти мужа в 1935 году Эрна со своим маленьким сыном Шурой в Финляндии жила очень трудно, терпела лишения. Она постоянно искала кого-либо из родных, но с Россией, как мы знаем, контакты в то время были невозможны. В начале 1960-х годов, во время так называемой хрущевской оттепели, она попыталась наладить связь через Ригу со своей сестрой Валидой, но встреча и тогда была невозможна. Как стало известно, Эрна умерла 84-х лет в Хельсинки в 1975 году и похоронена там же на русском кладбище. Как ни горько, надо отметить, что общения между тетей и племянницей не было, хотя они
жили в одном городе. Только в последние годы, благодаря поиску недостающих ветвей генеалогического древа, по папиной записной книжке 1923 года мне удалось разыскать семью Александра, сына Эрны, познакомиться и получить эти сведения.
Во время Геологического съезда, проходившего в Киеве, папа встретился с братом Вильгельмом и его семьей. Дядя Виля был видным врачом-гинекологом. Сохранилась фотография, где вся семья запечатлена во время приезда папы. Братья сильно отличались друг от друга. Виля, более крупный и плотный мужчина, рано поседевший, носил черные большие закрученные усы и бородку. Папа, более похожий на своего отца, высокий и стройный, с тонкими чертами лица, имел проседь в волосах, у него были небольшие усики и эспаньолка. Особой близости между братьями не было. Интересно, что различие их натур сказалось и в том, что Виля считал себя немцем и ценил свою принадлежность к этой нации, а папа считал себя русским и вовсе не из-за каких-либо конъюнктурных соображений: раз живет и работает в России — значит, русский. Тем не менее они оба были в равной мере патриотами России. Папу приветливо встретила жена дяди Вили — Нина Александровна и их одиннадцатилетний сын Владимир.
Куда бы папа ни уезжал, он всегда находил время прислать нам, детям, каждому персонально, открытку с видом тех мест, где он был, и написать несколько слов. Мы очень радовались и гордились личной корреспонденцией.
Тем временем жизнь в стране значительно изменилась — НЭП принес изобилие. В Ольгино появилось множество разносчиков. По домам крестьянки разносили прекрасный творог, сметану, молоко, масло. Торгующие различались, так сказать, по специальностям: были торговцы свежей рыбой, парным мясом, свежеиспеченными булками, а летом — всевозможной зеленью. Огромные плоские корзины каким-то чудом держались у них на голове. Продавец шел вдоль улицы и громкими выкриками предлагал свой товар. Тот, кто уже был знаком хозяевам, входил в сад. Аннушка договаривалась с ними, когда и что именно надо принести. Я особенно любила булочника. У него всегда бывали мои любимые рогалики — небольшие хрустящие подковки с маком. Мы все покупали у разносчиков, только за ржаным хлебом Аннушка ходила в лавочку.
В 1926 году среди наших близких друзей появилась новая семья, которая во всей нашей дальнейшей жизни принимала участие и не побоялась репрессий — это семья Безруких: Павел Ефимович, Александра Федоровна, его жена, и Зоя — их дочь, моя сверстница. Жили они в Ленинграде, но часто гостили в Ольгино. Надо сказать несколько слов об отце семейства.
Ко времени нашего знакомства (познакомила нас с ним Т.Л. Щепкина-Куперник) Павел Ефимович был плотный средних лет мужчина. Он занимал пост начальника Октябрьской железной дороги, ректора Института путей сообщения. Будучи революционером «первой волны», если так позволительно выразиться, был романтиком и поэтом. Он участвовал в революционных событиях на юге России115. По мере установления советской государственности, революционный романтизм вытиснился объективным взглядом на современность. Это стало заметно властям, и в конце 1920-х годов его направили посланником в Персию; в 1930—1931 годах — членом советской миссии в Германию (Мюнхен); затем он долго болел, чуть не умер после операции в Кремлевской больнице (жена подозревала, что его намеренно заразили туберкулезом почек); был главным редактором литературно-художественного журнала «30 дней», хранителем Пушкинского заповедника в Михайловском и последнее — председателем ВТО. Все перечисленное не дает представления о его светлой личности. Большое счастье встретить в жизни такого человека! Его внимательное доброе участие, освещенное тонким умом, раскрывало совершенно новые горизонты жизни. От общения с ним совсем другими глазами смотришь на мир, он предстает более ясным и значительным. Павел Ефимович был широко образованным человеком и замечательным собеседником116.
Александра Федоровна была значительно моложе мужа, миловидна и женственна. Между супругами царила нежная заботливая любовь. Александре Федоровне посвящены многие стихи мужа. Мама с ней, единственной из всех своих приятельниц, была на ты. Александра Федоровна намного пережила и своего мужа, и дочь Зюкашу.
В раннем детстве мы с Зоей очень дружили, хотя иногда и ссорились. Позже, когда их семья переехала в Москву, а мы были еще младшими школьницами, то вели между собою оживленную переписку. О чем же можно писать в этом возрасте? Остались кое-какие письма. Предметом переписки были... лошади (!) Каждая из нас «владела» несколькими любимыми лошадками. Они имели имена и свои повадки.
В 1920-е годы Безруких часто у нас бывали, а летом жили подолгу. Они любили, когда мама играла на рояле. Помню, как однажды летом мы с Зюкой бегали вокруг дома, а через балконную дверь слышалась музыка, вдруг Зоя остановилась, зажмурила глаза и сказала: «Как хорошо спать под музыку»!
115 Эта его деятельность нашла отражение в экспозиции Краеведческого музея Ростова-на-Дону.
116 Личный архив П.Е. Безруких хранится а ЦГАЛИ (ф. 2192, 392 ед. хр.).
Зимой заболела мама. Всегда деятельная и бодрая, она не вставала с постели. Лечил ли ее кто-либо, не знаю, болезнь затянулась, ей становилось все хуже и хуже. Отчетливо помню, как маму повели под руки из спальни вниз. Ее увезли в Ленинград в больницу скорой помощи. В халле я горько и безутешно рыдала среди своих кукол, на меня, естественно, никто не обращал внимания. Меня, еще не понимавшую значения случившегося, приводило в отчаяние расставание с мамой и было жалко себя (!). Доктор Рабинович сделал маме операцию, и через какое-то время она вернулась домой, очень слабая. Папа привез ей из Германии розовый махровый халат, весь как бы заплетенный белыми паутинками (в то время махровые халаты были редкостью). Мама приходила в себя постепенно, куталась в этот розовый халат и часто полеживала.
На время отсутствия мамы срочно вызвали жену маминого дяди, тетю Мили Шмунк. Она жила в Ленинграде на Английском проспекте и с готовностью приехала к нам. Тетя Мили говорила по-русски с немецким акцентом, была очень добрая и ласковая. Мы, дети, ее беззаветно любили.
Глава IV “Предписывать и регламентировать сверху”, Роковые годы. 1927–1930
Глава IV
«Предписывать и регламентировать сверху»,
Роковые годы. 1927-1930
Юбилейный год советской власти, 1927-й, для Академии наук оказался роковым — кончилась ее автономия как научного учреждения. На протяжении своей 200-летней истории Академия самостоятельно решала научные задачи, опираясь на авторитет ученых — членов Академии. Процесс подчинения Академии наук государству, превращения ее в советское учреждение, начался сразу после 1917 года и занял целое десятилетие. Ученые не оказывали сопротивления советской власти, но отстаивали свою независимость и пытались сохранить статус Академии наук как самостоятельного научного учреждения.
По мнению академика В.И. Вернадского, «государство должно дать средства, вызвать к жизни научные организации, поставить перед ними задачи. Но мы должны всегда помнить и знать, что дальше этого его вмешательство в научную творческую работу идти не может. <...> Задачей является не государственная организация науки, а государственная помощь научному творчеству нации»1.
В 1921 году непременный секретарь академик С.Ф. Ольденбург на торжественном собрании Академии напомнил:
«Учреждения научные, создающие величайшие и необходимейшие для страны ценности духовные, должны содержаться всецело государством и не могут
1 Вернадский В. И. Задачи науки в связи с государственной политикой России // Русские ведомости. 1917. 22—23 июня. Цит. по: Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. Сб. статей. М.: «Наука», 1995. С. 229—230.
быть приравнены к предприятиям, создающим ценности материальные, легко поддающиеся самой точной оценке и расценке <...>. Ценности духовные ни на каком рынке не расцениваются, их цену надо сознавать и понимать, и только тот народ и то государство сильны и жизненны, которые обладают этим сознанием. Попытка предписывать и регламентировать сверху может лишь убить всякую научно-исследовательскую работу, а не организовать и укрепить ее. Только путем бережного подхода, считаясь постоянно с единственно жизненным признанием свободной науки, можно действительно достигнуть громадных результатов не только в теории, но и на практике, достигнуть громадных результатов для жизни»2.
Но в 1925 году с присвоением Академии статуса высшего научного учреждения СССР она была выведена из подчинения народного комиссариата просвещения и передана в ведение Отдела научных учреждений Совнаркома, как упоминалось ранее. Совнарком образовал специальную комиссию для разработки нового устава Академии под председательством В.П. Милютина. Устав был разработан и в мае 1927 года утвержден Совнаркомом3. Постепенно деятельность Академии перешла в ведение трех учреждений Совнаркома. Комиссия Милютина, в которую также вошли А.Н. Бах, М.Н. Покровский, А.Я. Вышинский, В.П. Волгин и другие, рассматривала планы, отчеты и сметы Академии. Впервые ученые должны были согласовывать планы своих работ с государственными чиновниками и отчитываться перед ними. Мало того, заключения комиссии являлись секретными и оглашению не подлежали. Общие направления работ Академии, в том числе ее заграничные связи, контролировались комиссией Совнаркома по содействию работам Академии под председательством А.С. Енукидзе. Третье учреждение — Отдел научных учреждений Совнаркома (заведующий Е.П. Воронов) — занималось решением текущих дел. Чиновничий аппарат вокруг Академии разрастался... Непременный секретарь С.Ф. Ольденбург летом 1928 года получил разъяснение от Е.П. Воронова: «Правительство десять лет ждало и дало много авансов, но <…> на одиннадцатом году оно поступает с Академией наук по-своему. Академия не сумела понять и занять то положение, которое она должна занять в Советском государстве»4.
2 Российская Академия наук в 1921 году. Речь непременного секретаря академика С.Ф. Ольденбурга. Пг., 1921. С. 14-15.
3 Устав подписан 18.06.1927 Председателем СНК А. Рыковым и Управделами Н. Горбуновым // Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. № 34. Отд. 1. Ст. 367.
4 СПб ФАРЛН, ф. 208, оп. 2, д. 50, л. 34.
Кроме того, правительство посчитало необходимым пополнить состав академиков новыми кадрами. Постановлением СНК СССР от 3 апреля 1928 года число действительных членов Академии было увеличено с 70 до 855. Новые лица — Н. Бухарин, Г. Кржижановский, А. Деборин и другие — были избраны в академики.
Якутская комиссия пока продолжала работать согласно своему пятилетнему плану. К 1927 году председателем комиссии после А.Е. Ферсмана (1925) и Ф.Ю. Левинсона-Лессинга (1926—1927) был избран В.Л. Комаров. К этому времени работало десять полевых отрядов, которые в свою очередь делились на 24 подотряда. Ими были исследованы южные районы республики. За время работ было пройдено свыше 100 тысяч километров, участвовало в работах 177 человек научного персонала, из которых 73 непосредственно принимали участие в экспедициях, в том числе 34 молодых якутских краеведа.
Результаты работы каждого отряда — конкретные рекомендации по здравоохранению, организации хозяйства, наилучшему его ведению в разных климатических условиях республики. Была создана Центральная опытная агрономическая станция с сетью опорных пунктов. В Якутске открылась геофизическая обсерватория, которая вместе с метеорологическими и аэрологическими станциями изучала природные явления на всей обширной территории Якутии. В 1927 году ее удалось передать в ведение Главной геофизической обсерватории в Ленинграде, тем самым освободились средства для финансирования других отрядов. С продвижением экспедиционных исследований на север в 1927 году приступили к созданию аэрогидрометеорологической станции на острове Большом Ляховском. Углубленное исследование полезных ископаемых потребовало организации в Якутске геологической научной базы.
Кроме того, велась специальная работа по составлению «Библиографического сборника по Якутскому краю» (14000 названий), который предстояло издать по окончании работ. Были разработаны научно обоснованные положения по организации Якутского национального музея и библиотеки, а также Национальной картинной галереи. Второй год велась работа по составлению новой карты Якутии в масштабе 1:500000 с поправками и уточнениями по результатам работ КЯР. В Академии наук в Ленинграде проводилась подготовка якутских научных кадров по разным отраслям знаний. Все научные результаты деятельности экспедиций регулярно издавались в «Материалах» и « Трудах» КЯР. К этому времени вышло 20 выпусков
5 Материалы по истории АН СССР: 1917-1947 / Под ред. С.Вавилова. М; Л., 1950. С. 74.
«Материалов» и 12 томов « Трудов»6. Вышел в свет сборник «Якутия» под редакцией папы и с предисловием С.Ф. Ольденбурга. Сергей Федорович писал: «Настоящий сборник является как бы «Введением» в познание той новой Якутии, которой суждено, мы в этом уверены, стать цветущей, культурной страной. Когда для всех частей нашего обширного Союза появятся сборники, подобные настоящему, все вспомнят, что в этой важной научной серии — первой явилась «Якутия»»7. На личном экземпляре папы есть вклейка: карта Якутии (рисунок акварелью), и на ней текст: «Глубокоуважаемому Павлу Владимировичу Виттенбургу, вдохновителю этого ценного труда по исследованию далекой Якутии на добрую память от сослуживцев КЯР» (22 подписи).
В течение апреля в большом конференц-зале Академии демонстрировалась выставка к трехлетию работы Якутской комиссии. Экспонаты — материалы, собранные за это время сотрудниками всех отрядов и многочисленные фотографии. Демонстрировалась также кинолента аэрометеоролога Н.В. Пинегина, на ней была заснята с самолета река Лена на всем ее протяжении вплоть до устья. По отзыву современника: «На выставке собран целый комплексный музей, представляющий собою ценный вклад в специальный академический музей»8.
По просьбе правительства Якутской республики президиум Академии предоставил папе командировку в Якутию на 4,5 месяца. Перед правительством республики он выступил с докладом о работах и перспективных планах экспедиции, ознакомился на месте с ходом работ отрядов, как в самом Якутске, так и в отдаленных районах. Результаты работ некоторых отрядов дали возможность Якутскому правительству корректировать свои действия как в области районирования, так и ведения народного хозяйства. В декабре 1927 года на заседании президиума Академии наук папа доложил о работе КЯР. По окончании доклада было предложено: «Благодарить ученого секретаря КЯР профессора П.В. Виттенбурга за сделанный доклад и за большую важную выполненную им работу»9. В постановлении президиума подчеркивалось, что по экономическим вопросам правительству Якутской республики целесообразно обращаться в ОКИСАР, а КЯР занята лишь научными исследованиями.
6 [Виттенбург П.В.] Комиссия по изучению Якутской АССР (КЯР) // Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1927 г. Л., 1927. С. 238—244. Отд. отг.
7 Якутия. Л., 1927. С. VI, XIII, XXVI, 745.
8 АРГО, Ф. 65, оп. 1, д. 87, д. 1-2, 4.
9 Протокол заседания президиума АН от 31.12.1937 // СПб ФАРАН, ф. 47, оп. 4,д. 91, а. 1.
О работе Якутской комиссии папа не раз делал доклады в разных обществах, в том числе и в Якутском землячестве в Ленинграде. Он принимал участие в работах Общества социальной и экономической гигиены в Комитете содействия народностям Северных окраин при Госплане и в деятельности Общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Папа по-прежнему участвовал в заседаниях Полярной комиссии. Его настойчивое предложение направлять кого-либо из советских ученых в состав экспедиций зарубежных стран, а в этом году в экспедицию Роальда Амундсена, так и не нашло поддержки. Правда, теперь полярные исследования стали принимать новые формы — это были не столько экспедиции одиночек, сколько предприятия международных организаций, таких как «Аэроарктик». СССР имел в «Аэроарктик» свою группу, в состав которой входил и папа»10.
Комиссия по научным экспедициям продолжала работу, но средства на экспедиции постоянно урезывались, новое объединение ОКИСАР, особенно поддерживаемое Совнаркомом, постепенно перехватывало инициативу, требовало, чтобы Академия согласовывала свои экспедиции с Главным управлением по науке при Совнаркоме, что, естественно, еще более стесняло Академию.
Международная Тихоокеанская ассоциация обратилась к Академии наук с предложением принять участие в ее работе. Академия ответила согласием и 30 ноября 1927 года учредила свой постоянный Тихоокеанский комитет11. После получения разрешения от комиссии Совнаркома общим собранием был избран состав комитета в количестве двенадцати человек во главе с председателем В.Л. Комаровым12. В архиве сохранилось письмо С.Ф. Ольденбурга к папе с сообщением об образовании Тихоокеанского комитета: «Об изложенном считаю необходимым довести до Вашего сведения, просить Вас принять участие в работе названного комитета»13. В ответе папа выражал благодарность за избрание и готовность «принести посильную помощь интересующему меня делу изучения Тихого океана»14. Сверх избранного состава ученых правительством был назначен в Тихоокеанский комитет представитель народного комиссариата иностранных дел И.А. Залкинд. Бюрократический контроль распространялся на все стороны деятельности ученых.
10 Протокол заседания президиума АН от 31.12.1937 // СПб ФАРАН, ф. 4, оп. 4,д. 886, а. 182.
11 Протокол заседания президиума АН от 30.11.1927 // Там же, ф. 58, оп. 1, д. 1, л. 21.
12 Там же, ф. 58, оп. 1, д. 1, л. 23-24.0 Там же, ф. 4, оп. 4, д. 886, л. 170.14 Там же, л. 170.
Тихоокеанский комитет подразделялся на четыре секции — океанографическую, геологическую (в ее состав входил папа), этнологическую и местную, Владивостокскую. Академия надеялась, что с вхождением ее в состав Международной Тихоокеанской ассоциации она сможет провести новые научные исследования в водах северной части Тихого океана, поскольку у самой Академии на эти работы средств не было. По предложению папы, издательскую деятельность комитета следовало начать с напечатания карты Камчатки экспедиции Н.Г. Келля, трудов экспедиции Ф.П. Рябушинского, как представляющих исключительный научный интерес, и подготовить к печати рукописи покойного Л.Я. Штеренберга. Предполагалось также издавать « Труды» Тихоокеанского комитета и «Бюллетень».
При обсуждении возможных экспедиций папа предложил ассигнованную сумму использовать лишь на одну экспедицию, но провести ее углубленно и основательно. Такую экспедицию было решено провести на Камчатке, с расчетом ее работ в течение пяти лет. В.Л. Комарову, П.Ю. Шмидту и папе было поручено составить смету экспедиции. Геологическая секция под председательством А.Н. Криштофовича готовила доклады к IV Тихоокеанскому конгрессу на острове Ява, составляла также планы «тех геологических работ сводного характера, которые только и могут быть осуществлены при полном недостатке денежных средств на специальные геологические исследования на берегу Тихого океана»15.
Упомяну еще о Геологическом музее. Папе было поручено дирекцией в составе специальной комиссии принять участие в разработке каталога для всего музея. Директор Геологического музея А.А. Борисяк охарактеризовал состояние музея к 1927 году:
«В настоящее время, доминирующее значение в области геологии имеются две темы, разрабатываемые Музеем: изучение геологии Полярных стран и изучение геологии Центральной Азии. <...> Указанным двум основным областям работы Геологического Музея отвечают два его Отдела, основанные в самые последние его годы: Отдел Геологии Центральной Азии и Отдел Геологии Полярных стран. Последний, вместе со старым Отделом Музея Геологии Сибири, заключает ценнейшие материалы, на которых строилась в свое время геология Северной Азии»16.
15 Протокол заседания президиума АН от 30.11.1927 // СПб ФАРАН, ф. 58, оп. 1,д. 29, л. 13.
16 Борисяк А.А. Геология и палеонтология / / Академия наук Союза Советских Социалистических республик за 10 лет: 1917-1927. Л., 1927. С. 32-34.
Далее он отметил, что пополнение музея ведется за счет экспедиций. КЯР также предоставила ряд интересных новых материалов из районов реки Лены, Вилюя, Алдана и Верхоянского хребта.
В середине декабря 1927 года в Москве папа участвовал в III (как оказалось, последней) Конференции по краеведению. Над краеведением постепенно стали сгущаться тучи: начались аресты краеведов. Лахтинскую станцию и музей природы посещали комиссии, но пока их выводы носили благожелательный характер. В одной из статей по поводу краеведческой работы в Ленинградской области В.М. Непорожнева писала: «Благодаря необычайным организаторским талантам заведующего и умению подобрать себе сотрудников, этот музей может считаться одним из лучших в Ленинградской губернии по естественно-географическому разделу...»17.
Кажется, именно летом 1927 года папа предпринял ремонт нашего дома. Он решил оштукатурить дом снаружи, покрыть крышу кровельным железом и пристроить веранду. Все работы были выполнены настолько быстро, что не внесли большого неудобства в жизнь семьи. Теперь вместо коричневого бревенчатого дома с черной толевой крышей стоял белый стройный красавец в стиле северного модерна. С тех пор новые хозяева (завод № 7 — «Арсенал») дом ни разу капитально не ремонтировали, он обветшал, но внешне мало изменился: сгнили балконы первого и второго этажей, да кое-где переделаны окна. С этим ремонтом был связан один неприятный случай: воры влезли по лесам на чердак и украли все сушившееся там белье. Тобик не поднял тревогу, и никто воров не услышал.
Кстати, раньше просушенное постельное белье обычно не гладили утюгом, а разглаживали с помощью деревянных валька и скалки. Делалось это, естественно, вручную, белье получалось гладкое, наполненное ароматом озона.
Не только дом, но и сад постепенно преображался. Татьяна Львовна купила соседний с нами участок земли по Полевой улице № 3. Оба участка обнесли общим забором, вход перенесли на угол Полевой и Юнтоловской улиц. Неровность местности, его пониженную часть, обращенную к улице, папа оградил от более высокой гранитными блоками, как бы подпирающими высокую часть участка. Поскольку низкая часть была обращена к югу, то получился естественный солярий. Посередине посадили три яблони, которые почему-то плодов не давали. Гранитная ограда имела поворот в сторону дома, в ней были выемки в виде скамеек. На новом участке в следующем году заложили фундамент дома Татьяны Львовны.
17 Труды Ленинградского общества по изучению местного края. Т. I. Л., 1927. С. 12.
В саду появилась своеобразная мебель — позвонки китов или мамонтов. Белые, большого размера, они были разбросаны по саду. Сидеть на них было очень удобно, особенно детям. У прудика был возведен прелестный «кукольный домик». Он был дощатый, площадью, наверное, 2 на 2 метра и имел два этажа. В первом — два длинных горизонтальных угловых окна, винтовая лестница вела во второй этаж, который находился под крутой высокой крышей, так что стоять в рост можно было только посередине. Окно выходило на прудик и в поля. Над фасадом домика сильно выступала крыша, по бокам у входа — резные встроенные скамейки, а над дверью — оленьи рога. Крутая крыша была покрыта деревянными зелеными дощечками, как бы черепицей. Этот домик был любимым местом детских игр, импровизированных «званых» детских обедов. Наверху, на разложенном во всю площадь пола ковре, можно было спать и даже разрешалось ночевать. Много детских тайн и фантазий знал этот домик... Удивительно, что он до сих пор еще сохранился, хотя и в поврежденном временем виде.
Сохранилась фотография, на которой видны три сидящие в саду фигуры, рисующие дом. Это художница Анна Алексеевна Геннерт, рядом Люся и я на маленькой скамеечке. Люсина акварель получилась лучше всех, и она в дальнейшем напоминала нам о счастливом далеком времени. Люся проявляла явную способность к рисованию. Она брала уроки рисунка, акварели, позже и гравюры на линолеуме у художника Адриана Владимировича Каплуна. Уроки были очень интересны, я тоже приглядывалась. Техника гравюры представляла большой интерес, особенно полихромная гравюра. Люся всю жизнь любила и умела рисовать, но судьба увела ее далеко от искусства.
Нику обучали игре на рояле. Приходил молодой учитель поэтической внешности. Ника с ним капризничала не без кокетства, отлынивала от уроков. Тогда пригласили преподавать фортепиано Елену Осиповну Блех. Она была опытным педагогом и хорошей пианисткой. Начали обучать и Люсю. Люся, прилежная во всем, занималась усердно и делала успехи. Она и в дальнейшем не потеряла интереса к музицированию. Мама любила играть в четыре руки с Еленой Осиповной.
Хочется немного рассказать о Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник и ее муже Николае Борисовиче Полынове, об этих преданных друг другу людях. Внешне они были различны: Татьяна Львовна — миниатюрная миловидная женщина, а Николаи Борисович, напротив, высок и статен. Его стройная фигура с седой шевелюрой на красиво посаженой голове привлекала внимание представительниц противоположного пола. Он был адвокат по бракоразводным делам. Случались у него увлечения. Татьяна Львовна, безмерно его любя, находила мудрое решение — уезжала на время
в Москву к своей приятельнице Маргарите Николаевне Зелениной. Спустя некоторое время Николай Борисович приезжал за ней, и они возвращались вместе в свою квартиру на Кирочной улице, д. 12. Между ними никогда не бывало ссор. Как мне передавала мама, однажды, в самом начале их совместной жизни, когда Николай Борисович повысил голос, Татьяна Львовна скрала ему: «Никуся, ты не лакей, а я не кухарка, между нами скандалов быть не может». Так и было всю жизнь. У них не было детей. Татьяна Львовна называла себя биологической ненужностью.
Николай Борисович любил со мной гулять и частенько поддразнивал меня, называя слова, которые заведомо у меня не получались, например, «крыса» вместо «крыша» или бросал как бы невзначай в меня шишки, притворно удивляясь — откуда?.. Я его очень любила. Сохранилась присланная мне впоследствии Татьяной Львовной выдержка из его дневника от 5 июля 1927 года: «Ездил в Лахту. С Гулей ходил к морю. Сидели, беседовали. Необычайное ощущение чистоты и душевного покоя от этой прогулки... С удовольствием узнал, что Лахтинские две семьи Виттенбургов и Безруких очень подружились и сблизились. На эту тему беседовал по душам с 3[инаидой] И[вановной]»18. В самом деле, сложившаяся дружба между тремя этими семьями оказалась подлинной, выдержала самые тяжелые испытания жизни. Татьяна Львовна писала как-то маме: «Мы все многогранны и умудряемся одновременно жить душою в разных плоскостях и разных планах: тот, в котором я встречаюсь с Вами, — один из самых светлых, мирных и дорогих мне в моей жизни»19.
Благодаря Татьяне Львовне у нас бытовали разные игры, которыми увлекались и взрослые и дети. Так сочинялись истории весьма правдоподобного характера, действующим лицом или рассказчиком которых являлся загадочный персонаж под именем Тигельперчик. От его лица давались советы и предостережения. Любимой игрой на всю жизнь осталась игра в букву. Всем участникам, сколько бы их ни было, надлежало называть слова, начинающиеся на одну условленную букву в определенном порядке: страну, город, реку или море, растение, животное, неживую природу (минерал), политического деятеля или историческую личность, композитора, художника, писателя, название художественного произведения, героя, героиню, цитату из поэтического произведения, пословицу или поговорку. Вспоминать надо было названия более редкие и без задержки. Эта игра спасала нас в трудные моменты
18 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к Е.П. Виттенбург от 10.05.1939 // РО ИРЛИРАН, Р-1, оп, 37, ед. хр. 23-27.
19 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к З.И. Виттенбург от 18.12.1923 // Там же.
жизни, когда надо было отвлечься от окружающего, например от бомбежки. Эта игра никогда не надоедала, а теперь, пожалуй, забыта совсем.
Татьяна Львовна любила давать свои имена некоторым знакомым: Маргариту Николаевну называла «Кисой», а ее сына, как мне казалось, взрослого человека, «Кошачьим обсоском», Люсю — «Лесной нечистью», по-видимому, длинные распущенные волосы Люси, меланхолический, задумчивый взгляд подсказали ей этот образ.
Иногда у нас бывали ученые, папины знакомые. Как-то приехал известный норвежский исследователь Шпицбергена Адольф Гуль (Хуль). Он ночевал в папином кабинете. Утром за завтраком мы должны были встретиться внизу в столовой. Меня одели в мое любимое платье из красной шерстяной ткани с юбочкой в мелкую складку и белым кружевным воротником. В детстве я носила челку, в это время такая прическа называлась пажен-копф. Одев меня, мама сказала: «Спустись вниз, вежливо поздоровайся с гостем и скажи Guten Morgen Herr Hul! Повтори». Повторяю. — «Все поняла?» — «Все!» Я спустилась по лестнице, в столовой стоит высокий господин. Я ему говорю: «Здравствуйте, Хера Хуля!» Что заставило меня проявить себя таким образом — так и не знаю. Родители как-то замяли мою выходку. В семье обиходным языком был русский, пересыпанный немецкими, французскими и латинскими поговорками и меткими словечками. Почему-то иногда за обеденным столом от нас, детей, требовали обращения на немецком, например: «Gieb mir bitte die Zuckerdose (Дай мне, пожалуйста, сахарницу)».
Летом жизнь перемещалась в сад. Взрослые читали, шили, вышивали в тени кустов сирени, а дети играли. Сложные переплетения открытых корней сосен на участке Татьяны Львовны создавали фантастический микромир в детском сознании — замки, гроты и тому подобное. Это было любимым Люсиным и моим местом игры в куклы. Папа привез Люсе из Норвегии куклу в национальном костюме — Сольвейг. К ней полагалась и детская колясочка. Люся с упоением играла, шила разнообразные платья и шляпки, и так мастерски, что все удивлялись.
Когда в летние вечера папе случалось быть свободным, он собирал окрестных детей и с ними вместе играл на опушке леса в лапту или городки. Лапта была самой увлекательной игрой, в ней могли участвовать все, от мала до велика. Сколько смеха, шуток и веселья!.. В ночь на Ивана-Купала молодежь также собиралась на этой опушке. Водили хороводы, играли в горелки, разводили костер, храбрые прыгали через огонь. Ходили и в лес искать цветущий папоротник... В саду у нас тоже бывали общие игры, более степенные — крокет и развеселые — прятки, когда и дети и взрослые принимали в них участие.
С открытием зимнего сезона мама с папой ездили на концерты в Филармонию. В Мариинском театре брали отдельную ложу и всей семьей направлялись слушать оперы и смотреть балеты. Перед поездкой в театр мама рассказывала нам сюжет оперы, на рояле проигрывала отрывки из нее. Первый мой выход в театр был на оперу «Сказки Гофмана» Оффенбаха. На вопрос, понравилась ли мне опера, я заявила, что музыка мне мешает понять, что делается на сцене, чем вызвала смех взрослых. Несколько позже опера «Руслан и Людмила» и балеты «Коппелия», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» оставили неизгладимое впечатление. Увиденное в театре омрачалось для меня обратной дорогой домой. В жестком полутемном холодном вагоне я, конечно, засыпала. Проснуться же не было никаких сил, со станции тащилась с мамой за руку заплетающимися ногами, готовая заснуть каждую минуту.
В 1927 году в Ленинграде умерла папина старшая сестра Елена (Эля) Делакроа. Папа глубоко переживал ее смерть. Похоронили ее на Парго-ловском (Северном) кладбище.
1928
Этот год был знаменателен событиями, связанными с исследованиями Арктики: полет дирижабля «Италия» к Северному полюсу, организация спасения потерпевших крушение, затем поиски Роальда Амундсена, устремившегося на помощь пострадавшим и погибшего во льдах, и проводившаяся летом в Ленинграде Вторая конференция Международного общества «Аэроарктикл. Если в подготовке полета к Северному полюсу и в спасательной экспедиции папа, по-видимому, непосредственного участия не принимал, то в деятельности общества «Аэроарктик» его участие заметно.
Оба эти события связаны между собою, они явились свидетельством настойчивого поиска возможности исследования Арктики при помощи воздушного корабля, в том числе и для нахождения кратчайшего пути между Европой и Америкой через Северный полюс. Неудачная попытка Амундсена достичь Северного полюса на самолете в 1925 году, едва не стоившая ему и его спутникам жизни, затем в следующем году полет Амундсена на дирижабле «Норвегия» совместно со строителем дирижабля Умберто Нобиле на Аляску через Северный полюс, склонили ученых к мнению о предпочтительности дирижаблей перед самолетом при исследовании Арктики, так как они могли совершать более длительные полеты без заправки топливом.
Успех полета дирижабля «Норвегия» не давал покоя Нобиле. В середине мая 1928 года дирижабль «Италия» во главе с Нобиле и в основном с итальянским экипажем направился к Северному полюсу. На обратном пути
дирижабль обледенел и упал на лед. В поисках потерпевших крушение принимали участие многие страны, в том числе и Советский Союз. Спустя некоторое время ледоколу «Красин» удалось найти и спасти часть уцелевших итальянцев. Об этом много написано, пересказывать не буду.
Норвежское правительство обратилось к уже ушедшему на покой Амундсену с просьбой принять участие в поисках Нобиле и его команды. Амундсен моментально откликнулся, несмотря на свою ссору с Нобиле (как говорил папа), сел на самолет «Латам» и полетел на поиск. Самолет Амундсена пропал без вести. Его следов найти нигде не удалось, мир был потрясен его гибелью. В результате второго полета Нобиле к Северному полюсу два замечательных полярных исследователя — швед Финн Мальмгрен, метеоролог экспедиции, и норвежец Роальд Амундсен погибли. Мальмгрен был человеком исключительного обаяния и глубокой порядочности. В нашей семье его гибель приняли близко к сердцу. Амундсена папа лично не знал, но очень высоко ценил его как отважного полярного исследователя. Папе импонировала его целеустремленность и тщательность в подготовке экспедиций, благодаря чему у него никогда не было срывов, личная выносливость, достигнутая постоянными тренировками. Фотопортрет Амундсена, как и Нансена, всегда висели около папиного письменного стола.
Во время всех этих событий папа не только сам горячо сопереживал им, но и свою заинтересованность и увлеченность передавал студентам. Памяти Амундсена папа посвятил специальное заседание, проходившее 14 декабря 1928 года в конференц-зале университета. Сохранилась типографски изданная программа этого вечера20. На форзаце профильный портрет Амундсена (орлиный нос, высокий лоб, решимость во взгляде), с его факсимильной подписью. Заседание открыл президент Академии наук А.П. Карпинский, затем профессорами П.В. Виттенбургом, В.Ю. Визе, Н.В. Розе и Н.И. Евгеновым были прочитаны четыре доклада об Амундсене как об исследователе, ученом, геофизике и одном из первых исследователей Северо-Западных и Северо-Восточных морских путей Арктики. Между докладами звучала музыка Э. Грига и Р. Вагнера. Поэт Всеволод Рождественский прочел свои стихи, посвященные Амундсену. В завершение вечера прозвучал «Марш на смерть героя» Бетховена.
Вторая конференция общества «Аэроарктик» открылась в Ленинграде в большом конференц-зале Академии наук 18 июня 1928 года. Приехали ученые семи стран: Германии, Дании, Италии, Норвегии, СССР, Финляндии и Эстонии. Конференцию возглавил Фритьоф Нансен. Он сообщил
20 Роальд Амундсен. 1872—1928: Программа вечера // Личный архив Е.П. Виттенбург.
о предложении правительства Германии предоставить обществу «Аэроарктик» новый дирижабль «Граф Цеппелин», для которого необходимо построить две причальные мачты — в СССР и США. Открытие конференции приветствовали: президент Академии наук А.П. Карпинский, представитель группы СССР профессор Н.М. Книпович, и от университета — папа. Были получены в адрес конференции правительственные телеграммы от председателя ВЦИКа СССР М.И. Калинина, германского посла, управляющего делами Совнаркома Н.П. Горбунова и других. К этому времени вышел в свет журнал «Arktic» № 1 (и единственный)21. Было избрано общее правление общества в количестве 17 человек. В процессе работы конференции сочли необходимым организовать 10 научных комиссий. Папа вошел в географическую комиссию.
По окончании докладов и прений папа выступил с предложением приступить к подготовке Второго Международного полярного года, подобного Первому, проведенному в 1882—1883 годах по синхронным метеорологическим наблюдениям на полярных станциях. Он предложил приурочить новый период наблюдений к 1932—1933 годам — пятидесятилетию Первого международного года, для чего организовать полярные станции, в том числе на острове Ляховском, на Земле Франца-Иосифа и на Новой Земле (мыс Желания). Эти предложения были приняты. А 22 июня «вечером профессор Нансен и профессор Виттенбург прочли в Коммунистическом университете имени Зиновьева доклады о целях и задачах исследований Полярных стран»22.
В журнале «Вокруг света» за 1928 год помещена статья папы «Загадки Арктики», содержащая основные положения этого доклада, его фотография за чтением доклада в зале дворца Урицкого (Таврического), последний снимок Фритьофа Нансена с его автографом и иллюстрация в виде схематического изображения Шапки холода над полюсом. В статье приводился обзор экспедиций и сделанных ими открытий, автор также подчеркнул, что многое еще остается неизвестным — наличие тех или иных земель, воздушных и морских течений и других явлений природы. «Для разрешения только что здесь намеченных основных загадок Арктики или проблем исследования полярных стран необходимы объединенные силы ученого мира в международном масштабе. <...> В Общество "Аэроарктик" объединилось 20 государств и около 300 отдельных ученых, занимающихся вопросами изучения Арктики»23. Предстоящая экспедиция под общим научным
21 В библиотеках Академии наук и Географического общества отсутствует.
22 «Аэроарктик». Труды 2-й Полярной Конференции (Ленинград, 18—23 июня 1928 года). Л., 1930. С. 10.
23 Виттенбург П.В. Загадки Арктики // Вокруг света. 1928. № 13. С. 651—652.
руководством Нансена на дирижабле вселяет надежду, писал автор, что многие вопросы будут разрешены.
«После закрытия официального заседания профессор Виттенбург пригласил присутствующих членов конгресса осмотреть Кабинет географии Полярных стран географического факультета при Ленинградском университете, выставку Якутской экспедиции Академии наук и Отделение геологии Полярных стран Геологического музея Академии. Председатель Общества Ф. Нансен и многочисленные члены конгресса последовали этому приглашению»24.
Папа подготовил к печати все материалы Полярной конференции. Они вышли в 1929 году отдельным изданием. В предисловии читаем:
«Итак, мы видим, как в свете международных полярных исследований развернулась работа «Аэроарктик» и как преемственно идеи Карла Вейпрехта, дополненные идеями Фритьофа Нансена — президента Общества «Аэроарктик», за последние 50 лет развились и оформились и естественно должны будут вылиться в организацию Международного Института исследования Полярных стран с Музеем и Архивом, в котором научные работники могли бы найти все нужные материалы и литературу по части наших знаний Полярных стран»25.
Папа последовательно проводил свою идею объединения ученых мира в изучении Полярных стран. Еще несколько лет продолжалось развитие международных связей в .области исследования Арктики26, но вскоре мировые события сделали это невозможным.
В связи с окончанием работы 2-й Международной конференции общества «Аэроарктик» был устроен торжественный прием отечественных и иностранных ученых в ресторане гостиницы «Европейская» — на «крыше». Папа с мамой тоже были приглашены. Из-за границы папа привез маме крепдешиновое платье цвета беж с юбкой плиссе и костюм из тонкой
24 «Аэроарктик» Труды 2-й Полярной Конференции (Ленинград, 18—23 июня 1928 года). Л., 1930. С. 11
25 Там же. С. XVI.
26 В 1929 году в Берлине состоялась 3-я конференция Общества «Аэроарктик». Папа получил персональное приглашение от Географической комиссии общества, но поехать не смог — ему не разрешили. Президент Академии и непременный секретарь власти уже не имели. В июле 1931 г., уже после папиного ареста, дирижабль «Граф Цеппелин» благополучно совершил полет под командованием Вальтера Брунса (Ф. Нансен умер в 1930 г.) из Фридрихсгафена через Ленинград на Землю Франца-Иосифа, Северную Землю, Новую Землю за четверо с небольшим суток. В полете принимали участие советские ученые Р.Л. Самойлович, П.А. Молчанов и Э. Кренкель. В 1932—1933 состоялся Второй международный Полярный год. В Арктике и Антарктике в течение года по точно координированной программе и методике в заранее установленных пунктах велись наблюдения за ходом природных процессов. Советский Союз принял активное участие в исследованиях и освоении Арктики.
шерсти сиренево-коричневатого цвета, скромный, но с золотой полоской кожи на воротнике. Платье мама не любила, оно казалось ей слишком шикарным, а костюм носила очень долго, до дыр, потом из него получилось платье и для меня. В крепдешиновом платье с белым песцом на плечах мама в сопровождении элегантного папы (а он всегда выглядел элегантно) появилась на приеме. Маму кто-то пригласил танцевать, она положила мех на спинку стула, а когда вернулась — песца не оказалось. Господин, сидевший за соседним столиком, принял горячее участие в поисках, и в конце концов песец нашелся.
Якутская комиссия осенью 1928 года закончила строительство на острове Большой Ляховской (Новосибирские острова) радиометеостанции — одной из первых станций, предназначенных для обслуживания навигации в восточных районах Крайнего Севера и ведения научных наблюдений. Руководил строительством станции Н.В. Пинегин. Академия поздравила его радиограммой: «Президиум Академии наук и КЯР приветствуют Вас и персонал Ляховской станции с крупным достижением, имеющим международное значение. Радио 26 ноября было встречено общим восторгом и уверенностью в дальнейшей благополучной работе на благо науки Союза и процветания Якутии. Искренне желаем благополучия, дружной совместной работы. Примите и передайте сотрудникам благодарность Академии за проявленную самоотверженность. Ольденбург, Комаров, Виттенбург»27.
Папа писал в предисловии к 11 выпуску материалов КЯР, что Ляховская станция вскоре должна стать «Полярной геофизической обсерваторией, чтобы включиться тем самым в кольцо полярных станций, изучающих не только законы циркуляции атмосферы как на поверхности земли, так и на разных высотах в свободной атмосфере, столь важных для аэронавигации, но и геомагнитные элементы, знание которых необходимо для правильного применения магнитнометрического метода при разведках полезных ископаемых»28.
Радость по поводу успешного начала деятельности Ляховской станции сменилась тревогой. Уже в апреле 1929 года Полярная комиссия заслушала
27 СПб ФАРАН, ф. 47, оп. 1, д. 577, л. 7. Цит. по: Белов М.И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 3. Л., 1959. С. 267.
28 Геофизические проблемы Якутии / Сб. статей с предисловием П.В. Виттенбурга. Л., 1928. С. V.
сообщение папы о бедственном состоянии зимовщиков вследствие невозможности доставки продовольствия из-за неисправности судна, принадлежавшего КЯР. Пришлось сократить численность персонала станции до четырех человек и организовать вывоз людей и доставку продовольствия самолетами. Для того чтобы не свертывать работу станции, столь важной для науки и мореплавания, получили разрешение финансировать ее в размере 60 тысяч рублей за счет сметы КЯР будущего года.
Академия наук как центр фундаментальной науки считала, что всякой хозяйственной деятельности должны предшествовать научные изыскания. Правительство же, заинтересованное в получении природных ресурсов, таких как пушнина, рыба, лес из районов Дальнего Севера, организовывало специальные экспедиции, имевшие в первую очередь хозяйственное назначение (Северная научно-промысловая экспедиция, реорганизованная в Институт народов Севера, Карские товарообменные экспедиции и др.) и всячески ограничивало финансирование научных экспедиций как второстепенных с его точки зрения.
Эти противоречия повлекли за собой несогласованность действий. Так, Якутская Комиссия не считала возможным брать на себя ответственность за неподготовленные в научном отношении хозяйственные мероприятия. «Осуществление рейса на Лену в коммерческих целях находится вне компетенции Комиссии. Считаю долгом отметить, что без научного обоснования организация такого плавания рискованна. Поэтому в нем Академия наук принять участия не может. <...> Научное исследование устьевых участков должно предшествовать практическому использованию»29.
Программу освоения побережья Якутии ученый секретарь КЯР изложил так:
«Каботажное плаванье вдоль берегов Якутии, помимо непосредственного обслуживания насущных нужд населения Крайнего Севера, должно также способствовать разрешению морской транспортной проблемы Северного Морского пути в его восточной части. Средством для осуществления плавания северо-восточным путем является исследование условий плаваний к устьевым участкам рек Колымы и Лены на восток к реке Яне и на запад — к устьевым участкам рек Оленка, Анабары и Хатанги. Особенное значение имеет изучение гидрометеорологического режима морей Лаптевых и Восточно-Сибирского»30.
29 Телеграмма П.В. Виттенбурга, направленная в Якутск 08.02.1927 // СПб ФАРАН, ф. 47, оп. 1, д. 233, л. 117-127. Цит. по: Белов М.И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 3. А., 1959. С. 269.
30 Материалы комиссии по изучению Якутской ССР. Вып. 30. Л., 1930. С. ХIII-ХIV.
Далее папа раскрывает, что именно осуществлено и что будет выполнено при завершении плана пятилетних работ КЯР в этом направлении. Это гидрологические исследования побережья моря Лаптевых, изучение рек Яны, Индигирки, Алазеи и Колымы и их устьев для выяснения возможности судоходства, открытие геофизической станции на острове Ляховском с коротковолновым радиоприемником, опубликование материалов работ экспедиций, предшествовавших КЯР.
В 1928 году папа предложил правительству Якутии установить на острове Котельном (Новосибирские острова) мемориальную доску в память работ Э.В. Толля и Русской Полярной экспедиции на яхте «.Заря». На мраморной доске работы скульптора А.А. Улина высечен портрет в анфас отважного исследователя Арктики. Внизу надпись: «Эдуард Васильевич Толль вступил впервые на Ново-Сибирские острова 2 мая 1886 года. Погиб во время работ Русской Полярной экспедиции при возвращении с о. Бенетта в 1902 г. вместе со своими доблестными спутниками Ф.Г. Зеебергом, Н. Дьяконовым и В. Гороховым. Академия наук СССР, Якутская АССР. Лето 1928 года»31. В Полярном отделе Геологического музея папа установил бюст Э.В. Толля работы того же скульптора. К этому времени относится и папин бюст, выполненный Улиным из гипса. Художник предложил папе немного попозировать. Улин работал суховато, но бюст получился очень похожий. У нас дома он стоял в гостиной, потом, когда папу арестовали, мы его похитили из запечатанной комнаты, сохранили, а уже в конце 1970-х годов я передала его в Музей Арктики и Антарктики по их просьбе.
В Геологическом музее папа продолжал заниматься изучением коллекции, собранных экспедициями Э.В. Толля, К.А. Воллосовича, А. Бунге, Г.Л. Брусилова, и редактировать геологическую часть работ Русской полярной экспедиции 1900—1903 годов. Параллельно он подготавливал к печати «Геологический очерк Новой Земли», а в Гидрологическом институте прочел доклад «Морфология берегов Новой Земли в связи с тектоникой Арктики». Кроме того, он не оставлял исследования триасовой фауны, собранной Ш.Н. Чернышевым на Шпицбергене, и хотел заняться сбором материалов в Центрархиве по истории первых посещений русскими этого архипелага.
В сентябре—октябре 1928 года открылся 2-й Всесоюзный геологический съезд в Ташкенте. На него папу делегировал Геологический музей. Помимо заседаний, предлагались экскурсии в разные районы, интересные с геологической точки зрения. Папа выбрал Ташкентский и Алтайский. Работу на съезде ему пришлось ненадолго прервать, так как
31 Виттенбург П.В. Жизнь и научная деятельность Э.В. Толля. М.; Л., 1960. С. 232.
он был вызван в Москву телеграммой заместителя Наркомвоенмора и Предреввоенсовета:
«Аэроарктик профессору П.В. Виттенбургу. Заседание Правительственной комиссии по Пятилетнему плану научно-исследовательских работ в Арктике состоится 28 сентября с.г. в 11 часов в кабинете тов. Каменева С.С. (ул. Фрунзе, 19). Просьба прибыть»32.
По окончании заседания он вернулся в Ташкент.
Правительственная комиссия по ведению научных работ в Арктике была создана 31 июля 1928 года решением Совнаркома СССР «в связи с ходатайством ряда научных учреждений Союза ССР об усилении научно-исследовательских работ в арктических владениях Союза ССР»33. Образованная при Совнаркоме, она, помимо составления пятилетнего плана работ в Арктике, обсуждала организацию на земле Франца-Иосифа, Новой Земле и Северной Земле геофизических обсерваторий с радиоустановками, строительство причальных мачт. Возглавил комиссию С.С. Каменев. В ее состав, помимо персонально приглашенных ученых и общественных деятелей, вошли представители Академии наук, общества «Аэроарктик», Наркомвоенмора и другие. Академия наук вручила папе удостоверение: «Ученый секретарь КЯР командирован Академией наук в Москву для участия в Комиссии для проработки пятилетнего плана научно-исследовательской работы в Арктических владениях Союза ССР»34. На заседания комиссии папу вызывали неоднократно. Пятилетний план формировался вплоть до 1930 года. Создание этой комиссии практически ликвидировало Полярную комиссию Академии наук, которая к этому времени из-за отсутствия финансирования потеряла свое значение как координирующий орган в арктических исследованиях.
Академия наук также получила указание Совнаркома составить пятилетний план научной работы на 1928—1933 годы. Многие ученые недоумевали, как можно жестко планировать научную работу, когда «новые идеи появляются иной раз совершенно неожиданно»35. Попытки составить пятилетний план исследований в Полярной зоне страны предпринимались и ранее. Такой план был составлен в 1924 году, но осуществить его не удалось из-за прекращения финансирования. Работа КЯР также строилась на основе пятилетнего плана (1925—1930), но следовать ему становилось все труднее,
32 Телеграмма от 24.09.1928 // СПб ФАРАН, ф. 47, оп. 4, д. 90, л. 66.
33 Белов М.И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 3. Л., 1959. С. 347.
34 Удостоверение // СПб ФАРАН, ф. 47, оп. 4, д. 91, л. 52.
35 Покровский М.Н. К отчету о деятельности Академии наук за 1926 год // Звенья: Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 598.
так как деньги не поступали то на работу отдельных отрядов, то на оснащение Ляховской станции, то на издание « Трудов» и «Материалов».
Академия стремительно теряла свою автономию. Еще в 1927 году ей в противовес был создан Московский научный центр ВАРНИТСО, поддерживаемый высшим партийным аппаратом. Независимость взглядов академиков, неприятие диктата сверху раздражало власть. Председатель ВСНХ Куйбышев потребовал действовать против Академии «огнем и мечом»36. Теперь борьба шла и в стенах Академии: ряды академиков пополнены членами правящей партии по принципу: «небольшой по объему научный багаж не может служить препятствием»37. Курировал Академию новый академик М.Н. Покровский, руководитель Комакадемии, института Красной профессуры и тому подобных заведений, сторонник абсолютной централизации управления научной деятельностью. «Надо переходить в наступление на всех научных фронтах. Период мирного сожительства с наукой буржуазной изжит до конца»38, — призывал Покровский. Вот вкратце та атмосфера, которая сложилась в Академии к концу 1920-х годов.
В середине октября мама поехала в Москву навстречу папе, возвращавшемуся с Геологического съезда. Она прислала нам несколько открыток. Вот ее впечатление от дороги: «Ни минуты не спала в дороге, так как в течение всей ночи ходили охранники в погоне за воришками. И, действительно, к 5 часам утра их охота благодаря полицейской собаке увенчалась успехом — поймали трех человек, которые бегали по крыше вагона». И дальше — впечатления от Москвы: «Вчера был дивный балет "Красный мак в Большом театре. Видела там всех красинцев и Чухновского. Билеты только очень дорогие. Сегодня улицы оцеплены из-за похорон Скворцова-Степанова. Москва мне очень нравится. Стало гораздо чище и много красивых новых домов в том стиле, как в заграничных журналах»39.
Домашняя жизнь шла своим чередом. В этом году Нике исполнилось шестнадцать лет. Мама поехала с ней к хорошему фотографу. В честь Никиного шестнадцатилетия устроили два праздника. В первый вечер — молодежный маскарад. Были приглашены Никины и Люсины соклассники в маскарадных костюмах, народу набралось много, и было весело.
36 Пять «вольных» песен В.И. Вернадского сыну: Русская наука в 1928 / Публ. К. К. // Минувшее: Исторический альманах. М., 1989. Т. 7. С. 436.
37 Покровский М.Н. К отчету о деятельности Академии наук за 1926 год // Звенья: Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 599.
38 Последние новости (Париж). 1929. 5 декабря. Цит. по: Перченок Ф.Ф. Академия Наук на «великом переломе». С. 193.
39 Открытка от 11.10.1928 / / Личный архив Е.П. Виттенбург.
Нике сшили костюм Коломбины, Люся появилась в виде бабочки, за ее спиной красовались пестрые крылья, волосы распущены, надо лбом два изогнутых усика. Меня же нарядили котенком в шапочке с ушками и мохнатым хвостиком. Другой вечер был литературно-художественный — игры, стихи, музыка. В этом году у Ники появился серьезный поклонник — Николай Петрович Богородицкий — студент, будущий инженер. У нас дома он играл на скрипке, что меня в нем чрезвычайно привлекало. Тамара Александровна Колпакова, друг нашей семьи, считала своим долгом подыскать каждой из нас жениха. Для Ники был предназначен Николай Петрович, но у нее уже было много поклонников и выбор пал на другого. Об этом Тамара Александровна не переставала жалеть всю жизнь, так как Николай Петрович представлял хорошую партию, став впоследствии ректором АЭТИ.
Подвигалось вперед строительство дома Татьяны Львовны: крышу покрыли толем, второй этаж кое-где зашили тесом. В углах крыши с четырех сторон на уровне второго этажа образовались как бы карманы. Такой маленький карман, обращенный в сторону поля и леса, словно парящий над землей, был любимым местом уединения Люси. Она забиралась туда по приставной лестнице, чтобы спокойно почитать или помечтать.
Родители решили учить меня языку и определили в немецкую группу Эдиты Казимировны Коломийцевой, одной из дочерей Казимира Федоровича Грюнбуша. Я ходила в их большой семейный дом, где на втором этаже были комнаты Эдиты Казимировны. Группа состояла из пяти-шести человек, занятия шли в занимательной форме. Пожалуй, то, что я знаю из немецкого, все это получено в детстве. Ни школа, ни университет к моим знаниям немецкого языка почти ничего не прибавили. Иногда нас приглашали в большую столовую, где за семейным столом с множеством ножек (такие столы-сороконожки бывали в больших семьях) восседали — на одном конце стола глава дома Казимир Федорович, а на противоположном — добрая его жена София Романовна, остальные уже взрослые дети занимали свои места по бокам стола. Если в комнатах Эдиты Казимировны можно было шалить (в присутствии Люли вообще невозможно было не шалить, такая она была выдумщица), то в столовой следовало себя вести чинно и благородно. В их доме так было уютно, спокойно, доброжелательно, что осталось на всю жизнь в памяти чувство порядка, аккуратности и благопристойности, царивших в этой семье, от которой, увы, не осталось никого.
В хорошую погоду мама возила нас и Люлю в город осматривать разные музеи и пригородные дворцы. Хорошо зная русскую и западную живопись, мама нам рассказывала о художниках, объясняла сюжеты картин. Она помнила, в каком зале какие художники представлены, ей не надо
было читать этикетки. Помню мамино замешательство однажды в Эрмитаже, когда, приведя нас в один из залов итальянского искусства, она сказала: «В следующем зале вы увидите одну из замечательнейших картин Тициана «Венера перед зеркалом»». Входим в зал... Картины нет. Нет нигде... Тогда еще не было известно о распродаже правительством картин Эрмитажа.
1929 и начало 1930
Работа в Якутской комиссии протекала в эти годы весьма напряженно: подводились итоги выполнения плана текущего пятилетия и составлялся план на следующие пять лет (1930—1935). Для согласования предварительных наметок плана КЯР папе приходилось множество раз выезжать в командировки в Москву в Совнарком, Гидрометеорологический комитет, Якутское представительство и другие учреждения. 4 июня папа выехал в Якутию для обсуждения нового плана с правительством. В Якутске он сделал подробный доклад. Обсуждались вопросы, связанные с Якутской геофизической обсерваторией и аэрометеостанциями, центральной опытной сельскохозяйственной станцией и ее опорными пунктами, геохимической лабораторией, консервным заводом, лабораторией по рыбному делу и другими, а также задачи, посвященные научным проблемам изучения республики. Видимо, в эту поездку папа узнал подробности о Якутском восстании зимой 1927—1928 года под лозунгом «Якутия для якутов». Восстание было подавлено через несколько месяцев войсками, подошедшими из Иркутска40. Это восстание чуть не стоило ему жизни в 1930 году.
Дела Якутской комиссии требовали поездки папы в Норвегию и Германию. В Норвегии следовало осмотреть научное судно «Веслепер», предназначенное для исследования гидрометеорологического режима морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Якутское правительство еще в 1928 году ассигновало на его покупку определенную сумму. В Германии необходимо было приобрести научное оборудование для гидроаэрологической станции на острове Большой Ляховский, а также для Индигирского отряда, занятого наблюдением за земным магнетизмом, солнечной радиацией и другими природными явлениями. Кроме того, в Германии папе предстояло участвовать в заседании геологической комиссии общества «Аэроарктик», а в 1930 году желательно присутствовать на 2-м Международном конгрессе по фотометрии — столь важному методу для изучения Якутии.
Многократные обращения непременного секретаря Академии С.Ф. Ольденбурга и председателя КЯР В.Л. Комарова в высшие инстанции с
40 О якутском восстании подробнее см.: Корнилов М. Почему и как я оказался на земле финнов // Грани. 1994. № 171. С. 173-199.
просьбой предоставить папе командировки успеха не имели. «Возбуждение этого ходатайства по линии Академии наук представляется в настоящее время затруднительным»41, — констатировал президиум Академии наук. Ничего удивительного в этом ответе нет: власть занялась «чисткой» научного состава Академии и ради выполнения этой задачи готова была принести в жертву и науку и самых ее талантливых и преданных служителей. Приступила к «работе» правительственная комиссия во главе с Ю.П. Фигатнером, членом коллегии наркомата РКИ и Президиума ЦКК ВКП(б)42 как раз в то время, когда папа начал подводить итоги пятилетней работы Якутской комиссии.
К весне 1930 года еще не все отряды Якутской экспедиции закончили свои маршруты. Они должны были вернуться осенью и тогда составить отчеты. Поэтому «.Краткий обзор Якутской экспедиции Академии наук за первое пятилетие (1925—1930)»43, подготовленный папой перед арестом, далек от полноты и тем более научного осмысления материалов. В нем одиннадцать разделов посвящены характеристике работы отраслевых отрядов (по числу отрядов), раздел с отчетом по издательской деятельности и раздел с описанием общественно-культурной работы сотрудников экспедиции.
За время работы Якутская комиссия создала в республике в общей сложности 32 самостоятельных учреждения: обсерватории, лаборатории, станции, рыбоконсервный завод, библиотеку в 60 тысяч томов и многое другое. Деятельность КЯР имела следствием не только помощь в организации изучения состояния и возможностей естественно-производительных сил республики, но и конкретные действия по оздоровлению ее населения, организации медицинской службы, методов ведения сельского хозяйства и многое другое. Работы КЯР подготовили условия для начавшегося освоения Северного морского пути. Благодаря изучению устьев рек Лены, Яны, Индигирки, Колымы, гидрологии прибрежных районов моря Лаптевых и Восточно-Сибирского стало возможным приступить к строительству морских портов. Функционирование сети метеостанций, и особенно Ляховской станции, внесло существенный вклад в организацию арктического мореплавания44.
Результаты научных исследований, проводившихся в течение пяти лет, опубликованы в 36 выпусках «Материалов» КЯР, 16 томах «Трудов»,
41 Решение Президиума АН, основанное на отказе Управляющего делами Совнаркома// СПб ФАРАН, ф. 47, оп. 4, д. 91, л. 100.
42 Перченок Ф.Ф. Академия Наук на «великом переломе» // Звенья: Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 195.
43 СПб ФАРАН, ф. 47, оп. 1, д. 1119, л. 1—126. Авторство установлено по письму А.В. Мельникова к Е.П. Виттенбург от 30.09.1972 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
44 Белов М.И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 3. Л., 1959. С. 151.
двух сборниках «Якутия» и «Полезные ископаемые и транспортные проблемы Якутии». Папа надеялся, что по окончании пятилетних работ будет издан такой же объемный сборник, каким был сборник «Якутия», вышедший в свет в 1927 году, в котором будут подведены все итоги.
Вообще Академия с большим напряжением заканчивала экспедиционные работы КЯР из-за нехватки денежных средств. Из всех отпущенных ассигнований на академические экспедиции 1929 года было решено 50 % предоставить КЯР для завершения полевых работ45. В соответствии с постановлением Госплана было решено: «Признать необходимым продолжение работ по исследованию Якутской ССР, считая, что Якутская экспедиция должна полностью закончить первый концентр исследовательских работ в Якутии и дать материалы как по общему описанию Якутии, так и материалы для правильного намечания культурного строительства ЯАССР на пятилетие»46. Якутская комиссия Академии наук была ликвидирована в 1931 году. Исследование и освоение Якутии в дальнейшем передали разным отраслевым ведомствам47, тем не менее оно шло успешно во многом благодаря предшествующей работе КЯР.
Насколько мне известно, серьезного исследования, посвященного истории Якутской комиссии Академии наук, нет. «Академическое дело» с изъятием из научной жизни ученых, в том числе и работавших в Якутской комиссии, пренебрежение в дальнейшем к истории науки привело к забвению интересных научных начинаний. В 1960-х годах занялся историей изучения Якутии и в том числе КЯР московский геолог А.В. Мельников. Однако свой труд он не довел до конца по неизвестным мне обстоятельствам.
В 1965 году Институт географии Академии наук и Институт географии Сибири и Дальнего Востока Сибирского отделения Академии наук СССР издали сборник «Якутия» из серии «.Природные условия и естественные ресурсы СССР» под общей редакцией академика И.П. Герасимова. Во введении, написанном С.С. Коржуевым и К.П. Космачевым, дана характеристика работ Якутской комиссии 1925—1930 годов. Приведу выдержки из него:
«Исследования Якутской экспедиции дали много нового и для развития науки, в частности, была выдвинута гипотеза о фирновом оледенении равнины Центральной Якутии (А.А. Григорьев), сделаны обобщения по истории развития
45 Решение комиссии по экспедиционным исследованиям АН после доклада В.Л. Комарова о слушании в Госплане // СПб ФАРАН, ф. 138, оп. 1, д. 7, л. 53.
46 Там же, л. 44.
47 Белов М.И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 3. Л., 1959. С. 334 и далее.
рельефа в условиях многолетней мерзлоты и об оледенениях гор и его влиянии на развитие рельефа. Были высказаны интересные соображения о происхождении и развитии почв Якутии и освещены некоторые вопросы геоботаники, зоогеографии и гидрологии. Теоретические представления о геологическом строении и развитии территории Якутии были существенно дополнены. Появились сводные работы о полезных ископаемых, в которых давался научный прогноз и перспективная оценка минеральных ресурсов Якутии. Важные обобщения были сделаны и в других отраслях знаний (этнографии, экономике, медицине и др.). <...> В целом Якутская экспедиция была выдающимся событием в истории исследования и освоения Якутии. Собранные ею материалы надолго оставались основным источником наших знаний об этой стране»48.
Полярная комиссия Академии наук в это время также доживала последние дни. Ее теснил создаваемый правительственной комиссией С.С. Каменева Всесоюзный Арктический институт (ВАИ). Полярная комиссия по существу готовила научную и практическую базу институту. Она представила проект пятилетнего плана исследований в Арктике: развитие сети полярных станций (Земля Франца-Иосифа, остров Колгуев, мыс Желания, остров Белый, Таймыр или Северная Земля, бухта Тикси, устье Колымы, мыс Шелагский, мыс Северный, расширение станций на Индигирке, Малых Кармакулах, село Хатангское, мыс Дежнева), организацию баз для воздушных экспедиций в Арктике, исследование Таймырского архипелага как первоочередного региона в Арктике49. Папу множество раз вызывали на заседания в Москву в связи с организацией Арктического института. Его официальное открытие состоялось 22 ноября 1930 года. В положении об институте говорится, что ВАИ «является центральным организующим и руководящим научно-исследовательским учреждением для всестороннего изучения полярных стран Союза ССР»50.
Постоянная комиссия по научным экспедициям Академии наук в начале 1929 года трансформировалась в Комиссию экспедиционных исследований под председательством А.Е. Ферсмана при секретаре Н.В. Раевском. В ее деятельности папа почти не участвовал.
48 Якутия // Природные условия и естественные ресурсы СССР / Под общей редакцией И.П. Герасимова. М, 1965. С. 17.
49 СПб ФАРАН, ф. 75, оп. 1, д. 181, л. 23-27.
50 По данным М.И. Белова, Арктический институт образовался на основе Научно-исследовательского института Севера, который, в свою очередь, возник на базе Северной научно-промысловой экспедиции в 1925 году. Цит. по: Белов М.И. Советское арктическое мореплавание. 1917—1932 гг. С. 462. В фондах СПб ФАРАН мне не встретилось соответствующих материалов. Скорее всего, оба учреждения положили начало Научно-исследовательскому институту Арктики и Антарктики, как он теперь называется.
Геологический музей — второе основное место работы папы в Академии наук — в эти годы также подлежал реорганизации. По мнению комиссии Локального бюро (отделения комиссии Ю.П. Фигатнера, в данном случае занятой реорганизацией Геологического музея), следовало упразднить отделы Сибирских коллекций и Полярных стран51.
Папа представил комиссии содержание работ Полярного отдела: составление геологической карты Арктики, обработка геологических материалов с Новой Земли, Ново-Сибирских островов, триасовой фауны острова Шпицберген, редакция научных работ по геологии Арктики, в том числе о кристаллических породах Таймырского полуострова. Директор музея Ф.Ю. Левинсон-Лессинг после обсуждения этих вопросов на заседании совета музея предложил провести голосование. 8 января 1930 года против упразднения отделов проголосовало 8 членов совета, за — 3, воздержалось — 4. Что касается общей реорганизации музея, большинство совета признало желательным разделение музея на три самостоятельных отделения или института: геологии, палеозоологии и петрографии52. В 1930 году Геологический музей Академии наук был в соответствии с этим решением реорганизован.
Тем временем Музей получил задание организовать отчетную выставку о своей работе за период 1928—1929 годы к середине марта 1930 года. Наряду с М.В. Баярунасом, Д.С. Белянкиным и Р.Ф. Геккером это поручение получил и папа. Весь выставочный материал, и особенно этикетки и объяснительные тексты, черновики докладов требовалось представить для тщательной проверки в другую комиссию, специально для этого созданную53.
Пришло время, когда и С.Ф. Ольденбург вынужден был заняться организацией социалистического соревнования: «Непременный секретарь просит Вас прибыть на собрание коллектива Академии наук совместно с профактивом Академии наук по вопросу о социалистическом соревновании Академии с некоторыми другими учреждениями, назначенное на 13 сего июня в 5 часов в Клубе Академии (Тучкова наб. 2а) 12.VI.29»54.
С июля 1929 года началась чистка аппарата Академии наук55. 30 октября 1929 года Председатель Совнаркома А.И. Рыков отстранил от должности академика С.Ф. Ольденбурга — непременного секретаря Академии с 1904 года56. Аресты в Академии наук начались с октября 1929 и закончились в
51 СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 2, д. 85, л. 109.
52 Там же, л. 85, 109, 111.
53 СПб ФАРАН, ф. 128, оп. 2, д. 85, л. 113.
54 Там же, ф. 47, оп. 4, д. 91, л. 111.
55 Перченая Ф.Ф. Академия Наук на «великом переломе» // Звенья: Исторический альманах. М; СПб., 1992. Вып. 1. С. 195.
56 Там же. С. 205.
основном в декабре 1930 года57. Комиссия Фигатнера усердно поработала: из академии было уволено более 640 человек, под следствием оказались 86 ученых и служащих Академии. Фигатнер заявил: «Сейчас Академии в старом виде нет, она сломлена»58.
Из командировки в Якутию папа вернулся 24 августа. «Разбор» его личного дела начался в ноябре. В.Л. Комаров, обязанный участвовать в работе комиссии и будучи в это время председателем КЯР, послал телеграмму-молнию в Якутский обком Барышеву:
«Телеграфируйте отзыв также характеристику работы Ученого секретаря Якутской комиссии Виттенбурга Якутске ввиду проверки аппарата Академии наук. Ответ сроч[но] те[леграфируйте]»59.
5 ноября Представитель Якутской Автономной Республики при Президиуме ВЦИК в Москве сообщил в комиссию по проверке аппарата Академии:
«Со дня организации комиссии по изучению Якутской АССР при АН СССР профессор П.В. Виттенбург состоит ученым секретарем этой комиссии. Как ученый секретарь в деле выполнения плана изучения Якутской АССР проявил максимум энергии и зарекомендовал себя как дельный организатор этого дела.
Якутское правительство работу Комиссии, где непосредственным руководителем состоит профессор П.В. Виттенбург, не раз признавало удовлетворительной и выражало Академии наук благодарность за успешное выполнение намеченного плана.
Представительство Якутской республики при Президиуме ВЦИК со своей стороны отмечает плодотворную работу профессора Виттенбурга и комиссии по изучению ЯАССР и его отзывчивое отношение к запросам якутских научных организаций. Правительство в своей практической работе не раз пользовалось ценными советами профессора П.В. Виттенбурга, как человека сведущего с научной стороны вопросами Якутии.
Врид. Представителя ЯАССР при Президиуме ВЦИК С.Ф. Гоголев»60.
57 Подробнее см.: Перченок Ф.Ф. Академия Наук на «великом переломе», а также: Академическое дело 1929—1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1. СПб., 1993. Вып. 2. Ч. 1, 2. СПб., 1998.
58 Цит. по: Перченок Ф.Ф. Академия Наук на «великом переломе». С. 208.
59 Телеграмма В.Л. Комарова к Барышеву от 04.11.1929 // СПб ФАРАН, ф. 47, оп. 4, д. 91, л. 150.
60 Там же, л. 153.
Привожу документы без комментариев:
«8 ноября 1929 года. В Правительственную комиссию по проверке аппарата АН СССР.
В связи с проверкой работы проф. П.В. Виттенбурга препровождаю при этом материалы, характеризующие деятельность П.В. Виттенбурга как Ученого Секретаря Комиссии по изучению ЯАССР:
1. Отзыв представителя ЯАССР.
2. Резолюцию по докладу П.В. Виттенбурга в Якутске Объединенного Собрания членов Якутского исследовательского общества «Саха-Каскиле» и Якутского Отдела Географического общества.
3. Протокол Госплана ЯАССР с постановлением по докладу П.В. Виттенбурга.
4. Протокол заседания Президиума ЦИК и СНК ЯАССР с постановлением по докладу проф. П.В. Виттенбурга.
Председатель Комиссии академик В.Л. Комаров»61.
«Выписка из Протокола Заседания Комиссии по проверке аппарата Академии наук СССР от 24 ноября 1929 года. <...>
Постановили: Виттенбурга П.В. снять с административной работы, не возражая против использования на научной работе в Академии наук»62.
«Приказ по Академии наук СССР от 25 ноября 1929 года.
На основании постановления Комиссии по проверке аппарата АН СССР:
По комиссии по изучению Як.АССР — ученый секретарь Виттенбург П.В. снимается с административных должностей в А.Н. в двухдневный срок.
Так как Комиссия по проверке А.Н. не возражает против использования П.В. Виттенбурга на научной работе в А.Н., просит Председателя КЯР срочно представить в Президиум А.Н. по этому поводу свои соображения.
И. об. Непременного секретаря акад. В. Комаров
Вице-президент акад. А. Ферсман
За управделами А.Н. В. Тереховко»63.
Папа на следующий день после выхода приказа по Академии наук послал письмо представителю правительства ЯАССР в Москве С.Ф. Гоголеву:
«26 ноября 1929 г. № 3218.
Многоуважаемый Степан Филиппович, считаю своим долгом довести до Вашего сведения, что постановлением от 24 сего ноября
61 Телеграмма В.Л. Комарова к Барышеву от 04.11.1929 // СПб ФАРАН, ф. 47, оп. 4, д. 91, л. 150.
62 СПб ФАРАН. ф. 4, оп. 4, д. 886, л. 232.
63 Там же, ф. 47, оп. 4, д. 91, л. 154.
Правительственной Комиссией по проверке аппарата Академии наук я освобожден от административных обязанностей по должности Ученого секретаря Якутской комиссии Академии наук. Настоящим прошу Вас не отказать довести также до сведения Правительства ЯАССР, представителем коего Вы состоите»64.
За этим последовало письмо С. Гоголева В.Л. Комарову:
«Сегодня получил от нашего ученого Секретаря проф. П.В. Виттенбурга сообщение, в котором пишет: что "постановлением 24 сего ноября Правительственной комиссией по проверке аппарата я освобожден от административных обязанностей [...] Как понимать это постановление? Оставлен ли он Ученым Секретарем комиссии? Кто будет выполнять административные обязанности? Прошу Вас не отказать в исполнении настоящей просьбы»65.
6 декабря 1929 года последовал ответ:
«На Ваш запрос о служебном положении проф. П.В. Виттенбурга КЯР сообщает, что проф. П.В. Виттенбург состоит в настоящее время членом Президиума КЯР со специальным поручением вести с Вами совместную плановую работу по научному исследованию Якутской АССР. Временно исполняющим обязанности Ученого секретаря, впредь до решения этого вопроса Секцией Научных работников, приглашен руководитель Этнографического Отдела В.Н. Васильев»66.
Папа некоторое время продолжал работать, как и прежде, в Якутской комиссии. Он в течение всех этих пяти лет не пользовался отпуском. 27 ноября обратился в КЯР с просьбой выдать компенсацию за неиспользованный отпуск за последний год.
Все 1920-е годы папа не оставлял своим вниманием любимое детище — Лахтинскую экскурсионную станцию и Музей природы Северного побережья Невской губы. Станция и музей успешно развивались. Отрабатывалась методика занятий, расширялся круг тем, пополнялся ученическими работами учебный музей, созданный в 1922 году как дополнение к основному Музею природы. Школьное краеведение увлекало его возможностью развития у детей любознательности, приобщения к начальным основам
научного познания путем овладения методами исследовательской работы, обращенными к природе своего края. Была опубликована папина статья о ходе работ на станции67.
На станции сложилась четкая система работы с детьми — экскурсии и кружки по отраслям наук — зоологии, ботанике, почвоведению, геологии, метеорологии и — дань времени — обществоведению (изучению быта населения). Кружки работали и летом и зимою. Каждый экскурсант мог выбрать себе отрасль знания, по которой будет заниматься. Переходя под руководством специалиста от непосредственного наблюдения своего объекта в природе, учащийся постепенно приступал к его изучению в лабораториях станции, ведя при этом ежедневный дневник наблюдений. В его распоряжении находились различные справочники и определители.
Результаты работ в виде препаратов и дневниковых записей поступали в специальный отдел ученических работ музея природы или в школьные краеведческие музеи. Кроме того, кружковцы, занимающиеся, например, вредителями растений, имели возможность при завершении своей темы составить рекомендации крестьянам и лесозаготовителям о средствах борьбы с данным вредителем. «Такая небольшая общественно полезная работа и является по существу той целью, к которой должен стремиться при своем исследовании молодой краевед»68, — считал папа. Занимающиеся в кружках по обществоведению пробовали обследовать совхоз, местную артель, выяснить их производительность и рентабельность, влияние совхоза на население, оценить влияние города и тому подобное, что требовали вышестоящие организации. Обществоведение еще не разработало свою научную методику, учащиеся большей частью просто помогали крестьянам в уборке урожая и вели просветительную работу. Более органичными были попытки этнографического обследования населения.
Музей природы выполнял две функции: он представлял животный, растительный мир и явления природы и одновременно знакомил с методами ведения краеведческой работы. Папа надеялся, что пример Лахтинской станции приведет к возникновению кружков и музеев на периферии, организованных молодыми краеведами. В ноябре 1928 года он организовал на Экскурсионной станции «собрание членов Объединения молодых краеведов Ленинграда и его округа». Тиражом 500 экземпляров была издана
67 Виттенбург П.В. Лахтинская экскурсионная станция за 8 лет // Просвещение. 1927.№ 10. С. 129-132.
68 Виттенбург П.В. Опыт школьной краеведческой работы на Лахтинской экскурсионной станции // Известия ЦБК. 1929. № 7-8. С. 13.
листовка с призывом к учебным заведениям Ленинграда принять участие в краеведческой работе и указанием порядка проведения собрания. Предлагалось выступление председателя объединения молодых краеведов Н.П. Иешина, папы и руководителя краеведов станции П.А. Вельтищева. Листовка украшена рисунком пером Альберта Бенуа «Лахта. Северное побережье Невской губы».
В свободное время папа бывал на станции, а иногда и сам вел занятия по геологии. В ведении дел он полностью полагался на свой персонал — Н.П. Серебренникову, своего помощника; научных работников — Б.В. Пестинского (зоолог, художник), И.Е. Сергееву (экскурсовод), П.А. Вельтищева и технический персонал — В.С. Семенова (завхоз), А.Ю. Манн (кассир) и А.И. Ковалеву (уборщица).
Население поселков Лахта и Ольгино гордилось музеем, жители часто приходили вместе со своими приезжими друзьями осмотреть экспонаты животного и растительного мира этих мест. С 1919 года по 1929 год музей и станцию посетило более 104 тысяч человек. За это время было опубликовано 27 научных и методических работ, 18 — подготовлено к печати. На станции велся журнал посещений. Сам журнал не сохранился, но по одному из печатных источников можно познакомиться с некоторыми отзывами, относящимися к 1928 году.
С.Пархоменко, помощник ученого секретаря Центрального бюро краеведения (Москва) пишет:
«Лахтинская экскурсионная станция представляет прекрасное учреждение, которое может научить школьника и взрослого краеведа методике и технике изучения природы и ее производительных сил, а вместе с тем и любви к природе и бережному к ней отношению. Для школ Ленинграда и его окрестностей станция удачно разрешает вопрос о лабораторной постановке в деле изучения природы в трудовой школе. Для краеведа станция является тем учреждением, где он может значительно повысить свою исследовательскую квалификацию по целому ряду вопросов. Способность станции пропускать в течение года тысячи экскурсантов делает доступным для широких масс исследовательский метод, — проблема, которая еще никем не была разрешена. Строго научная постановка дела облегчает учащимся, поработавшим на станции, сделаться исследователями, что с большим трудом добиваются лишь избранные. Тематическое расположение материала в музее делает его весьма ценным пособием для школ, работающих по программам Гуса69. Значение станции для советской школы и для краеведения огромно».70
69 Государственный ученый совет народного комиссариата просвещения.
70 Виттенбург П.В. Опыт школьной краеведческой работы на Лахтинской экскурсионной станции // Известия ЦБК. 1929. № 7-8. С. 17.
Воспитатель детского карантинного пункта отметил, что три дня, проведенных на станции, имели колоссальное педагогическое значение для работы с трудновоспитуемыми подростками. «Хорошо представленная организация приема экскурсий, хорошее отношение сотрудников станции видно из того, что наши дети — бывшие беспризорники, воры, хулиганы — вели себя прекрасно. Из беседы с воспитанниками видно, что то, что они получили здесь, оставит в их памяти неизгладимый след. Четко поставленная исследовательская работа станции, прекрасно оборудованный интересными экспонатами музей лишний раз оправдывает педагогическое значение краеведческого музея Лахты»71.
Среди отзывов есть запись, сделанная профессором Д. Дьюи, возглавившим группу американских педагогов, работников экспериментальной школы в Нью-Йорке:
«В этом учреждении мы видим образцовый пример правильного педагогического метода в деле изучения природы и ее отношения к человеку. Замечательными особенностями этого учреждения являются: 1. полное изучение местной природы в отношении окружающей среды, 2. уяснение взаимной связи ботанических, зоологических и геологических факторов и 3. то обстоятельство, что дети, сами составляя коллекции и производя опыты и наблюдения, знакомятся не только с общим количеством фактов, но и С методами исследования, которые они научаются применять. Я был бы счастлив, если бы многие американские преподаватели естественных наук могли бы ближе ознакомиться с этой прекрасной развитой педагогической системой»72.
К 1929 году резко изменилась политика правительства по отношению к музеям и краеведческому движению. Руководящие организации Ленинграда требовали во всех музеях вести активную политико-воспитательную работу с трудящимися. Лахтинская станция и Музей природы получили от вышестоящих организаций критические замечания в свой адрес:
«Изучение экономики края в связи с классовой структурой населения его, изучение форм классовой борьбы в городе и деревне, изучение различных пережитков буржуазного прошлого, начиная с элемента религии, и изучение форм борьбы с этими пережитками, изучение темпа и форм развития социалистического сектора, отражение в музее победоносного шествия пролетарской революции, — вот что надо было бы добавить, чтобы вся работа станции, весь ее музей создали действительно "симфонию краевого музея"»73.
71 Виттенбург П.В, Опыт школьной краеведческой работы на Лахтинской экскурсионной станции // Известия ЦБК. 1929. № 7-8. С. 16-17.
72 Там же. С. 17.
73 От редакции // Известия ЦБК. 1929. № 7-8. С. 9.
Музейный сектор Наркомпроса считал целесообразным объединить малые музеи, которых в Ленинграде и области насчитывалось до 50. Музею Лахтинской экскурсионной станции неоднократно предлагали свернуть свою экспозицию, а экспонаты отправить в Ленинград. Идея «разрушения до основания» господствовала в умах власть предержащих. Пока папа руководил музеем, ему удавалось убедить высокие инстанции, что смысл музея природы только в том месте, на материале которого он создан.
После 1930 года Лахтинская станция и Музей природы просуществовали еще около двух лет. В 1932 году и музей и станция были ликвидированы. Богатейшие коллекции музея, в том числе великолепные чучела зверей и птиц, выполненные таксидермистом Академии наук С.К. Приходко, разошлись по многим организациям. Часть экспонатов была передана в Сельскохозяйственный музей в Пушкине, часть археологической коллекции влилась в отдел первобытного искусства Эрмитажа, многие экспонаты погибли на чердаках жителей Ольгино и Лахты, которые пытались их сохранить. Большая картина Альберта Бенуа была разорвана при переезде. Зоолога и художника Б.В. Пестинского арестовали и выслали.
Краеведческое движение оказалось разгромлено по всей стране. Центральное бюро краеведения ГПУ расценило как подпольную контрреволюционную организацию, его деятели были арестованы.
К сожалению, я мало смогла написать о папиной работе в Ленинградском университете, так как в архиве университета мне не удалось поработать. Знаю, что папа с увлечением читал лекции, привлекал студентов к участию в экспедициях, всегда был готов оказать помощь терпящим затруднения. У него были ученики, на которых он особенно возлагал надежды — это С.В. Калесник и Д.Г. Панов.
Жизнь в Ольгино, несмотря на все сгущающиеся тучи в Академии, внешне не менялась. Папа, как всегда, дома был доброжелателен, приветлив, внимателен, но в маме чувствовалась напряженность и тревога. Не знаю, как реагировали мои сестры, я же ощущала мамину озабоченность не домашними делами, а чем-то другим, посторонним.
У нас бывали прежние друзья. Из молодежи часто гостили Вова Лежоев, Шура Алешко и Петя Вельтищев — питомцы Лахтинскои экскурсионной станции. Они старались быть полезными в домашних делах, завоевать симпатии старших девочек. Ника кокетничала со всеми, но предпочитала Вову. Она кончила школу и готовилась к поступлению в Горный институт, где уже учился Вова. Люся усердно училась в школе, рисовала и занималась музыкой. Была по-прежнему задумчивой и несколько отчужденной. Ника, желая быть на уровне моды, однажды приехала из города в совершенно
новом виде — постриглась почти под мальчика с прической так называемой боби-копф. Люся оставалась с длинными волосами недолго: они как-то поспорили между собой — слабо мол Нике отрезать косу Люси. Сказано — сделано. Ника с трудом перерезала Люсину толстую косу. Та рыдала долго и безутешно, наверное, была не готова переступить порог новой жизни, нового самоощущения.
Проявилась необходимость завести собаку-сторожа, так как воровство в поселке процветало. Тобика, нашу любимую собачку-лайку, кто-то зимой убил и поставил в снег на дорожке, ведущей от железнодорожной станции к дому. Мы долго горевали, потом мама решила отправиться на собачью выставку, чтобы там выбрать верного сторожа. На выставке среди покупателей собак оказались пограничники. Мама подумала, что надо ориентироваться на их выбор — они-то в собаках понимают. Так мама купила приглянувшуюся ей и им немецкую овчарку под кличкой Мирза. В строгом ошейнике и наморднике, на цепи мама привезла его домой. Свирепость Мирзы была очевидна — он рвался, рычал и устрашал всех. Его привязали в столовой к столбу лестницы, ведущей наверх. Пищу подали в миске, пододвигаемой длинной палкой. Прошло немного времени и Мирза превратился в добряка-простофилю: как-то он спал под яблоней в саду, а мальчишки преспокойно воровали яблоки с той же яблони.
Мирза был красавцем. Он запечатлен на большом холсте — картине маслом, где Ника с развевающимся шарфом изображена стоящей на берегу Финского залива на фоне летящих облаков и виднеющегося вдалеке силуэта города. Она держит на коротком поводке Мирзу. Картину написал художник П.М. Дикий, вероятно, увлеченный Никой. Она с лукавой полуулыбкой смотрит на зрителя. Эту картину мы повсюду возили с собой. Она украшала самые разные наши жилища. Сейчас она висит у меня над роялем.
Два погрудных портрета — итальянским карандашом и маслом — написал с меня Б.В. Пестинский. Карандашный портрет вышел очень удачно. Портрет маслом не сохранился.
В то время в Ольгино часто случались пожары. Когда кто-то увидит начинающийся пожар, хватает медную трубу, которую полагалось иметь в каждом доме, и трубит на весь поселок. Это был единственный способ оповещения. Однажды случился пожар на даче Яичкиных, недалеко от нас. Мама выбежала на балкон детской комнаты и громко затрубила. Мне стало ужасно страшно. С тех пор я панически боюсь пожаров.
Одно из воспоминаний детства, которое застряло в памяти на всю жизнь: Бабенька (Аннушка) ведет меня за руку. Мы направляемся по Полевой улице в кооператив за продуктами (НЭП уже кончился). Бабенька рассуждает:
«Как это можно было город, построенный Петром Великим, назвать Ленинградом? Ведь Ленин его не строил и ничего для него не сделал». Я тоже думала: как это?
Новый 1930-й год мы встречали как будто спокойно. Сохранилась фотография: за круглым столом в столовой сидит семья и гости. Папа наставил фотоаппарат и сам успел встать за маминым стулом.
Весна 1930 года была ранней. Приближалась Пасха. В этом году она совпадала с маминым днем рождения. С продуктами становилось все хуже и хуже, но мы старались хотя бы что-то приготовить к празднику. Предчувствие чего-то страшного витало в воздухе, родители по вечерам долго не ложились. В ночь на 15 апреля, когда мы, дети, уже засыпали, раздался резкий звонок у входной двери. Свершилось... Гэпэушники обыскивали дом... Как они поднимались по скрипучим ступеням на второй этаж (с моей кроватки видна была лестница), запечатлелось на всю жизнь. Много раз с ужасом я видела эту сцену во сне.
Окончив обыск, опечатали кабинеты и гостиную, наложив печати на портьеры, пол и плинтусы, так как в гостиной двери не было.
Папу увезли. Наутро мы вступили в другую жизнь.
Глава V Другая жизнь. Лагерь на Вайгаче. 1930—1935
Глава V
Другая жизнь. Лагерь на Вайгаче. 1930—1935
Папа никогда не рассказывал нам, детям, о своем пребывании в тюрьме, о тех унижениях и страданиях, которые он там испытал. Мама, наверное, знала. Мы только слышали, что его долго держали в одиночке. За 10 месяцев, пока шло следствие, его волосы поседели.
Я читала папино следственное дело в архиве ФСБ. Оно занимает один очень толстый том допросов (том № 4) в многотомном «Деле Академии наук», еще в трех томах есть разные следственные материалы. Дело вели главным образом следователи А.Р. Стромин, А.П. Радзивилловский и С.Я. Рудовский. «Показания» папы, «дополнения к показаниям» и еще «дополнения» (некоторые из них написаны нервным, а не твердым папиным почерком) — под каким страшным прессом они добывались, невозможно себе даже представить... Допросы велись еженощно, начались, возможно, через месяц после ареста, о чем свидетельствуют даты протоколов, первый помечен 17 мая, а последний — 4 сентября.
Папа вначале, видимо, не мог взять в толк, что нужно следователю. Он полагал, что следователь интересуется сутью его работы. Показания его на многих страницах — обстоятельный отчет о его работе в КЯР. Следователь толкает его на признание во вредительстве, на что папа возражает: «Выполнение пятилетнего плана в 1930 году исключает возможность сознательного вредительства»1. И далее: «Теперь надо подвести итоги, закончить камеральную обработку материала — я могу этим заняться».2
1 Протокол допроса от 15.05.1930 // АУФСБ по СПб. и Ленобл., ф. арх.-след. дел, д. П-82333, т. 4, л. 181.
2 Там же.
Через несколько дней он говорит о своих планах: «В научном отношении в порядке соцсоревнования разработать применение диалектического метода для изучения геологии Полярных стран, издать свои труды по геологии Новой Земли и Ново-Сибирских островов, закончить научные исследования по Якутии с подведением всех итогов»3. Не это нужно было следователям. Им были не нужны научные результаты работ в Арктике. Их интересовало вредительство, организация интервенции США и Японии в Якутию, принадлежность папы к вымышленному «Всенародному союзу борьбы за возрождение свободной России», которым якобы руководили С.Ф. Платонов и А.Е. Ферсман.
В «Дополнительных показаниях» от 7 июня 1930 года читаем:
«Я не имел твердых политических убеждений. Те, которых я придерживался, можно квалифицировать как конституционно-демократические. В прошлом к политическим партиям я не принадлежал. Недостаточно воспринял Октябрьскую революцию и, не проникнувшись новыми задачами, которые ею были выдвинуты, я продолжал быть убежденным в том, что большевики, взяв в руки государственную власть, не будут в состоянии управлять страной. Впоследствии я, как многие другие, заявляя о себе как о человеке, стоящем на советской платформе, с неверием относился к тому, что большевики смогут быть строителями государства, и стоял на той точке зрения, что они должны уступить место другому политическому строю.
Все это, а также среда, в которой я вращался, естественно порождали мое последующее вовлечение и участие в контрреволюционной организации»4.
В 1956 году в обращении к прокурору Ленинграда с просьбой о реабилитации папа писал:
«Систематически применяя недопустимые методы воздействия, следователь сумел подавить мою психику.
Остатки душевных сил были сломлены, когда следователь начал угрожать применением санкций в отношении моей семьи. При одном из многочисленных ночных допросов следователь, в моем присутствии, по телефону дал распоряжение об аресте моей жены.
Вся моя жизнь, и предреволюционная и послереволюционная, была целиком посвящена научной работе в Академии наук СССР и геологическим исследованиям Крайнего Севера и других районов Союза. К таким психическим испытаниям я не был подготовлен и не смог дать должный отпор следователю.
Я был окончательно подавлен и морально и физически, и в результате появились мои "признания" в совершенно выдуманных преступлениях, полностью продиктованных следователем, как в отношении меня, так и других работников Академии наук: акад. А.Е. Ферсмана, проф. С.И. Руденко и тт. Халтурина и Раевского»5.
В результате допроса, проводимого Радзивилловским 9 июня 1930 года, папу вынудили дать показания, явно написанные под диктовку следователя:
«Исходя из анализа всей контрреволюционной деятельности организации, причинявшей реальный вред делу строительства в Союзе, я считаю своим долгом заявить о своем решительном и категорическом отмежевании от контрреволюционной идеологии и деятельности.
Если мне поверят в мое искреннее раскаяние и предоставят возможность, я отдам все свои силы для строительства СССР и заглажу тем самым те преступления, в которых я повинен перед Советской властью»6.
6 сентября 1930 года папе было предъявлено обвинение7: «Виттенбург П.В. достаточно изобличается в участии в контрреволюционной монархической организации и Якутском восстании, а также в умышленно небрежном исполнении своих обязанностей в период работы в Академии наук СССР»8.
До вынесения приговора в феврале 1931 года папа находился в ДПЗ (Доме предварительного заключения) на Шпалерной улице.
После ареста папы на следующий же день мама поехала в Ленинград искать работу. Нужны были средства к существованию, так как папино жалованье ушло на завершение ремонта дома и усовершенствование сада. В Горздраве предложили маме вакантное место врача в колонии несовершеннолетних преступников в поселке Лисий Нос. Колония была в ведении
5 АУФСБ по СПб. и Ленобл., ф. арх.-след. дел, д. П-82333, т. 9, л. 69.
6 Протокол допроса от 09.06.1930 // Там же, т. 4, л. 370.
7 Ст. 58-2, 10, 11 и 14 УК РСФСР.
8 Там же, л. 376.
социально-правовой охраны несовершеннолетних (СПОН), ее питомцы назывались споновцами. На должности врача там долго никто не задерживался. Если споновцы кого-либо невзлюбили, тому жизни уже не было. Но маму споновцы не испугали, она нашла с ними общий язык, ей даже было с ними интересно. Она удивлялась их изобретательности и находчивости. Показанный им фильм «Путевка в жизнь», они оценили как надуманный и фальшивый.
Кроме того, мама поступила школьным врачом в 7-ю детскую поликлинику Выборгского района (пр. К. Маркса, д. 4). Все 1930-е годы она работала в этой поликлинике. Война застала ее в должности заместителя главного врача. (Главным врачом была прекрасный человек Екатерина Григорьевна Быстрова.) В то время врачей было мало, разрешалось брать более одной ставки. Мама заняла еще место врача в Выборгском доме культуры. Там нужно было дежурить по вечерам. В результате она работала с раннего утра до позднего вечера.
Мама регулярно ходила в ГПУ, которое тогда помещалось в доме № 2 по Гороховой улице. Вход к следователю был через арку двора. Мама бесстрашно твердила следователю, пытаясь его убедить, что папа не преступник, что он ни в чем не виновен, что выступать или действовать против советской власти он абсолютно не мог. Как-то следователь (это был Стромин) ответил: «Я все понимаю, но сделать ничего не могу».
Когда мама шла на Гороховую, она имела с собой маленькую подушечку-думку, чтобы в случае ареста было на что в камере приклонить голову. Часто ей приходилось брать с собой меня, восьмилетнюю девочку: оставить дома было не с кем. У фонтана Адмиралтейского сада, тогда бездействовавшего, я дожидалась ее возвращения. На случай, если ее арестуют, я должна была по записочке, лежащей у меня в кармане, найти дом, где жила Татьяна Львовна (Кирочная дом 12, кв. 5) — она бы меня приютила.
Мы — мама, Люся и я — продолжали жить в Ольгино в своем доме, наполовину опечатанном. Появился в качестве «жильца» некий Мышкин, соглядатай ГПУ9.
Ника как-то незаметно вышла замуж за Вову Лежоева и уехала жить к его матери Екатерине Михайловне — машинистке КЯР. (Папа в середине 1920-х годов помог ей найти эту работу). Жили они на Ораниенбаумской улице, дом № 1. Люся заканчивала Ольгинскую школу-семилетку (тогда школьное образование состояло из семи классов). Я осенью поступила в первый класс.
9 Оперативный сотрудник, в обязанности которого входил контроль за домом, обреченным на конфискацию, а сам он служил защитой от несанкционированных вселений.
Мама несколько раз ездила хлопотать о папе в Москву, в Политический Красный крест, которым руководила Екатерина Павловна Пешкова. Хлопоты ничем не увенчались: «Дело Академии наук» было крепко «сшито».
По всему было видно, что конфискации имущества не избежать. Пока Мышкин отсутствовал, Вова Лежоев и Шура Алешко помогли вытащить из запечатанных комнат Ольгинского дома многое, дорогое как память. Вове удалось достать из папиного кабинета то, что папа особенно любил, — старинные часы с боем, из гостиной извлекли картины Альберта Николаевича, некоторые книги, настольную лампу с красивым абажуром. Эти вещи мы рассовали по знакомым.
Жизнь стала очень тоскливой...
Перед папиным арестом, предчувствуя катастрофу, мама вспоминала слова цыганки, которая еще во Владивостоке нагадала мальчику Павлу: «Ты добьешься многого, станешь известным человеком, но потом тебя настигнет крах».
Одно из последних теплых воспоминаний моего детства: осенний вечер, кухня. Мама приласкала меня, взяла на руки. Удивилась, что ноги почти достают до пола, и сказала Аннушке: «Боже мой, как выросла, а я и не заметила когда...»
1931 год. «Академическое дело» подвигалось к развязке. В феврале следствие вынесло «Обвинительное заключение по "Всенародному Союзу борьбы за возрождение свободной России»10. Теперь оно смотрится, как «сочинение» со многими разделами и подразделами. Выделена группа заключенных из десяти человек, в том числе и Виттенбург П.В., которым предъявлено обвинение:
«а) Вступление в разное время в организацию ВСБ за ВСР, занимались систематической пропагандой идей организации, содержащей призыв к свержению Соввласти, путем вооруженного восстания и иностранной интервенции и установления конституционно-монархического образа правления, б) По поручению руководства ядра организации использовали свое служебное положение в учреждениях Академии наук и занимались систематическим вредительством в области экспедиционных исследований: вредительство выражалось в бесцельной трате гос. средств на экспедиции, лишенные научного и практического значения; в сокрытии результатов экспедиционных исследований, имеющих актуальное практическое значение для развития народного хозяйства СССР,
10 Обвинительное заключение // АУФСБ по СПб. и Ленобл., ф. арх.-след. дел, д. П-82333, т. 8, л. 1-108.
использовании отдельных экспедиции путем включения в ее состав своих сторонников для организации антисоветского движения в окраинах СССР (Якутии, Башкирии и др.). поддержки местных контрреволюционных элементов. Означенные преступления предусмотрены ст. 58-11 УК»11.
Первая серия приговоров была вынесена 10 февраля 1931 года. Среди группы обвиняемых, получивших разные сроки исправительно-трудовых лагерей, было выделено индивидуально «дело» папы: «По решению Тройки ОГПУ ЛВО от 11.02.1931. Виттенбурга П.В. по ст. 58-П расстрелять. Высшая мера соц. защиты заменена заключением в лагере на 10 лет. Имущество конфисковать»12.
Врезалась в память сцена: мама, вернувшись в Ольгино после последнего посещения ГПУ, бросилась в спальне на кровать и рыдала. Впервые видела я маму, потерявшую власть над собой.
Один из ученых Академии Сергей Викторович Сигрист, тоже осужденный по «Академическому делу», написал в воспоминаниях: «Первая партия приговоренных вечером 16 февраля после прощания с родными (через коридор, разделявший нас двумя решетками) отправилась из Крестов по Полюстровской набережной на запасные пути Финляндской железной дороги и погружена в арестантские вагоны. <...> 24-го мы прибыли на Май-Губу на берегу карельского озера Выг, откуда нас разбросали по разным "командировкам"»13. Видимо, среди этой партии был и папа.
Папу определили рабочим на лесоповал в районе Май-Губы. Силами заключенных велось строительство Беломорско-Балтийского канала. Затем начальство нашло целесообразным использовать папу в качестве санитара при санчасти в Кеми. Там он встретил своего коллегу А.А. Бялыницкого-Бирулю, получившего срок 3 года.
Тем временем в конце весны или в самом начале лета 1931 года ГПУ приступило к конфискации дома, папиных работ и книг в кабинете Академии наук. В Академии у него хранилась большая библиотека, примерно в 5000 томов по полярным странам, разные коллекции, в том числе плакатов и медалей полярных исследователей. Дома, еще при обыске, забрали большую толстую книгу-альбом в кожаном коричневом переплете с вытесненным названием «Ольгино». В ней оставляли свои заметки, стихи и рисунки
11 АУФСБ по СПб. и Ленобл, ф. арх.-след. дел, д. П-82333, т. 8, л. 89.
12 Зачитано Е.П. Виттенбург по телефону служащим Архива УФСБ по СПб. и Ленобл.
13 Ростов Алексей [Сигрист С.В.] Дело 4-х академиков / Память: Исторический сборник. Вып. 4. Париж, 1981. С. 483. «Академическое дело» называлось еще «Делом четырех академиков». (С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле, Н.П. Лихачев и М.К. Любавский). А, Ростов — псевдоним С.В. Снгриста.
наши друзья, приезжавшие к нам. Были там стихи, написанные рукою Татьяны Львовны, акварели Альберта Николаевича. Книга, очевидно, погибла. Поскольку нас выселяли из дома, маме предложили на выбор одну из трех комнат на Петроградской стороне, освободившихся после ареста живших в них людей. Мама согласилась на комнату в 22 метра в доме 61 по улице Красных Зорь (Каменноостровскому проспекту).
Я не помню каких-либо специальных сборов — носильных вещей у нас было мало. Всем распоряжались гэпэушники. Помнится, что во время вывоза вещей мы с мамой остались вдвоем. Аннушка переехала жить к своей замужней дочери там же, в Ольгино. Люся и Ника занимались уборкой в новой комнате. Мама себя словно заморозила — она была совершенно безучастна к происходящему, легла на перила балкона первого этажа и неотрывно смотрела в небо. Я же сидела в кустах смородины, плакала и подвывала себе под нос: «Последний нынешней денечек...»
Чтобы вывезти содержимое нашего дома, понадобилось одиннадцать грузовых машин, а на последнюю погрузили оставленные нам вещи: кровать, сундук (служивший потом диваном и шкафом), два стола — письменный мамин и обеденный, книжный шкаф (частично ставший буфетом), платяной шкаф и старинное бабушкино кресло.
Началась другая жизнь...
Квартира, в которой мы поселились, ранее принадлежала одной семье. Пожилая пара, как тогда говорили, «из бывших», были интеллигентные забитые люди, которые старались быть незаметными. Они продолжали занимать две комнаты у парадного входа. Их сын был только что арестован, его комната предназначалась для нас. Обаятельная, красивая дочь где-то работала, а ее муж, молодой элегантный бездельник, бравировал своей свободой. Рядом с нами занимал комнату молодой веселый человек, Елисеев, кажется, рабочий. Он играл на балалайке, был всегда приветлив, подсовывал под нашу дверь Нике, когда она бывала у нас, записочки с приглашением вместе куда-нибудь пойти. Около кухни в маленькой комнате для прислуги жила одинокая женщина Кирилловна — работница какой-то фабрики. Все было бы прекрасно, если бы в коридоре за занавеской у окна не поместилась бывшая прислуга прежних хозяев квартиры — Клавдия Боломотова (мы назвали ее Боломоткиной). Худая, некрасивая женщина неопределенного возраста, косноязычная, сугубо пролетарских воззрений. Нас она возненавидела классовой ненавистью. Устраивать скандалы на общей кухне, стучать кулаками в нашу дверь и кричать всякую чушь было ее любимым занятием. Она дошла до того, что ко времени получения
паспортов14 сообщила в паспортную комиссию, что мама помещица, владелица имения. Помню, как мама после болезни — тяжелого рожистого воспаления ноги, поддерживаемая мной и Люсей, медленно направилась по вызову в паспортную комиссию, заседавшую в бывшем доме Лопухиных в саду имени Дзержинского. Не получить паспорта, стать лишенцем — было катастрофой: ни работы, ни хлебных и прочих карточек. Мама очень волновалась, но все обошлось, наветы Боломоткиной успеха не имели.
В коммунальных квартирах центр пересечения интересов — это кухня. Каждая семья имела свой стол. В нашей кухне их было сначала три, а потом пять. На бывшей дровяной плите «лес» примусов. Уют прежней кухни с плитой, топящейся дровами, и кипящим самоваром сменили шум и копоть примусов. Недаром сложилась песенка на мотив из «Баядеры»: «Цветок душистых прерий, о, как вы загорели! Но ваш загар совсем не натурален — живете вы в квартире коммунальной: там примусов штук 200, горят они все вместе!» Я быстро усвоила эту песенку и с удовольствием распевала ее. Кстати, мой песенный репертуар в это время чрезвычайно «обогатился». Как то: «На окраине, где-то в городе я в убогой семье родилась...» и т.д., или: «Мы познакомились на клубной вечериночке, картину ставили тогда "Багдадский вор", Оксфорд коричневый и желтые ботиночки зажгли в душе моей пылающий костер...» или несколько другого направления, наверное, еще со времен НЭПа: «Дон подшкипер английской шхуны уж плавал много лет. Знал заливы, моря, лагуны и Старый, Новый свет», припев: «Есть на свете свободная страна, всем защитой служит она!» Особенно душевной казалась песня из кинофильма «Путевка в жизнь»: «Позабыт, позаброшен...».
В начале лета Ника сдала экзамены в Горный институт и с Вовой, студентом третьего курса, уехала на практику в Дагестан.
Мама получила предложение от дяди Вили из Киева прислать на лето младших детей — Люсю и меня. Мы с трудом купили билеты, собрались и отправились на вокзал.
В те годы поездка в поезде дальнего следования была малокомфортна. Вагоны прежнего 3-го класса, места не нумерованные, на билете указывался только номер вагона. Посадка начиналась невесть когда. В вагон лезли и через окна и через двери. Когда мы приехали на вокзал, оказалось, что наш вагон уже забит до предела. С трудом втиснулись в тамбур у самых дверей. Через несколько часов в коридоре стало свободнее и протиснулись
14 Положение о паспортах принято Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27.12.1932 (СЗ. № 84). Паспорта начали выдавать в 1933 г.
туда, а к ночи приблизились к купе, и там на чьей-то поклаже удалось даже поспать. В Орше предстояла пересадка. Поезд туда прибыл на рассвете. На пустых путях нашли нужный нам вагон, который должны были прицепить к другому поезду, и через несколько часов мы были в Киеве,
После изнурительной дороги, грязи и хаоса попали в чистоту, уют и порядок. Порядок прежде всего... Ведущий врач города Киева, хирург-гинеколог, профессор, дядя Видя получил в свое пользование полуразрушенный одноэтажный дом с большим садом по улице Короленко, № 66. После капитального ремонта дом превратился в удобную виллу с комнатами для семьи и специализированным кабинетом профессора. Открытый балкон выходил в прекрасный цветник, а за ним, теснимый высокими городскими домами, фруктовый сад. Быт был организован по старому порядку: горничная (бывшая монахиня), повариха, садовник — он же дворник. В боковом флигеле дома поселились племянницы дяди Вили — Марго и Ира Мейссель, которых он пригласил из Владивостока, где они, оставшись без родителей, бедствовали.
Я впервые увидела дядю Вилю. Он был похож и одновременно не похож на папу: крупнее папы, солидный и даже важный, с черными усами. Но в интонациях голоса, манерах у них оказалось много общего. Сердился же он совсем как папа — бурно и моментально отходил. Мы с Люсей не могли нарадоваться, увидев у него общие с папой черты. Он любил сажать меня к себе на колени и слушать мои рассказы о нашей жизни, просил спеть ему в новой интерпретации «Цветок душистых прерий...». Его жена, тетя Нина, была красива и приветлива, но я ее немного чуждалась. Сын Володя — ровесник Люси — готовился к поступлению в университет на биологический факультет.
Их жизнь настолько отличалась от нашей новой жизни, что казалась ненастоящей. По стилю была непохожа и на нашу прежнюю, ольгинскою, строгостью, упорядоченностью и какой-то значительностью.
Свой летний отпуск мама провела в Май-Губе. Она добилась разрешения приехать в лагерь на свидание, а там получила право работать врачом по вольному найму на время отпуска. Ей предложили место участкового врача при лесозаводе № 3. Благодаря этому она смогла морально поддержать папу. В Кеми они сфотографировались. Папа с коротко остриженными волосами и печальным взглядом, мама прильнула к нему, в глазах застыл ужас.
Мама рассказывала, что в Май-Губе ей пришлось пережить самый страшный день своей жизни. Надлежало провести судебно-правовую экспертизу трех трупов — жертв взрыва корабельного котла. Врачи-мужчины
отказались это сделать. Маме пришлось заставить себя во мраке спуститься вниз в котельное отделение и среди смрада уже полуразложившихся трупов их освидетельствовать. В течение нескольких дней ей не удавалось прийти в себя.
В августе, уже после маминого отъезда, лагерное начальство приступило к отбору заключенных с большими сроками для работы по специальности в других лагерях. На остров Вайгач, в лагерь под названием Вайгачская экспедиция ОГПУ15, требовались геологи, топографы и рабочие в шахты. Здесь судьба улыбнулась папе — его направили в Арктику. Хотя он оставался невольником, но работать предстояло в регионе, который его давно интересовал в научном отношении.
На Вайгач из Архангельска ходил пароход «Глеб Бокий». В прошлом нефтеналивное судно, превращенное затем в сухогруз, использовалось для перевозки заключенных и грузов для лагеря.
В воспоминаниях «Пути больших этапов» Вацлав Дворжецкий, отбывавший часть срока в лагере на Вайгаче, написал, как доставлялись заключенные на остров с Большой земли:
«[в Архангельске] ...перегрузили в трюм большого грузового корабля. Добавили еще человек 100. Через день вышли в открытое море. Слухи были: не то остров Колгуев, не то Новая Земля, не то Соловки. Белое море, Баренцево, Карское — это было путешествие! В этом же трюме груз: трубы, доски, ящики, бумажные мешки с цементом, железные бочки с соляркой и керосином — и люди! 300 человек без какой-либо подстилки. День и ночь страшная качка! То килевая, то бортовая. Шторм! Временами через открытый люк высоко-высоко горизонт виден, море, волны. Морская болезнь — рвота, стоны, вонь; грохот волн, падают ящики, рассыпается цемент, люди пытаются удержаться, хватаются за что попало, все вповалку, без еды, питья и воздуха... Прибыли. Сколько времени длился этот ад — сообразить трудно. Потом выяснилось — трое суток (высадились 10 августа 1931 года). Высаживаются живые, сколько там в трюме осталось — неизвестно, да и не важно: выгружаются! Корабль на рейде, в бухте, километров в 10 от берега. Льдины-айсберги рядом, низкий песчаный берег, скалы, до горизонта тундра, бараки и запах еды... остров Вайгач»16.
Лагерь был создан для разведки и разработки полиметаллических руд. Большую часть заключенных составляли уголовники-тридцатипятники17 —
15 Подробнее о Вайгачской экспедиции ОГПУ см.: Флиге И.А. Особлаг Вайгач //Вестник Мемориала. Вып. 6. СПб., 2001. С. 12-26.
16 Дворжецкий В. Пути больших этапов: Записки актера. М.; Н. Новгород, 1994. С. 54.
17 «Тридцатипятники» — люди, осужденные по ст. 35 УК РСФСР.
они работали в шахтах. Научно-технический персонал (ИТР) состоял из осужденных по 58 статье. Начальником лагеря в 1931 году был А.Ф. Дицкалн, в прошлом красный латышский стрелок.
На мысе Раздельном в бухте Варнека в шахтах добывалась свинцово-цинковая руда. Папу назначили рудничным геологом, а потом начальником геологической части и старшим геологом экспедиции.
Будучи еще на Беломорканале, папа заинтересовался природными особенностями Карелии, ее почвами и геологией. Свидетельство тому толстая общая тетрадь с конспектами, схемами и разрезами. Тетрадь помечена: «Кемь-Вайгач. 1931». Вайгачские записи касаются геологии Вайгача и Новой Земли, составлены на основании проработанных книг на русском и немецком языках. В конце тетради, уже рукою мамы, законспектирована книга профессора Ливеровского о проектировании железных дорог в условиях вечной мерзлоты, видимо, выполненная для папы уже в 1932 году. Папе предстояло закладывать новые штольни в вечной мерзлоте. Подобного опыта пока в стране не существовало.
В лагере папа сразу же организовал курсы коллекторов. Предстояли большие поисковые работы на острове и нужен был средний геологический персонал. Среди его учеников, в частности, были Аркадии Викентьевич Малаховский, Константин Петрович Гурский и Вацлав Янович Дворжецкий. Малаховского после освобождения папа пригласил в большую Таймырскую экспедицию в качестве коллектора. Рурскому папа помог в лагере приобрести профессию топографа, которая в дальнейшем ему весьма пригодилась. Много лет спустя в переписке со мною Константин Петрович уважительно и тепло вспоминал о папе18. Вацлав Дворжецкий писал: «Увлекся геологией. Геолог профессор Виттенбург четыре года был моим учителем. А профессор Сущинский познакомил меня с основами петрографии. Летом я уходил в поисковую партию с геологами: палатки, лаборатория, инструменты, топография»19.
Вернувшись из Май-Губы, мама с головой ушла в работу. Новые неприятности: Нику и Вову исключили из Горного института. Нику — как дочь осужденного, а Вову — как сына бывшего торговца (его покойный отец имел писчебумажный магазин в Гостином Дворе). Ника пошла работать на завод имени Макса Гельца (теперь Линотип). Ее взяли ученицей на фрезерный станок, вскоре она овладела им и стала фрезеровщицей довольно высокого разряда. Вова искал себе применения по геологической
18 Письмо К.П. Рурского к Е.П. Виттенбург. Симферополь, 05.04.1990 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
19 Дворжецкий В. Пути больших этапов: Записки актера. М.; Н. Новгород, 1994. С. 62.
специальности. Люсе после окончания школы ничего не оставалось, как поступить на завод, сперва ученицей ФЗУ «Красного Выборжца», а затем фрезеровщицей в цех. Работала в три смены, ночная смена давалась ей очень тяжело.
НЭП давно кончился. В разгаре коллективизация. В Ленинграде наступил очередной голод. Появились магазины — закрытые распределители. Ближайший к нам, на углу Вологодской улицы и Красных Зорь (Чапыгина и Каменноостровского проспекта), — распределитель завода М. Гельца, а на углу Песочной улицы (ул. Проф. Попова) и Каменноостровского — завода «Красногвардеец». Продовольственные карточки нужно было прикреплять к магазинам, так же как и хлебные к булочным. В магазинах почти ничего не было. Появлялась колбаса, которую шутя разделили, наверное, не без основания, на три сорта: «Первая конная», «Собачья радость» и «Маруся отравилась». Зато открылось много так называемых пунктов общественного питания — столовых. Туда тоже нужно было прикреплять карточки (взамен магазина). Столовые были ужасные. Меню одно и то же изо дня в день: «вода со пшой» и «пша с водой» — и суп и второе из пшенной крупы с чайной ложечкой какого-то растительного масла. В столовой все-таки можно было что-то съесть горячее, а дома некому было готовить, да и не из чего.
Как-то мама в качестве поощрения за хорошую работу получила ордер на несколько килограммов сухофруктов. Для этого она сшила специальный баул, в котором сухофрукты долго хранились под письменным столом. Они оказались невкусными, да и сахара, чтобы сварить компот, у нас не было.
Люся как-то получила ордер на отрез для платья. В распределителе, куда мы пришли его отоваривать, предложили хлопчатобумажную материю серо-зелено-голубого цвета, словно уже выцветшую, с красным орнаментом в виде маленьких тракторов и шестеренок — рисунок на злобу дня: Путиловский завод начал выпускать тракторы.
К началу учебного года меня приняли во 2-й класс школы № 190, находившейся в здании бывшей гимназии на Плуталовой улице. Наш класс вела молодая учительница Рита, не Маргарита, а именно Рита, — совсем молоденькая девушка. Она нашла к своим ученикам подход, и мы все, как мне казалось, в нее влюбились. Учиться было легко и радостно.
В школу я ходила по Каменноостровскому проспекту. Разглядывала высокие каменные дома, мама показала мне дом эмира Бухарского. Рассматривала дом с затаенным любопытством, старалась представить жизнь эмира. В одной из ниш парадного входа дома напротив часто играл на скрипке старичок. Перед ним лежал футляр. Редко кто-нибудь из прохожих
бросал ему монету. Как мне казалось, играл он очень хорошо, хотелось с ним познакомиться, как-нибудь помочь ему — наверное, он был совсем одинок...
Однажды осенью, в выходной день (теперь он падал то на пятый день — тогда неделя становилась пятидневкой, то на шестой — тогда шестидневкой), все были свободны и пошли вечером погулять по Каменному острову. Тогда еще сохранялись на острове особняки и дачи самой разнообразной архитектуры. Их было так интересно рассматривать, представлять, кто и как в них живет. Так, один замысловатый дом архитектора Р.Ф. Мельцера мы представляли домом «Маленькой хозяйки большого дома» Джека Лондона, другой — домом Маргариты из «Фауста» Гете, и так далее. Особенное восхищение вызывал собственный дом архитектора Мельцера с огромным подсолнухом над деревянным крыльцом, построенный из трех видов материала — внизу нетесаный камень, затем кирпич, выше темные круглые бревна. Все это под высокой черепичной крышей. Он был уже разделен на коммунальные квартиры и заселен разной публикой.
Тихо гуляя, почти никого не встретив, мы дошли до Елагина острова. Перешли мост и увидели в прелестном павильоне Росси свет. Зашли. При входе стояло на задних лапах чучело медведя. Внутри тепло, хозяин, прилично одетый мужчина, приветливо пригласил нас войти, предложил кофе. Сели за столик, подали кофе, подогреваемый на спиртовке. Не помню, были ли сухарики или что-то еще. Мы были поражены этим «осколком» прошлой жизни.
1932
Событием этого года было свидание с папой. В марте папа получил благодарность от начальника лагеря и в виде поощрения разрешение на свидание с семьей. Свидание было возможно только в период навигации, что совпадало с летними полевыми работами геологических партий. Папа предложил совместить наш приезд с работой в поле. Мама получила отпуск и быстро собралась в далекую Арктику. Она решила взять меня с собой.
Дорога до Архангельска с пересадкой в Вологде в то время представляла много трудностей. Поездов мало, народу много. Куда-то всем надо ехать, а билетов нет. В Вологде на вокзале нам пришлось провести несколько суток, народ со своими вещами забил сплошь как билетный зал, так и зал ожидания. Духота. Плач детей. Снуют какие-то подозрительные личности. Мама беспокоилась, что опоздаем на пароход. Когда мы, наконец, достигли Архангельска и нашли нужное начальство, выяснилось, что пароход «Глеб Бокий» пойдет в рейс через несколько дней. Предложили остановиться в пустом здании школы на улице Павлина Виноградова.
Угловой класс, который нам был предназначен, представлял собой склад столов. Улеглись на голых столах. Ни подстилок, ни одеял, хорошо, что лето было теплое. В качестве запора — ключей, крючков, задвижек на дверях не было — устроили систему поясков и веревочек, соединивших ручку двери с ножкой нашего стола. Утром проснулись и с удивлением увидели незнакомую женщину, стоящую рядом.
Через несколько дней разрешили занять каюту на пароходе, и мы с облегчением перешли на «Глеб Бокий». На этом небольшом корабле было несколько пассажирских кают. На пароходе оказались еще пассажиры — три женщины, в том числе жена заведующего политической частью лагеря И.А. Кокорева с маленькой дочкой Галочкой.
Говорили, что и капитан судна Штеренберг — настоящий морской волк, суровый и сдержанный, и первый помощник капитана Евгений Сергеевич Вилецкий — обаятельный, общительный человек, и остальная команда — все тоже отбывали свои сроки.
Как только мы взошли на пароход, мама, встретив капитана, вежливо спросила, когда он предполагает прибыть на Вайгач. Ее удивил суровый, даже грубоватый ответ: «Не могу знать». Довольно скоро мы поняли, что более бестактного вопроса задать капитану невозможно...
Настал день отплытия. В Белом море корабль круто повернул на запад. Нас предупредили, чтобы никто не проявлял любопытства и не высовывался, так как «Глеб Бокий» заходит на Соловецкие острова. Раннее солнечное утро. В бухте у высоких стен монастыря истошно кричат чайки. Конечно, через щелочку в иллюминатор мы наблюдали происходящее. Когда судно пришвартовалось, раскрылись ворота в каменной стене, и к кораблю потянулась цепочка молодых, довольно бесшабашных на вид заключенных. У некоторых из них в руках были балалайки. Это тридцатипятники — рабочая сила для рудников лагеря на Варнека. Их поглотил трюм «Глеба Бокого». Больше мы их не видели и не слышали.
После выхода из горла Белого моря корабль стало сильно качать. А между мысом Канин и островом Колгуев разыгрался настоящий шторм. Мама морской болезнью не страдала — стояла на палубе и любовалась разыгравшейся стихией. Я же пластом лежала в каюте. По мере приближения к Вайгачу в Баренцевом море стали появляться льдины, а потом и ледяные поля. В результате постоянной подвижки льдов наш «Глеб Бокий» оказался затерт ими со всех сторон. Утром, поднявшись на палубу, увидели что-то совсем невероятное: кругом сплошные белоснежные ледяные поля, а на горизонте — красивые, освещенные солнцем горы. Нам сказали, что горы — это мираж.
Льдины при движении плотно сжимали корпус корабля, он поскрипывал, на льду оставались следы краски с бортов судна. Капитан стал еще суровее... По радио вызвали ледокол. Скоро пришел ледокольный буксир «Девятка», но помочь ничем не смог. В эти дни мы узнали, что на корабле есть еще один пассажир. Это Максим Пешков — сын Алексея Максимовича Горького. Он ехал в сопровождении охраны и всю дорогу беспробудно пьянствовал. Когда корабль остановился, окруженный льдами, его вывели на палубу и он занялся стрельбой из ружья в белых медведей, которые из любопытства приближались к судну.
Во льдах мы простояли две последние недели июля месяца. Наконец, капитану удалось вызвать на помощь один из наиболее мощных ледоколов того времени «Ленин». В густом тумане беспрестанно раздавались гудки то нашего корабля, то ледокола. Чтобы вывести нас изо льдов, «Ленин» должен был вплотную подойти так, чтобы мы своим носом врезались в его раздвоенную корму. Тем самым возникал как бы сплошной корпус, и выводимый корабль становился словно продолжением ледокола. Так мы и двинулись по направлению к Вайгачу. На горизонте показался берег желанного острова. Ледовая обстановка стала улучшаться. «Ленин» оставил нас, так как «Глеб Бокии» мог уже своим ходом понемножку продвигаться среди битого льда. Как выяснилось, капитан очень опасался, что неприспособленное к плаванию в Арктике судно легко могло быть раздавлено льдами. Скоро среди разводий увидели приближающуюся к нам моторную лодку. На этой лодке среди нескольких мужчин был и папа! Он поднялся на палубу, и мы радостно обнялись.
Поселок в бухте Варнека в то время представлял собой небольшое поселение. Поскольку нам с мамой предстояло сопровождать папу в полевых работах, то остановиться на время пришлось у Кокоревых, в домике на холме. Когда настал день отъезда, к нашему домику подкатил своеобразный экипаж: упряжка с пятью оленями, запряженными веером в нарты. Нарты — легкие сани, на которых ездят по тундре: летом — на оленях, а зимой — на собаках. Они изготавливаются без гвоздей, крепления связываются полосками оленьей кожи. Ненец с хореем — длинной палкой с костяным кружочком на конце для управления упряжкой — уже поджидал нас. Мы с мамой уселись на одни нарты, папа подъехал на других и все отправились в тундру. Езда на оленях без поклажи очень быстрая. Удивительно, как ненцы ориентируются в тундре, где ландшафт столь однообразен. Когда нужно проверить правильность взятого направления, ненец останавливается, слезает с нарт и смотрит под ноги. Ему становилось ясно, куда надо ехать. Что он там видел, оставалось тайной.
Для транспортировки геологического отряда и его снаряжения существовала договоренность с ненецким семейством Вылка, которые владели на острове стадом оленей. Семья состояла из старейшины, трех сыновей: Василия — старшего, красавца (мама говорила, что он готовый типаж для роли Бориса Годунова), среднего сына (не помню его имени) и младшего — Степана. Старшие братья с семьями жили все вместе, младший еще не был женат. Много женщин, много детей, однако в их клане царил порядок: каждый знал свое место.
Папа легко находил с ними контакт. Они его уважали, называли «та-рик» — старик (в свои 48 лет папа был совершенно седым), а маму — «баба-русак». Во время разъездов по острову ненцы ставили чум на самом высоком месте, а геологи свои палатки — наоборот, поближе к речке, с подветренной стороны. Рассказывали, что в прошлом году происходило раскулачивание ненцев. Кулаком считался тот, кто имел примус — символ излишнего достатка.
Геологическую партию составляли семь человек: коллекторы, рабочие и начальник — папа. Все заключенные. Располагались в четырех палатках. Когда мы приехали на первую базу и вошли в свою палатку, ахнули от удивления — так было уютно и красиво устроено папой: три топчана, аккуратно прибранные, стояли по трем сторонам палатки, посередине складной столик под белой салфеткой и с букетом желтых полярных маков, перед входом — железная печурка с трубой, выведенной над входом. Папина потребность в красоте и уюте не изменяла ему и в полевых условиях.
Ежедневно рано утром, позавтракав густым супом, в любую погоду папа уходил во главе своей партии на поисковые работы. Все маршруты по разведке полезных ископаемых проводились пешком за многие километры. Возвращались поздним вечером, тогда только обедали, сушили на печурках вещи. Один из рабочих по очереди оставался дежурным — готовил обед, запасал воду, протапливал печурки к приходу остальных. Выходных дней не было — лето короткое.
Мы с мамой целыми днями оставались одни. Когда не было дождя, мы гуляли по тундре (на ногах — выданные нам русские сапоги: никакая другая обувь не годилась). Тундра летом живописна: много цветов, кочки сплошь покрыты незабудками разнообразных оттенков, встречаются колокольчики, среди камней вырастают невысокие маки. Здесь и там видны карликовые березы и ивы с изогнутыми прижатыми к почве ветками — ветры не дают им выпрямиться. Кочки в тундре служат пристанищем бесхвостым мышкам-пеструшкам — леммингам. Лемминги — основное питание песцов, численность которых находится в прямой зависимости от
величины популяции мышек. На Вайгаче множество птиц. Кто-то из ненцев одним выстрелом подстрелил трех лебедей. Мы пробовали мясо этой птицы не без трепета в сердце.
Когда палатки ставили невдалеке от моря, маршрутами наших прогулок становился морской берег. Незабываемы эти прогулки вдоль кромки бурлящих волн в нехоженых бухточках среди отвесных скал. Что только море не выбрасывало на берег!.. Под ногами находили морских звезд и морских ежей, разнообразные заморские винные бутылки (искали в них записки и как-то нашли), зеленые стеклянные шары — поплавки от сетей норвежских рыбаков... Если берег бывал высок и скалист, тогда мы ходили над морем. Мама мне рассказывала много интересного, чаще сюжеты опер, напевала увертюры, арии всех партий. Она вспоминала великих артистов, их манеру пения, игры, и передо мной возникал совсем другой, чудесный мир.
Когда погода не располагала к прогулке, мы оставались в палатке. Бывало, к нам прокрадывались гостьи — молодые ненецкие женщины. Подталкиваемые любопытством, преодолевая робость, они пролезали в палатку снизу, словно в чум. Смеялись, но ничего сказать не могли: русского языка они не знали. Их все интересовало. Зеркала они никогда не видели. Мама показала им маленькое карманное зеркальце — они никак не могли взять в толк, что видят свое отражение: искали кого-то за ним. К сожалению, у нас с собой не было ничего занимательного, что могли бы им подарить: наше хозяйство было сведено до минимума. К всеобщей радости, мама дала им какую-то коробочку с картинкой.
Мама всегда имела с собой фонендоскоп и кое-какие лекарства. На одной из стоянок Василий пришел попросить маму осмотреть отца, глубокого старика. В чум полагалось влезать на четвереньках, откинув шкуру при входе. Она нашла старейшину рода тяжелобольным — спасти его было невозможно. Через несколько дней он умер. Как хоронили старика — мы не видели, но были свидетелями тризны. Съехались многие ненцы из Большеземельной тундры, с Новой Земли и других островов. Оставалось загадкой, как без радио и телефона они сумели оповестить своих родичей, кочующих по таким огромным безлюдным пространствам? Один из ненцев крикнул собакам несколько гортанных слов, собаки тотчас понеслись в тундру разыскивать пасущихся оленей. Олени пригнаны, ненцы всей семьей окружают стадо с помощью веревки. Ненец подлезает под веревку, чтобы выбрать подходящего оленя, он заглядывает каждому под морду и, выбрав лучшего, выводит и тут же закалывает. Мужчины садятся вокруг лежащего оленя, отрезают большие куски еще теплого мяса, макают его в кровь, налитую в желудок оленя, хватают мясо зубами, а ножом,
который у каждого ненца всегда висит в ножнах у пояса, отрезают меньший кусок взмахом ножа снизу вверх прямо перед своим носом. Запивается это лакомство водкой. Женщины, находящиеся в отдалении, спустя некоторое время получают свою часть угощения, а детям полагаются панты — тонкий мясистый слой на рогах. Оживление достигало определенного, но не слишком высокого уровня. Были ли песни и пляски, к сожалению, не помню. Так как ненцы никогда не мылись и даже не умывали лица и рук, то они долго ходили со следами крови на лицах и одежде.
Однажды, когда ненец увидал, что мы с мамой умываемся у речки, он пришел в ужас, показал на свое горло и сказал: «Бог — хррр, хррр!» — Бог пошлет болезнь. Молодого ненца Степана заключенные уговаривали в обмен на литр спирта вымыться в бане. Не уговорили.
Когда геологической партии нужно было менять место базы, то ненецкие собаки также собирали стадо оленей. В этом случае ненцы запрягали оленей попарно, соединялось все цугом в длинный поезд, который во главе с основной упряжкой медленно двигался по тундре.
Лето кончилось. Геологическая партия вернулась в лагерь — и мы с нею. Пароход скоро уходил, пришлось прощаться с папой. Было очень грустно. Возвращались в Архангельск на «Глебе Боком». Качки было мало, я уже не болела морской болезнью, а стояла с мамой на палубе. На этот раз для судна представляли опасность не льдины, а бревна. В Белом море и особенно в устье Двины их плавало множество, они могли попасть в винт или под руль корабля, тогда бы судно потеряло управление. На носу «Глеба Бокого» стоял второй помощник капитана и давал команду застопорить машину, когда бревно попадало под днище корабля. Страна начала широкий вывоз леса за границу. Лес сплавлялся плотами, но плоты разбивались, очень много леса пропадало выброшенным на берега рек и морей, превращалось в топляк. Говорили, что это вредительство, но, скорее всего, головотяпство и халатность.
Папины работы шли настолько успешно, что помощник начальника ГУЛАГа ОГПУ Фирин в письме от 29 августа 1932 года предложил начальнику Вайгачской экспедиции подготовить к печати научные материалы по результатам разведки острова Вайгач геологами Флеровым и Виттенбургом20.
В конце года всем сотрудникам папиной партии была объявлена благодарность:
20 А.Н. Флеров проводил первые геологические изыскания на Вайгаче (1930—1931), умер от туберкулеза в 1931 г. П.В. Витгенбург прибыл на Вайгач уже после смерти Флерова.
«Начальнику Геологической партии инж. Виттенбургу П.В. за образцовую организацию труда, примерную постановку труддисциплины, перевыполнение планов задания, несмотря на тяжелые климатические условия — ОБЪЯВЛЯЮ благодарность с занесением в личное дело с одновременной выдачей премиального вознаграждения в размере двухмесячного оклада. Всему составу партии Виттенбурга а/к з/к 1) Утилову Н.С., 2) Данилко В.С., 3) Спрудже В.С., Пурикову Н.И., 5) Колбину В.В., 6) Кравченко Г.А., 7) Макарову И.А. ОБЪЯВЛЯЮ благодарность с занесением в личное дело. Аттестационной комиссии — учесть особо проработанные упомянутыми лицами двадцать выходных дней. Подлинный подписал Начальник Экспедиции Дицкали»21.
Иначе папа работать не умел.
Переполненные впечатлениями, мы вернулись в Ленинград. Мама опять ушла в работу. Материальные условия жизни были такими же тяжелыми. В городе чувствовался голод. По дворам ходили несчастные просить милостыню под видом певцов и бродячих музыкантов. Из окон высовывались люди, смотрели, а иногда бросали им завернутую в бумажку мелочь. Мелочь рассыпалась, ее усердно собирали.
По дворам также ходили точильщики и паяльщики со своими станочками. Кричали: «Точить ножи, ножница, править бритвы!» «Паять самовары, кастрюли, чайники!» Некоторые жившие в городе татары занимались сбором тряпья. Во дворах они кричали: «Халат, халат...» — все это жалкие остатки НЭПа...
В Ленинграде открылись торгсины (торговля с иностранцами): государство нуждалось в драгоценных металлах и камнях, чтобы приобретать на них за границей станки и прочее. Эти «магазины» меняли драгоценности, сдаваемые населением, на кое-какие продукты и одежду. Мама снесла туда что-то и получила каждому из взрослых по джемперу. К этому времени мы все обносились. Торгсин был спасением для многих.
Еще со старых времен в каждом доме оставались дворники. Они имели обычно квартиру в первом этаже и жили там с семьей. В нашем доме дворником был высокий важный бородатый мужчина. Несмотря на общую разруху, дом содержался в порядке. Регулярно по черной лестнице дворник обходил квартиры, собирал отходы в большой чан, висевший у него за спиной. Посередине асфальтированного двора была яма, выгребать которую приезжал мусорщик на лошади. Чуть услышишь стук подков — беги скорее
21 Выписка из приказа № 183 по Вайгачской экспедиции ОГПУ от 3.12.1932 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
захлопывать форточку. Дворник аккуратно выметал лестницы, двор, рано утром мыл улицу с помощью шланга. На ночь ворота и все парадные закрывались на ключ. Запоздалый жилец должен был позвонить в специальный звонок — дворник дежурил до полуночи. Такой порядок в нашем доме продолжался вплоть до войны. Не помню, были ли помощники у нашего дворника или он один со всем справлялся?..
Каждый обитатель нашего дома имел в своем распоряжении клеть в подвале. Там можно было хранить дрова, если был камин, ненужную мебель или овощи, если они имелись. В середине 1930-х годов подвалы превратили в бомбоубежища.
Недалеко от нас, в саду имени Дзержинского (бывшем Лопухинском), в летнее время на открытой сцене шли спектакли силами профессиональных артистов. Запомнился веселый спектакль «Слуга двух господ» К. Гольдони. Часто играл духовой оркестр, можно было взять шашки или шахматы, книгу в читальне или поблуждать в лабиринте, устроенном на одном из островков. В саду всегда было чисто, спокойно, хулиганов почему-то не было заметно, хотя город уже наполнился пришлым людом.
В те годы главные улицы города, такие как улица Красных Зорь (Каменноостровский проспект) и проспект 25 октября (Невский), мостили торцами — деревянными шестигранниками, выпиленными из бревен поперек и уложенными плотно один к другому. По торцам приятно было ступать — мягко. Но после продолжительного дождя под ними оказывались невидимые лужи и, наступив на торец, можно было неожиданно окатить себя струей воды. Асфальта в то время не было, и улицы мостили булыжником или, в лучшем случае, диабазом. Тротуары выкладывали квадратными плитками из пудостского камня.
Неожиданный случай помог мне приобрести некоторую уверенность в себе. Хотя в школу я ходила самостоятельно, но производила, наверное, впечатление маменькиной дочки. На мне было бархатное зимнее пальтишко, из которого я уже заметно выросла, с пелеринкой и воротником из меха виверры, на голове бархатная шапочка с помпоном — роскошь еще 1920-х годов. Возвращаясь из школы, в подворотне нашего дома встретила нескольких воинственных сорванцов. Одна из девочек подскочила ко мне. Не обладая боевым духом, я все же не испугалась и, развернувшись, попала ей портфелем по голове. Победа была решающей: больше ко мне не приставали.
Помимо школьных обязанностей, у меня были и семейные: прикрепление хлебных карточек в булочной на углу Карповского переулка, покупка там хлеба. Чтобы прикрепить карточки, надо было выстоять длинную очередь не в один час. Покупка керосина тоже была моей обязанностью и также с многочасовой очередью. Иногда для этого приходилось пропускать уроки в школе.
С приходом зимы на пустырях заливали катки. Напротив нашего дома был каток «Металлистов», напротив дома 26/28 по Каменноостровскому проспекту — «Красногвардеец» и так далее. Со школьными подругами я каталась на катке днем, а вечером под музыку — с сестрами. На катке стадиона «Динамо» давали специальные креслица, держась за которые, можно было научиться уверенно чувствовать себя на коньках или кого-либо покатать. Как-то удалось уговорить маму пойти с нами. Через двадцать лет мама снова встала на коньки. Всем было весело — мы молоды, а мама обладала неистощимым оптимизмом. Мама говорила, что это даже к лучшему, что конфисковали дом в Ольгино: нам никто не завидует, не показывает на нас пальцем, как на буржуев. Мы теперь такие же, как и все.
На зимние каникулы мама отправила меня в Москву в семью Безруких. Они занимали отдельную квартиру в Большом Тишинском переулке. Павел Ефимович в то время работал в правительственных структурах, и мама с ним советовалась. С Зюкашей мы по-прежнему дружили и постоянно переписывались. Мама по обыкновению писала мне в Москву письма, и я ей отвечала. Любопытен сюжет, изображенный на одной из присланных открыток, — пулеметы на собачьей упряжке (!).
Все время мама не переставала хлопотать о папе. В январе 1933 года она подала в ГПУ заявление:
«Обращаюсь в Коллегию ОГПУ с просьбой о досрочном освобождении моего мужа Павла Владимировича Виттенбурга. Свою просьбу я мотивирую следующими основаниями:
1. После его ареста семья, состоящая из троих учащихся детей, очутилась в крайне тяжелом положении и прежде всего в отношении продолжения их образования, в связи с тем, что они числятся детьми осужденного, старшая дочь была исключена из Горного института и до сих пор не восстановлена. Участь старшей дочери ожидает и остальных.
2. Назначенную ему крайне высокую меру наказания (10 лет), он в настоящее время с зачетом трудодней, уже отбыл на 50 %. Отбывая наказание, он в то же время ведет очень большую научно-исследовательскую работу по геологии острова Вайгача и недавно назначен заведующим геологической частью экспедиции. В течение 1932 года он за энергичную работу и перевыполнение плана два раза получал приказом благодарность с выдачей вознаграждения и с занесением в личное дело(копии телеграмм прилагаю).
Указанные мотивы дают мне право надеяться, что моя просьба будет коллегией удовлетворена».22
22 АУФСБ по СПб. и Ленобл, ф. арх.-след. дел, д. П-82333, т. 7, л. 318.
Как наивна была мама — высшее образование для детей интеллигенции было совсем не обязательно, напротив, в качестве классовой прослойки создавалась новая рабоче-крестьянская интеллигенция. И остальные доводы были не убедительны для ОГПУ. Ответа мама, по-видимому, не получила. Она начала хлопотать о возможности работы в качестве вольнонаемного врача в Вайгачской экспедиции.
1933-1935
Геологические изыскания Вайгачской экспедиции постепенно распространялись и на Югорский полуостров, особенно на район Амдермы23. У ОГПУ на серьезные геологические работы находились средства (даровая рабочая сила), тогда как Академия наук в предшествующие годы не смогла получить денег на изучение Новой Земли, чего в свое время добивался папа.
Как ни удивительно, но именно в заключении папе представилась возможность углубленно вести полевые работы, осуществлять и камеральную обработку собранных материалов, обдумывать геологическое строение исследуемой территории, в результате чего могла быть составлена геологическая карта самого острова и полуострова Югорского, а также подготовлена соответствующая монография о рудных месторождениях Вайгача и Амдермы, что давало ученому-невольнику громадное моральное удовлетворение.
Забежав вперед, скажу, что в 1940 году горно-геологическое управление Главсевморпути издало папину монографию «Рудные месторождения острова Вайгача и Амдермы» (М.; Л., 1940) с геологической картой и чертежами. Эта монография в 1946 году была представлена папой для защиты еще одной докторской диссертации в Москве. Но об этом позже.
В Вайгачской экспедиции ОГПУ, также как и по всей стране, развернулось социалистическое соревнование и ударничество. В геологической части экспедиции работа была хорошо налажена. Папа получал неоднократно благодарности, почетные грамоты, ему была выдана книжка ударника. Вот несколько выдержек из этих документов:
«Ударнику — полярнику Павлу Владимировичу Виттенбургу.
Центральный штаб Ударничества и Соревнования Вайгачской Экспедиции ОГПУ, приняв во внимание тот энтузиазм и неослабную энергию, с которой Вы проводили Вашу работу за период 1931—1934 гг. истинно ударными темпами в рядах Экспедиции, борющейся за освоение богатств и индустриализацию одного из секторов Советской Арктики, награждает Вас почетной грамотой:
23 Амдерма — в переводе с ненецкого языка — «лежбище моржей».
1. За Вашу безупречную работу в качестве геолога и Зав. Геологической частью Экспедиции в период 1931—1934.
2. За точное определение генезиса рудных месторождений и составление первой геологической карты о. Вайгача и п-ва Югорского.
3. За активное участие в подготовке новых технических кадров и плодотворные занятия по геологии с адмтехперсоналом экспедиции».
Из другой книжки ударника: «Неутомимому изыскателю, руководителю и вдохновителю работ по генезису амдерминских месторождений фтористого кальция, ударнику освоения Севера, активному общественнику, руководителю профтехучебы, научному работнику по изучению вопросов флюоритовых месторождений от широкой общественности краснознаменной Амдермы в память об ударной работе в 1933—1934 году»24.
В 1933 году начальство разрешило папе не только свидание летом с семьей, но предоставило возможность маме остаться на зиму. Мама в Москве выхлопотала право работать в лагере вольнонаемным врачом до окончания папиного срока.
В поликлинике она получила отпуск на два года и приступила к сборам в дорогу. Нику и Люсю решилась оставить под присмотром строгой Тамары Александровны, своей близкой приятельницы, а что делать со мной — вопрос оставался открытым, так как не было известно, смогу ли я учиться на Вайгаче. Помню, как мама обсуждала с Павлом Ефимовичем, брать ли меня с собой или оставить с сестрами. Решили взять с собой.
В начале лета 1933 года мама опять отправила меня в Москву. Павел Ефимович снял дачу в Барвихе, тогда еще обычном дачном поселке. Домик стоял на опушке темного соснового бора. Подобного леса в своей жизни я никогда больше не видала. Стройные высокие сосны стояли близко друг к другу, вершинами закрывая небо. В бору было темно и жутковато. Никакой другой растительности, только густой слой опавшей хвои.
Из Москвы я с мамой отправилась на Вайгач. На этот раз мы благополучно приехали в Архангельск. Там стоял уже под погрузкой пароход «Вологда», где нам дали каюту. Вскоре Архангельск остался за кормой. Море было спокойным. На третий день «Вологда» подошла к бухте Варнека и встала на рейд. На моторной лодке приехал папа и мы расцеловались.
За год поселок разросся. Он раскинулся на южном обращенном к морю пологом склоне гряды невысоких сопок. Его разделял на две неравные части ручей под названием Казенный. В поселке стояло 8—10 жилых бараков, здание технического отдела, столовой, санчасть и два дома специалистов,
24 АМАИА, ф. 5. Коллекция П.В. Виттенбурга.
строился клуб. В низине у речки двухэтажное здание, на первом этаже которого находилась баня с прачечной, а наверху — хозяйственная часть и комната для занятий — школа. За ручьем на возвышенности три небольших отдельно стоящих домика: начальника экспедиции, его помощника и радиостанция. Эти дома как бы господствовали с северной стороны над лагерем. Было и кладбище. Его устроили на сопках за лагерем. Между постройками были проложены деревянные мостки. Пристань представляла собою небольшой дощатый настил, рядом с нею — здания складов. Бухту Варнека разделяет вдоль небольшой полуостров, так и названный Раздельным, с шахтами по добыче цинково-свинцовой руды. Противоположный берег бухты оканчивается скалистым мысом Гребень, на котором постоянно мигал огонь маяка.
Папа привел нас в первый дом специалистов. Несколько ступенек вверх, и мы в светлом коридоре, куда выходят несколько дверей. Для старшего геолога и старшего инженера в конце коридора приготовлены маленькие квартирки. Две маленькие комнатки, соединенные дверным проемом (дверь была просто снята — папа не любил дверей), представляли папину квартиру. Между комнатами стояла огромная кирпичная побеленная печь. Ее топили каменным углем. Комнатки были обставлены самодельной мебелью, выполненной лагерным столяром по папиному заказу: три спальных ящика, внутрь которых убиралась одежда, письменный стол для папы с книжными полками, маленький письменный столик для меня, обеденный круглый столик, миниатюрный буфетик, стулья. Пол покрыт линолеумом, стены беленые, окна с тройным застеклением. Для проветривания под потолком дырка с обитой войлоком затычкой. Зимой она покрывалась инеем. На обеденном столе букет цветов. Мама привезла с собой любимые папой вещи: вышитую ею картину, акварели... Стало домовито и очень уютно.
Во второй квартирке жил старший инженер экспедиции Константин Дмитриевич Клыков с семьей — женой Людмилой Николаевной и дочерью Еленой лет пятнадцати. Людмила Николаевна, тоже вольнонаемная, работала в бухгалтерии. В доме было еще три отдельные комнаты, одну из которых занимал начальник санчасти, хирург Иван Сергеевич Полищук (заключенный), другую — старший механик, тоже заключенный, с женой и сыном, а третью, маленькую — приставленный для поддержания порядка в доме дневальный. Им был пожилой заключенный, служивший в свое время на КВЖД. У него в Харбине остались жена и дети, о которых он очень тосковал. В его обязанности входило наполнять водою большую бочку, стоявшую у дверей (пресную воду развозили на лошади), топить печи, протирать мокрой тряпкой полы. Он это делал тщательно и аккуратно: в доме был порядок.
Мама сразу включилась в работу санчасти. Кроме начальника-хирурга и ее, терапевта, был зубной врач Гурьев, фельдшер и несколько лекпомов. На руднике был свой вольнонаемный врач по фамилии Микал — жена начальника рудника. Мама ежедневно вела прием больных. Надо было освоиться с психологией уголовников — основного состава пациентов: не попадать впросак, когда на вопрос «Ваша профессия?» ответ был — «летчик», понимать же следовало — «налетчик», и тому подобное. Великолепные копии с картин, большей частью В.В. Верещагина, открывались на груди и спине пациентов, вытатуированные мастерами своего дела. Мама говорила, что стоило немалого труда не засмотреться. Уголовники замечательно владели искусством симуляции, поэтому приходилось постоянно быть начеку. Интересно, что суровый арктический климат не способствовал простудным заболеваниям. Люди мокли под дождем, проваливались в воду и — ни насморка, ни кашля.
Маме еще раз случилось встретиться с ненцем Василием в трагической для него ситуации. Кто-то обворовал один из чумов, оставленный ненцами в тундре до другого сезона. Василия потряс факт воровства — ведь ненцы абсолютно честный народ. Кто-то из лагерных сказал Василию, что это он сам украл. Он впал в глубокую депрессию, потерял волю к жизни, отвергал пищу, не хотел ни с кем входить в контакт. Его поместили в отдельную комнату лазарета, мама пыталась с ним заговорить, успокаивала его, уговаривала поесть, просила принять лекарства. Он ни на что не реагировал и вскоре умер. Папа и мама очень жалели Василия.
Санчасть, так же как и лагерь, участвовала в социалистическом соревновании. Соревновались между собой и врачи. От них, как и от всех остальных, требовался соцдоговор. Вот текст этого «памятника времени»:
«Включаясь в соцсоревнование работников Западно-Арктического Комбината25, принимаю на себя выполнение следующих ударных обязательств:
1. Быть образцом сознательной пролетарской трудовой дисциплины и всемерно поддерживать образцовую производственную дисциплину всей бригады санотдела.
2. Бороться за твердую дисциплину в расходовании лечебных средств(медикаментов, перевязочных материалов и т.д.)
3. Всемерно бороться за снижение себестоимости основного производства, путем снижения заболеваемости и сокращения сроков освобождения от работы, для чего беру на себя:
25 Западно-Арктический Комбинат ГУСМП (ЗАК) — новое образование 1935 г. рабочей силой которого был ИТЛ Вайгачской экспедиции НКВД.
а) Углубить качество амбулаторной работы с применением диспансерного метода.
б) Проводить лабораторные медицинские анализы во всех необходимых случаях.
в) В целях быстрейшего излечения назначать больных на двукратное в течение дня посещение амбулатории.
г) Проводить профилактические мероприятия, особенно в отношении травматических повреждений.
д) Срочно проводить все требования эпидемиологического характера.
4. Систематически повышать свою квалификацию, используя имеющуюся специальную литературу.
5. Посещать аккуратно Школу партпросвещения, заранее прорабатывать рекомендуемый материал по очередной теме, активно участвовать на занятиях и сдавать зачеты не ниже, чем на хорошо.
6. По общественной линии образцово исполнять нагрузку, как член группы рабочего контроля по общественному питанию.
7. Выявлять хорошие и плохие стороны производства и вести решительную борьбу с нарушениями в работе, путем развертывания большевистской критики и самокритики, невзирая на лица.
8. Аккуратно посещать все касающиеся меня собрания и заседания, быть активным членом их и привлекать на них остальных.
9. Аккуратно платить членские взносы во все общественные организации. На соцсоревнование вызываю Начальника Санчасти доктора Полищука И.С.»26.
Что говорить о том, что нам, и особенно следующим поколениям, по меньшей мере странными кажутся такие соцобязательства. Они словно предусматривают заведомо недобросовестное отношение к своему делу, как бы рассчитывают на бездельников и лентяев. В борьбе за построение социалистического общества партия призывала усилить идейно-политическую работу среди трудящихся, проводя одновременно чудовищные политические репрессии против тех же трудящихся. Мама не могла не понимать абсурдности этого соцдоговора и даже оскорбительности его для чести профессионального врача, но ничего поделать не могла.
В начале лета 1933 года папа опять уехал на оленях вглубь острова на полевые работы. Мама целыми днями вела прием в санчасти. Я оставалась одна, предоставленная самой себе и обществу Лены Клыковой, которая прилично играла на домре и гитаре. Она научила меня игре на балалайке и немного на гитаре. Здесь мой песенный репертуар пополнился заунывными
26 Соцдоговор Амбулаторного врача Санотдела Вайгачской экспедиции НКВД Виттенбурт З.И. от 02.03Л935 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
песнями: «На Муромской дороге...», «Друзья мои, в детишках я несчастный...», «Баргузин» и тому подобное.
Мы с Леной ходили гулять по берегу моря, спускались в бухточки, искали морские звезды и другие дары моря. Однажды на берегу наткнулись на лодку. Недолго думая, решили покататься. Стащили ее в воду и уселись. В лодке было два разновеликих весла. Лена села за весла, поплыли подальше от берега, чтобы не разбиться о скалы. Внезапно поднялась буря. Потемнело небо, налетел ветер, и нас стало уносить в открытое море. Развернуть лодку к берегу не давала волна. Положение отчаянное. К счастью, нашу лодчонку заметили в лагере. С пристани направилась к нам моторная лодка, взяла нас на буксир и доставила в поселок. Конечно, нам здорово влетело. У Лены обе ладони оказались в водяных пузырях от весел.
В начале октября выпал снег. Небо и вода в бухте свинцовые, на их фоне резко выделялись заснеженные прибрежные скалы. Ушел последний пароход, и душу охватило чувство глубокой тоски. День становился короче, а в ноябре наступила полярная ночь. Солнце не поднималось из-за горизонта вплоть до февраля месяца. На девять месяцев остров оторван от Большой земли. Связь с миром только по радио и с редкими прилетами летчика Ш.Б. Фариха на его фанерном самолете один, два раза за зиму. Фарих привозил письма, написанные несколько месяцев назад, но они от этого не становились менее интересными.
В лагере было несколько упряжек ездовых собак, служивших транспортным средством в зимнее время. Выпадавший и наметенный снег благодаря ветру становился очень плотным. Его даже пилили пилами, чтобы превратить в воду для хозяйственных целей. Собакам по такому снегу легко было тянуть нарты. Среди собак был известен своей хитростью и ленью пес Юшка. Как только он чувствовал, что собирают упряжку, моментально исчезал — прятался в каком-нибудь укромном месте.
Мне разрешили взять щенка — рыженькую лайку. Я назвала ее Зорькой (в память козочки, которая была у нас в Ольгино). Для нее с чьей-то помощью была устроена конура около входа в наш дом, где она и жила. Рыженькая лайка, веселая и приветливая, сопровождала меня при прогулках в тундру — вдвоем веселее. Я отводила душу с милой Зорькой. Однажды, когда я каталась с горки на лыжах, Зорька помогла мне выбраться из сугроба, в который я зарылась с головой. Его нельзя было увидеть — в полярную ночь все серо, однотонно.
На следующий год Зорька принесла щенков. Их было пять или шесть. Все щенки, кроме последнего, были крепкие и резвые. Их взяли для обучения в упряжках. Самый маленький, которого назвали Штымп, остался с
Зорькой. Он подрос и стал славным песиком. В следующую навигацию в бухту зашел ледокол «Малыгин». Смышленый Штымп понравился морякам — они взяли его на корабль, где он стал всеобщим любимцем.
Моим развлечениям способствовал молодой ненец Степан, который приходил к нам в поселок. По собственной инициативе сделал мне из палочки стрелу с зарубкой посередине и научил ее пускать с помощью другой палочки, к концу которой был привязан кусочек веревки. Стрелы летели высоко и далеко.
В Варнека на зимовку осталось несколько детей, которые были определены в «школу», то есть в назначенные дни приходили на занятия в комнату над баней. Преподаватели — заключенные разных специальностей. По-видимому, они руководствовались государственными программами. Мне нужна была программа 4-го и 5-го классов, наверное, по соответствующей программе меня и учили, так как по возвращении в Ленинград выяснилось, что я не отстала от своих прежних одноклассников. Так как в лагере дети были разных возрастов, то учились по одному в классе. Уроки бывали не каждый день, учителя относились к обучению очень серьезно. Математику и физику мне преподавал один из сотрудников геологической части, немецкий язык кто-то другой, русский язык и литературу вел пожилой человек. Он обращался со мною с особой теплотой, у него на воле, наверное, остались такие же дети.
Зимой обычно дули сильные ветры. Не помню, чтобы когда-нибудь свободно падал снег — всегда он несся, увлекаемый ветром. Пурга бывала столь сильной и непроницаемой, что вдоль дороги из лагеря на мыс Раздельный ставили столбы в лед и между ними натягивали канат, иначе можно было сбиться с пути. Дверь в наш дом иногда было трудно открыть — ветер буквально сдувал с крыльца и не давал возможности ухватиться за ручку. За окнами нашей квартиры надувало столько снега, что сугроб достигал крыши дома. На вершинах же сопок снега совсем не было, ветер сдувал его, оставляя голые камни.
В тихие морозные ночи на небе расцветало северное сияние. Вспыхнет вертикальная полоса, и тут же от нее побежит колыхающаяся горизонтальная лента, мгновенно меняющая свой фосфорический свет. В такие ночи мама страдала тяжелой мигренью от насыщенности воздуха электричеством, не могла оторвать голову от подушки. Бывало, мы с папой поднимались на сопку и любовались непрестанной сменой форм и красок на черном небе. Папа называл мне созвездия и отдельные звезды. Тишина, только слабо потрескивают новые вспышки северного сияния. Величие природы, бесконечность вселенной представали перед нами.
На зиму всем выдавали валенки, бушлаты, теплые шапки. Многие получали и овчинные тулупы. У мамы был темно-красный тулуп, нещадно пачкавший руки, у папы — черный. Кроме того, папа имел малицу из оленьего меха, пимы с унтами из оленьего меха и меха нерпы — это для зимних поездок. Несколько раз за зиму он ездил через пролив Югорский Шар в Амдерму в обществе Дицкална.
Начальник лагеря Алексей Федорович Дицкалн, по слухам, в прошлом был красным латышским стрелком. Жил он в отдельном домике с женой Галиной Сергеевной — невысокой полненькой приветливой женщиной. По тому, как был организован лагерь, и по условиям жизни и работы заключенных можно судить, что он был человек порядочный и гуманный. В конце лета 1934 года его сменил уже другого рода чекист — Сидоров. Но в тот год лагерь стал понемногу перебазироваться на Амдерму, а летом 1935 года и мы уехали с Вайгача, так как папин срок заключения истек.
В первую зимовку на Вайгаче, впрочем так же как и во вторую, наша жизнь складывалась для папы и мамы из работы, а для меня — из учебы и домашних дел. Папа в любую погоду и при любой температуре в комнате утром обтирался холодной водой над тазом. Затем завтракал и уходил в геологическую часть или ехал на полуостров Раздельный осматривать проходку шахт, иногда уезжал на несколько дней в Амдерму. По возвращении с работы, поужинав, снова садился за письменный стол, углублялся в книги и писал. У него зимою в спичечном коробке в ватке хранилась муха. До нашего приезда она делила с ним его одиночество — летала, жужжала, создавала впечатление домовитости.
Часто зимою, когда мама вставала с постели, температура у ее изголовья бывала 0° или около того. Огромная печь не могла за всю ночь прогреть комнату. На работе мама очень уставала. Вечером у нее хватало сил только на чтение, а иногда она раскладывала пасьянсы. Хозяйством занималась я, как самая свободная. В мои обязанности входило приносить домой в судках готовый обед из столовой для вольнонаемных и из другой — для заключенных ИТР. Поварами в лагере были преимущественно китайцы, арестованные на КВЖД. Готовили они прекрасно, и вообще питание по сравнению с ленинградским нам казалось царским. Я, «гадкий утенок», стала быстро расти.
В пекарне нам охотно давали закваску, истопник вытапливал нужным образом печи, внутри топки мы пекли все, что хотели. Муку, изюм, джем, мак и прочее можно было купить в ларьке. Соседка по нашему коридору, жена механика, научила меня печь из дрожжевого теста разнообразные булочки и пироги. Мы изощрялись во всевозможных выпечках. Обычно
тесто замешивалось в эмалированном ведре, и румяных печеностеи хватало на целую неделю. В то же время я наловчилась чистить рыбу — омуля и гольца, которых было много на Вайгаче и в соленом и в свежем виде.
Маме очень не хватало музыки. Иногда по радио из Москвы транслировались музыкальные передачи и даже оперы. Но это случалось редко. С замиранием сердца мы слушали звуки города: гудки машин, когда в полночь по радио звучал бой часов на Спасской башне Кремля. Однажды маму известили телеграммой, что в определенный день и час в очередной радиоперекличке примут участие ее дочери Вероника и Валентина. В те годы шло активное освоение Арктики — полярники входили в моду, считались героями. Радиостанция «Коминтерн» в Москве предприняла трансляцию выступлений родственников зимовщиков из разных городов. С затаенным дыханием мы услышали поздно вечером прерывающиеся от волнения голоса Ники и Люси: они живы и здоровы, все у них в порядке. Текст выступления, оказалось, надо было заранее представить на радио и потом читать по бумажке. Ничего существенного ведь не скажешь на весь мир, но живой голос услышать было так важно.
К зиме 1934 года в лагере закончили строительство двухэтажного просторного здания для клуба. В нем был предусмотрен зал со сценой для спектаклей и демонстрации кинофильмов, комнаты для репетиций самодеятельности, библиотека. Оказалось, с Большой земли привезли рояль, он стоял на сцене. Однажды, когда в клубе никого не было, мама осмелилась сесть за рояль и немного поиграть свои любимые вещи Бетховена и Грига.
Жизнь в лагере с открытием клуба оживилась. Среди заключенных нашлись талантливые артисты, режиссеры, музыканты и певцы. Организовали два оркестра — духовой и народных инструментов. В последний рискнула записаться и я. Меня взяли в группу гитар. Руководил группой некий Слава — симпатичный парень, отбывавший срок за убийство. Публика горячо принимала артистов эстрадного жанра — фокусников, жонглеров, акробатов. Были и почти профессиональные певцы — зубной врач Гурьев пел баритоном, не раз бисировал свой коронный номер — душещипательный романс « Там, где Ганг стремится в океан...». Заведующий баней Холявко имел приятный тенор, но репертуар его, к сожалению, не помню. В промежутках между номерами солистов играл наш оркестр народных инструментов. Духовой оркестр выступал обыкновенно по каким-либо торжественным случаям или перед киносеансами.
Драматический кружок ставил популярную в те годы «Живгазету» и великолепные спектакли. На всю жизнь запомнились два спектакля: «На дне» М. Горького и «Интервенция» Л. Славина. Оба спектакля
исполнялись с искренним чувством и, я бы сказала, со смаком. Когда, много позже, я смотрела «На дне» во МХАТе, впечатление было гораздо слабее. В «Интервенции» песня «Гол со смыком» много раз повторялась благодарным слушателям на бис.
В клубе читались научно-популярные лекции. Папа прочел лекцию об экспедициях Р. Амундсена. За его спиной висел большой портрет Амундсена между картами Арктики и Антарктики. Помню интересную лекцию Д.С. Гальперина об открытии М. и П. Кюри разложения атомного ядра. Зал бывал полон народа.
Однажды, когда мы вернулись из клуба, нас встретила мышиная вакханалия. По столу, по буфетику между стоящими там стаканами, по полу бегали и пищали мыши. Обычно серые мышки жили под печкой тихо и спокойно. Оказывается, на полу около буфетика опрокинулась стоявшая там бутылка с кагором и разлилась по линолеуму. Мышки напились и почувствовали себя хозяевами положения.
Помимо общедоступных киносеансов были и элитные вечера, которые устраивала у себя Галина Сергеевна Дицкалн. Она приглашала на них вольнонаемных и заключенных ИТР. Демонстрировались те же кинофильмы, что и в клубе. Ни папа, ни мама туда не ходили. Несколько раз я там бывала, но чувствовала себя совсем неуютно. Вообще-то в гости к Дицкалнам многие любили ходить.
После Кокорева на следующий год помощником начальника по политической части прибыл некий Широков. Однажды он вызвал меня к себе и принялся со строгостью и лаской выпытывать, о чем у нас дома ведутся разговоры. Конечно, его любопытство я удовлетворять не стала, с отвращением ушла и долго испытывала гадливое чувство.
В конце зимы 1934 года в лагере случилось чрезвычайное происшествие. На небольших разработках на мысе Белом (с Карской стороны острова) взбунтовались работавшие там уголовники. Они убили часть охраны, захватили оружие и хотели бежать. Но бежать-то было некуда... Оставшиеся в живых стрелки охраны ранили главаря бунтовщиков, пришла подмога с Варнека, и бунт был усмирен. Ярким солнечным морозным днем (полярная ночь уже кончилась) все население лагеря вышло за поселок встречать группу бунтовщиков, ведомых охраной. В первом ряду — раненый главарь. Перед лагерем прибывшие с Белого мыса остановились. Лагерь замер. Была минута, когда каждый подумал: не примкнут ли к ним лагерные уголовники? Что будет дальше? И в этот момент со стороны лагеря отделилась женская фигурка — мама. Она была направлена перевязать раны бунтовщика. Раны осмотрены и перевязаны, вправлен плечевой сустав пострадавшего.
Лагерная охрана увела прибывших. Все успокоилось. Жизнь лагеря вступила в свою привычную колею.
Нашими гостями частенько были ненцы. Папа усаживал их за стол, поил чаем и вел разговоры на весьма своеобразном языке — русско-ненецком. Рядом со стульями, на которых они сидели, «стояли» снятые ими малицы. От малиц исходил застаревший запах рыбы, нерпичьего сала и еще чего-то.
Первая полярная ночь кончалась, среди дня становилось светлее, и, наконец, из-за горизонта на минуту выглянуло солнце! Оно показалось и тут же спряталось. Но радости было столько! Постепенно как-то быстро солнце завладело всем небом, ослепительно блестел снег под его лучами. Таять — не таял, просто блестел. В конце концов потеплело, прилетели пуночки (маленькие мохнатые птички), а за ними еще много разных птиц, в том числе и лебеди. В тундре кое-где показались цветы. Песцы стали линять, из белых превратились в серо-бежевых. Их шкурки стали совсем непривлекательными. Гонимые голодом, они без страха приближались к домам в надежде найти что-либо съестное.
Наступил полярный день. Солнце не заходило за горизонт, лишь немного к нему склонялось. Это время тоже трудное для человека — наступала бессонница. Частенько днем бывало пасмурно, шел дождь, а к вечеру тучи расходились, и солнце сияло над тундрой. Небо приобретало необычайно прозрачный нежный цвет благодаря легким едва заметным облачкам. Где же тут заснуть? Кто-то гулял по верху сопки, кто-то играл в волейбол... Долго сковывал бухту лед, да и снег не всюду стаивал — местами оставался почти на все лето. Приближалась пора ожидания первого парохода.
Папа продумывал маршруты новых поисковых работ, составлял отряды и готовился к отъезду в поле. С ненцами уже была договоренность о времени отъезда.
Летом 1934 года мама получила разрешение на приезд дочерей, оставшихся в Ленинграде. Она, считавшая одним из самых больших удовольствий в жизни путешествия, очень хотела, чтобы Ника и Люся повидали Арктику, получили новые впечатления, а главное, повидались бы с папой, для чего ему пришлось бы ненадолго прервать полевые работы.
Телеграммами согласовали время приезда. На Вайгач из Архангельска как раз направлялся ледокольный пароход « Таймыр». На нем были оставлены для Ники и Люси два места. Случилось так, что когда сестры прибыли в Архангельский порт, то увидели удаляющийся корабль — это был « Таймыр». Что же делать? О следующем рейсе еще ничего определенного не было известно. Благодаря своей энергии и обаянию, Ника уговорила начальство порта послать вдогонку « Таймыру» катер. Они взобрались по трапу на борт корабля уже при выходе его из Северной Двины в Белое море.
Из тундры приехал папа. Радость встречи была необычайная! Правда, через несколько дней олени опять умчали его вглубь острова. У мамы тоже было мало свободного времени. Полярное лето было в разгаре, все ходили гулять вдоль берега, фотографировались на прибрежных скалах. Мы даже однажды рискнули выкупаться в прозрачных водах Баренцева моря. Вода обожгла холодом, но никто не простудился. В эти дни приехал с радиостанции Югорский Шар ее начальник — Ананий Владимирович Остальцев, интересный и весьма привлекательный человек. Он с удовольствием проводил время с молодыми девушками, заметно выделяя старшую. Та тоже не упускала возможности пококетничать.
Незаметно подошло время отъезда. В обратный рейс направлялся тот же « Таймыр». Команда была уже знакома, капитан очень любезен, так что возвращение на Большую землю прошло благополучно.
Вновь померкло полярное лето. Ему был дан срок всего два месяца — июль и август. Приближалась осень. Опять повисли темные тучи над морем и бухтой. Выпал первый снег и остался белеть на прибрежных скалах и в тундре. Последний корабль покинул остров. Полярная ночь вступала в свои права.
Зима 1934—1935 года для папы была тревожной. В шахты рудника на острове Раздельном стала проникать вода. Подземные воды в условиях вечной мерзлоты были мало изучены. Рудник в Раздельном в то время являлся первым в нашей стране заложенным за Полярным кругом. Для выявления природы поступавшей в шахты воды пришлось провести дополнительные работы, в том числе бурение в разных точках самой бухты Варнека, сравнительный химический анализ добываемой воды, определение термического режима горных пород для определения глубины простирания вечной мерзлоты. Начавшаяся промышленная разработка плавикового шпата (флюорита) в Амдерме требовала решения аналогичной задачи и на материке27.
Появление рудничных вод в шахтах Раздельного беспокоило папу и в личном плане. Ему предстояло освобождение из лагеря, но он опасался, как бы природное явление — прорыв воды — не было бы использовано начальством, как умышленное вредительство, и в связи с этим не прибавили бы срок. В марте 1935 года предстояла консервация рудника в Раздельном, и папа предложил нам с мамой посмотреть шахты. Мы спустились в преисподнюю на глубину 50 метров. В выработанных штольнях
27 Виттенбург П.В. Термический режим и рудничные воды в зоне вечной мерзлоты о. Вайгач и Амдермы. // Проблемы Арктики. 1939. № 9. С. 5—29.
при свете фонаря нам открылась фантастическая картина: с потолка свисали многочисленные сталактиты. Но вообще под землей, как и следовало ожидать, было черно, сыро и зябко.
Папа часто выезжал в Амдерму на месторождения флюорита давать направление выработкам и следить за их состоянием. Помимо добычи флюорита, велись поисковые работы на Карском побережье Югорского полуострова. Технику с Вайгача понемногу перевозили на Амдерму. В лагерной газете, посвященной 5-й годовщине Вайгачской экспедиции ОГПУ, была помещена большая статья папы28. В ней он дал обзор проведенных Вайгачской экспедицией геологических работ на Вайгаче и Югорском полуострове с указанием найденных мест залегания полезных ископаемых, упомянул геологов и коллекторов, проводивших эти работы. Задачи 1935 года: установление наличия полезных ископаемых (каменного угля, плавикового шпата и свинцово-цинковых руд) на территории от Амдермы до реки Кары и составление геологической карты береговой полосы, что даст возможность вскрыть природу Карско-Югорского и Вайгачско-Баренцевского тектонических поясов.
В начале декабря 1934 года с содроганием услышали мы по радио об убийстве С.М. Кирова. Конечно, всех последствий происшедшего предположить было еще невозможно, но папа предчувствовал возможные осложнения для находящихся в заключении. Тем не менее поселок Варнека продолжал спокойно работать и готовился отметить пятую годовщину своего существования. Драмкружок репетировал к первому рейсу «Глеба Бокого» оперетту собственного сочинения под названием «.Арктическая оперетка». Она ставилась на музыку разных оперетт и главным образом «Баядеры» Кальмана. Сюжет прост: первый помощник капитана увлекся ненецкой девушкой, но та им пренебрегла. Одна из арий «ненца» начиналась такими словами: «Песцов мы ловим, убиваем зверей. Лучший охотник среди нас Тайборей...» и так далее. Постановщиком спектакля и, наверное, его автором был заключенный П. Энгельфельдт. Оперетта получилась веселой, с юмором. Ненцы сидели в первом ряду, скинув малицы, аплодировали. На этот раз первым в навигацию пришел не «Глеб Бокий», а другой пароход, правда, для «Глеба Бокого» спектакль был повторен.
Приближалось время, когда папа должен был получить свободу. В те годы в условиях Арктики срок зачитывался из расчета один день за два. У нас в квартире к книжным полкам было прикреплено зеркало. Вдруг в
28 Виттенбург П.В. Перспективы геологических работ ЗАК ГУСМП на 1935 год // За большую Амдерму. № 4. 1935. 17 июля.
Какой-то из дней оно неожиданно упало и разбилось вдребезги. Дурная примета… Но все-таки 12 июля папе вручили справку об освобождении.
НКВД СССР ГУИТЛ
Вайгачская экспедиция
12 июля 1935 г.
№ 349
о. Вайгач
Справка № 83
Выдана гр-ну Виттенбург Павлу Владимировичу в том, что он отбывал наказание в Вайгачской экспедиции ГУИТЛ НКВД с 15 апреля 1930 г. по 11 июля 1935 г. по ст.ст. 58" УК. На основании произведенного ему зачета рабочих дней за время с 1 августа 1931 г. по 11 июля 1935 г. в количестве 1359 дней, он 12 июля 1935 г. досрочно освобожден29.
Эта желтоватая, казалось, простенькая бумажка имела такое важнейшее значение в жизни человека!.. Из нее как бы следовало, что папа может свободно возвратиться домой, в Ленинград, и продолжить свою прежнюю творческую работу. Но за прошедшие пять лет в стране многое изменилось. Найти свое место после лагеря было чрезвычайно трудно как по субъективным, так и по объективным причинам.
Прежде всего, папа хотел закончить намеченные исследования по Вайгачу. В это время геологические поисковые работы перешли в ведение горнорудного треста Главсевморпути. Папа как вольнонаемный заключил с ним договор и в качестве начальника геологоразведочного отряда отправился на север Вайгача, где проработал до 12 октября 1935 года.
29 Личный архив Е.П. Виттенбург.
Глава VI Таймырская экспедиция. 1936—1938
Глава VI
Таймырская экспедиция. 1936—1938
Мы готовились к возвращению в Ленинград, а папа уезжал на оленях в тундру. Я его спросила: «Неужели тебе хочется ехать в тундру?» Его ответ запомнился на всю жизнь — «Если надо, то хочу». Мы вышли проводить его на горку, где уже ожидал ненец с нартами. Ненец сел на свою упряжку, папа — на другую, помахал нам рукой и скоро скрылся вдали. Меня охватило тоскливое чувство. По моему разумению, следовало ехать домой, а не мчаться в сумрачную даль острова.
Мы с мамой собрали вещи и на мотоботе «Вайгач» направились в Амдерму. Там стоял под погрузкой лесовоз, кажется, «Володарский». В то время Амдерма представляла собою маленький поселочек с небольшой пристанью, немного выдававшейся в море. Пароход стоял далеко на рейде. Когда нам следовало занять свои места на «.Володарском», в Карском море разыгрался шторм. Вещи уже переправлены на корабль, и нам ничего не оставалось, как последовать за ними. Между дощатой пристанью и пароходом, ныряя вниз и взлетая на гребни волн, сновала маленькая моторная лодка с необычайно соответствующим ей названием «Зверь». У нее был крытый железом нос, открытая корма, а внутри между узкими сиденьями тарахтел мотор. Волны подымали лодку выше пристани и тут же опускали вниз. Надо было уловить момент, когда она поравняется с настилом пристани, и прыгнуть на железный нос, доползти на четвереньках до кормы, и там уже моторист подхватывал смельчака.
Мама первой преодолела этот маршрут. Ей было потом стыдно вспоминать, что от страха на какой-то момент она совсем забыла о моем существовании. Все жизненные силы были направлены на то, чтобы удержаться
на скользком носу. Вслед за нею — моя очередь. Другого выхода не было. Дождавшись приблизившегося катера, я шлепнулась на его крышу и распласталась на ней. Вниз меня втащил моторист. Мотор затрещал громче, и «Зверь-» кинулся навстречу волнам. Он оказался удивительно устойчив — нырял вглубь волн, выскакивал на их гребни и несся дальше, обдаваемый морской пеной. Было жутко. Спасала мысль: чему быть — того не миновать. Но на этом не кончились наши страхи. Нужно было еще взобраться на палубу по вертикальному штормтрапу. Волна подымала и опускала катер. Следовало изловчиться и поймать момент, когда волна поднимет ее до уровня спущенного трапа, ухватиться за его перекладину и ползти на палубу, не глядя вниз в бушующую морскую пучину. Не всем удавалось благополучно осуществить это путешествие. У кого-то из рук выскользнула сумка с документами и пошла ко дну, одну из женщин, впавшую в панику, пришлось поднимать на корабль в корзине подъемным краном.
Вся палуба лесовоза оказалась сплошь заставлена до уровня борта шаткими пустыми железными бочками. Чтобы не свалиться в море, вдоль борта были натянуты канаты. Нас провели в трюм (пассажирские каюты на лесовозе отсутствовали). Это была бункерная яма, часть ее завалена каменным углем, а другая — сплошные дощатые нары. Удалось найти на них небольшое свободное пространство, где мы разместились со своими вещами. «Володарский» дал три прощальных гудка и поднял якорь. Теперь можно осмотреться. Картина предстала весьма пестрая: кто спал, кто играл на гитаре, кто закусывал, кто-то, отгородясь от соседей простынями, сажал на горшок ребенка, а рядом веселая компания играла в карты... На Большую землю возвращались лагерники, отбыв свой срок, семьи вольнонаемных, разные специалисты.
Мама уволилась с Варнека, получив такое удостоверение:
«Выдано настоящее гр. Виттенбург Зинаиде Ивановне в том, что она работала в санчасти Вайгачского Лагеря НКВД с 20 июля 1933 г. по 10 августа 1935 г. и уволена по личному желанию. Гр. Виттенбург З.И. с дочерью Гулей Павловной следует к постоянному месту жительства в город Ленинград. Продовольствием Виттенбург удовлетворена по 15 августа с.г., что и удостоверяется»1.
В те времена перемещаться по стране люди могли только на основании какого-нибудь документа. Даже при поездке в отпуск следовало запастись справкой из своего учреждения, свидетельствующей о предоставленном отпуске с указанием его продолжительности.
1 Личный архив Е.П. Виттенбург.
В этой оживленной компании на четвертый день пути мы благополучно прибыли в Архангельск. Выйдя на берег, увидели перед собою высокие зеленые березки. Они показались такими красивыми и родными, что на глаза навернулись слезы.
В Ленинграде произошло много перемен: отменены продовольственные карточки, в магазинах свободно продаются продукты и промтовары. Город чист, нет нищих, много транспорта, такси. От площади Льва Толстого к Московскому вокзалу курсирует стоместный автобус.
Дома, в нашей комнате на Кировском проспекте, переименованном за время нашего отсутствия из улицы Красных Зорь, на маминой кровати лежал прелестный грудной ребенок — Танечка. Ее появление для нас с мамой оказалось неожиданностью. Ника таким образом решила укрепить свою семью и приблизить к себе Вову. Но он по понятным причинам удалился. А причины были таковы: на обратном пути с Вайгача между Никой и Ананием Владимировичем Остальцевым завязался бурный роман. Он предложил ей руку и сердце. Ника готова была принять его предложение, но Тамара Александровна, присматривавшая за сестрами во время маминого отсутствия, категорически воспротивилась. Причиной тому явилось кожаное пальто Остальцева. Тамара Александровна, будучи человеком категоричным, была твердо уверена, что кожаные пальто в то время носили только энкавэдэшники. Ника во всем призналась Вове. К моменту рождения их общего ребенка они фактически разошлись. Вова завербовался на Дальний Восток и уехал. Нике помогал и всячески ее опекал товарищ Вовы, Шура Алешко, тоже воспитанник Лахтинской экскурсионной станции. Верный друг нашей семьи, он поочередно ухаживал за каждой из сестер, всерьез же его никто не принимал. Ника очень растолстела, но молока у нее было мало. За толщину ее прозвали «поросячьей мамашей».
К тому времени завод имени Макса Гельца направил Нику учиться в ЛИТ — Ленинградский институт труда. Там ей следовало приобрести специальность чертежницы. И действительно она научилась очень хорошо чертить.
В Люсиной судьбе тоже произошли перемены. Ее направили в институт, но не в архитектурный, как ей всегда мечталось, а в педагогический имени Герцена. Она выбрала физико-математический факультет. Завод «Красный Выборжец» давал путевку желающим учиться только в тот институт, специалисты которого в данное время нужны были государству, а нужны были учителя. К педагогике же у Люси не обнаруживалось никакой склонности.
В нашей комнате стояла незнакомая мебель. Перед отъездом на Вайгач мама хлопотала через Политический Красный Крест о возвращении мебели,
принадлежавшей ей еще до замужества и конфискованной ГПУ. Это два кресла, диван, зеркальный и книжный шкафы, рояль. В мамино отсутствие пришло извещение, что можно получить желаемую мебель на складе ГПУ. Мама поручила это сделать Нике и Люсе. Они рассказали, что когда их привели на склад, то глаза разбежались от огромного количества домашних вещей. Все аккуратнейшим образом расставлено и сложено, даже ковры, пересыпанные нафталином, заботливо свернуты. Ника с Люсей ходили среди чужих вещей, наших же найти не могли. Тогда им предложили на выбор заменить другими. Так у нас появились чьи-то вещи, свидетели других трагических событий.
Перемены произошли и в нашей коммунальной квартире. Справа от нас поселилась семья: отец семейства, крупный человек, наверное инженер, высокая худая и очень нервная жена с дочкой лет семи. Они держались замкнуто. Слева две комнаты занял сотрудник НКВД Борис Сергеевич Лысенко с вальяжной красавицей женой. Во время Гражданской войны на юге России он будто бы отбил ее у главаря какой-то банды. Теперь для квартирантов открылся второй выход на парадную мраморную лестницу с дверями из красного дерева. (Дом постройки 1910—1912 года архитектора Лидваля, принадлежал ранее семейству Циммерман.)
Мама вернулась на свою прежнюю работу в детскую поликлинику № 7 Выборгской стороны. Ее приветливо приняли сослуживцы. Райздрав назначил ее старшим школьным врачом района. На полставки она взяла место врача детского сада в переулке Бабурина и по-прежнему несла дежурства в вечерние часы в Выборгском доме культуры. Меня приняли в тот же класс, в котором я училась до отъезда, но школа за это время переехала в новое здание на углу реки Карповки и Вяземского переулка.
Только поздней осенью папа закончил работы на Вайгаче. За пять лет им была завершена геологическая съемка острова и Югорского полуострова, составлена геологическая карта, обнаружены месторождения флюорита на реках Болванской, Орот-Яге и мысе Стакан, найдены медные орудинения и прослежена зона разлома со сфалеритом у гор Цинковой и Медной, проведена геологическая съемка и первая промышленная оценка месторождения плавикового шпата Амдермы. Оставалось осмыслить весь этот материал и изложить его в монографии2.
Возвратясь на Большую землю, папе предстояло включиться в мир науки и полярных исследований. За годы изоляции папы произошли большие
2 Виттенбург П.В. Рудные месторождения острова Вайгач и Амдермы. Л.; М. 1940. С. 9-10.
структурные изменения в организации науки и практики: создан Арктический институт3, образовано Главное управление Северного Морского пути — ГУСМП4. В организации того и другого папа принимал деятельное участие еще до ареста, так же как и в подготовке 2-го Международного полярного года, осуществленного при активном участии СССР5. Обо всем этом, так же как и о героическом плавании ледокольного парохода «Сибиряков», впервые прошедшего по всей трассе Северных морей до Тихого океана (1932 год), открытии многих новых метеорологических полярных станций, организации геологических и гидрологических экспедиций в Арктике, папа мог узнать только из передач радиостанции «Коминтерн», то есть получал общедоступную официальную информацию. Ни одно экспедиционное судно в бухту Варнека не заходило — лагерь. Вернувшись в Ленинград, папа не нашел ни Геологического музея Академии наук, ни самой Академии — они были, в 1934 году переведены в Москву. Арктический институт, где папа надеялся осуществить обработку Вайгачских материалов, не имел для папы штатного места. Нет работы — нет прописки. Круг замкнулся. Надо уезжать. Куда? В Архангельск? В 1935 году в Архангельске было образовано Северное геологическое управление, подчиненное ГУСМП. Там папе предложили вести камеральную обработку геологических материалов. Папа принял предложение, хотя и сокрушался: «Как горько мне, что Арктический институт от меня отвернулся, а я не в семье русских советских полярников»6.
Прежде чем уехать в Архангельск, папа вместе с мамой впервые в жизни смогли отдохнуть. Маме была выдана бесплатная путевка в Кисловодск за ударную двухлетнюю работу в Арктике. По возвращении из Кисловодска папа уехал в Архангельск и с 14 декабря 1935 года Распоряжением № 128 по ГГУ был зачислен в штат в качестве старшего инженера-геолога по камеральной обработке материалов Вайгачского месторождения.
3 Президиум ЦИК СССР 22.ХI.1930 утвердил положение о Всесоюзном Арктическом институте.
4 Главное управление Северного морского пути — ГУСМП — образовано постановлением СНК СССР от 17.ХII.1932.
5 Второй Международный полярный год проходил в 1932—1933 годах. — Белов М.И.История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 3. Л., 1959. С. 404.
6 Виттенбург П.В. Поденные записки. 1937. Тетрадь 1 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
В январе 1936 года комиссия по изучению вечной мерзлоты Академии наук СССР проводила в Москве свою очередную, 5-ю конференцию7. Папа получил персональное приглашение. Наверное, папе было приятно, что о нем вспомнили. Возможно, что в этот приезд в Москву или независимо от того, папа обратился к президенту Академии А.П. Карпинскому с просьбой ходатайствовать о снятии с него судимости. Папа не чувствовал себя перед государством в чем-либо виновным и ему представлялось естественным, чтобы судимость была снята.
Весной 1936 года полярное Управление и горно-геологическое управление ГУСМП приступили к организации очередных экспедиций. Папе предложили принять на себя руководство экспедицией по геологическим исследованиям Северной Земли в районе мыса Оловянного в заливе Шокальского. Экспедиции надлежало также обеспечить работу находившейся там метеорологической станции. Папу давно занимала мысль об исследовании Северной Земли. «С большим удовольствием я принял это предложение и направился в 1936 году к интересовавшим меня проявлениям зоны высокотемпературного минерала касситерита»8. Папа стал готовиться к экспедиции. Доставить ее на Северную Землю должен был знаменитый ледокольный пароход «Сибиряков». Перед самым отплытием в первых числах августа папа получил из Комиссии по делам частных амнистий при Президиуме ЦИК СССР выписку из Постановления президиума о снятии судимости9.
Теперь он вздохнул свободно. Его коробили косые взгляды или какие-то недомолвки на свой счет, да и просто отказы в приеме на работу, как это произошло с Арктическим институтом. Можно было спокойно отправляться в экспедицию. Папе хотелось, чтобы мама еще раз взглянула на Арктику и проводила его до Северной Земли. Воспользовавшись очередным отпуском, мама приехала в Архангельск, чтобы сопроводить папу к этим дальним арктическим островам.
В моем архиве остались папины дневники, «Поденные записки», которые папа вел во время экспедиции. Это четыре толстые тетради. Кроме того, сохранились три дневника — письма, присланные мне по почте.
7 Комиссия по изучению вечной мерзлоты была организована в Академии наук в 1929.В 1936 ее реорганизовали в Комитет по вечной мерзлоте АН, а в 1939 на его базе был создан Институт Мерзлотоведения АН.
8 Биографическая записка П.В. Виттенбурга. Рукопись. Б/д. С. 2 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
9 Выписка из Постановления Президиума ЦИК СССР за № 34/68 от 27.07.1936// Личный архив Е.П. Виттенбург.
Они в общей сложности составляют 290 страниц, иллюстрированы фотографиями, планом дома, картами маршрутов, даже небольшим гербарием из полярных цветов¹. Благодаря этим источникам представилась возможность узнать доподлинные условия, в которых проходила работа в Арктике геологической экспедиции в середине 1930-х годов.
7 августа «Сибиряков» под началом капитана М.Г. Маркова отчалил от пристани Архангельска с участниками папиной экспедиции на борту и со сменами зимовщиков для нескольких полярных станций. Выход его намечался на 27 июля, но произошла задержка, что вскоре привело к тяжелым последствиям. 1 сентября «Сибиряков» подошел к острову Домашнему, находящемуся к западу от Северной Земли. Он снял зимовавших там Э.Т. Кренкеля и Н.Г. Мехреньгина, высадил новую смену во главе с Коншиным и только Ъ сентября приблизился к Северной Земле. Пролив Шокальского, разделяющий острова архипелага, был забит льдом. «Напрягая все усилия, ледокольный пароход не мог преодолеть полутораметровый лед пролива». Едва он остановился, как оказался окруженным со всех сторон льдами, так как лед постоянно находился в движении. С корабля четырежды в сутки на Диксон и в Москву передавались подробные сведения о состоянии льдов, их подвижках и метеорологических условиях. В ожидании перемены ледовой обстановки «Сибиряков» простоял целый месяц.
Люди и собаки совершали прогулки по ледяным полям, окружавшим судно. Местами торосы громоздились выше человеческого роста, что видно на фотографиях, иллюстрирующих письмо. «Мы готовились уже к зимовке, учитывали теплую одежду, продовольствие и топливо. Всего у нас было мало. Нужно удивляться беспечности нашего руководства, которое отправляет суда с людьми в столь дальние плавания, не снабжая их всем необходимым для вынужденных зимовок», — читаем в письме-дневнике.
Быстро наступила зима, на горизонте виднелись острова под снежным покровом, палуба «Сибирякова» тоже засыпана снегом. «Ввиду того, что льды непреодолимы: мощность машины Сибирякова 2400 л/сил, пришлось вызывать ледокол Ермак, нашего дедушку ледоколов. <...> Из мрака ночи, льда и непогоды подошел к нам рано утром, и капитан его т. Воронин велел нам следовать за ним по проделанному руслу». Мама рассказывала, что как только «Ермак» приблизился к борту «Сибирякова» и перекинули
¹ Далее в этой главе цитирование «Поденных записок» и писем-дневников проводится без указания страниц, что объясняется особенностью использованных документов: не все записи датированы, часто автор вспоминает и описывает прошедшие события, относящиеся не только к этой экспедиции, пишет о семье, своих более ранних исследованиях.
трап, первыми на ледокол взбежали папины экспедиционные собаки. «Точно утюжок движется ледокол, и мы с трудом за ним поспеваем». С помощью «Ермака» удалось выйти из сплошных льдов. Стало очевидным, что невозможно ни высадить папину экспедицию на Северную Землю, ни снять зимовавших там уже два года полярников Б.А. Кремера и А.А. Голубева. Горно-геологическое управление ГУСМП распорядилось высадить экспедицию у мыса Стерлегова.
«Л[едокольный]п[ароход] «Сибиряков» 9 октября через льды северного Карского моря доставил нас к мысу Стерлегова на западном берегу Таймырского полуострова, который называется берегом Харитона Лаптева, где экспедиция, вверенная мне, должна производить поиски и разведку полезных ископаемых: слюды, вольфрама, олова и редких земель иттриевой группы и других. <...> Вокруг парохода стоял уже лед, образовалась шуга. Ведь было уже 9—10 октября, берег был покрыт снегом, береговая полоса обмерзла, наступала полярная ночь. Нам нужно было принять 300 тонн груза. <.„> Три прощальных гудка, а с нашей стороны три аммональных взрыва-салюта в знак последнего прости. 13 октября пароход ушел. Вместе с ним удалялась вдаль и любимая. На палубе я видел еще долго дорогую фигуру в серой тужурке — это стояла мамочка. Я долго не сводил своего бинокля <...> Началась новая страница жизни — Западно-Таймырская геологическая экспедиция.
Нам нужно было в первую очередь построить крышу — отвоевать у суровой арктической природы некоторое количество кубометров и приспособить для жилья 8-ми человек. Временно нас приютила Полярная станция, где мы ночевали и питались. Жить было очень неудобно — негде было прилечь, а ютились кое-как, то на стульях, то на полу. Я лично имел складную кровать, которую на ночь ставил в комнату к начальнику станции — перпендикулярно к его кровати.
Все очень дружно и энергично принялись за постройку дома10 и за подтягивание нашего 300-тонного груза с берега на более высокое место. Могла разразиться буря, и наше продовольствие и снаряжение могли подвергнуться опасности. Часть бревен и досок одной такой бурей были смыты с берега, и мы их лишение ощущали очень тяжело. Каждый предмет и каждая вещь здесь на учете, так как достать их негде и ничем не заменишь.
10 Дом собирали из пронумерованных бревен сруба, сложенного еще в Архангельске. Бревна складывали в том же порядке, конопатили, а затем возводили крышу.
Все наши перевозки мы производили на двух санях канадского типа. Это узкие, метра два длиною сани с полозьями из лыж. Они идут легко и не проваливаются в рыхлом снегу.
Двое рабочих были выделены к двум плотникам со станции и образовали строительную бригаду. Все остальные, и я в том числе, представляли возчиков. Никогда в жизни мне еще не приходилось так много тянуть, возить, поднимать и таскать, как в этой экспедиции. При этом мне всегда нужно быть первым, поднимать дух и настроение, а также служить примером в ударной работе, а это значит первым впрягаться в работу и последним уходить с места постройки.
Снег подваливал все время и мороз крепчал, достигая 27—30°. Ночь полярная надвигалась быстро, но как только мы подвели под крышу наш дом, то сразу поставили двигатель и пустили в ход динамо-машину — 6 электрических ламп освещали место работы, что дало нам возможность работать с 9 часов утра до 8 часов вечера. Перерыв на обед был с 2-х до 3-х часов. В 10 часов мы, конечно, уже спали как убитые. 26 октября мы все уже могли переехать в свой дом. Дом был только прикрыт, но совсем еще не готов, правда, печка стояла в готовности. Рамы были одинарные, двери прикрывались кое-как, но жить в доме было можно. Кое-как поставили койки, столы и задымился очаг. В это время бухта уже замерзла и начали появляться медведи».
Экспедиция состояла из восьми человек: начальника — папы, его заместителя — инженера-разведчика Г.Д. Курочкина, коллектора А.В. Малаховского (папиного ученика на курсах в бухте Варнека), топографа Н.А. Федулова, радиста-механика А.А. Стащенко, повара И.С. Суховерова, каюра-промышленника Г.М. Кузнецова и рабочего В.П. Ершова. Большинство из них молодые люди до 30 лет, кроме Малаховского, в Арктике никто раньше не работал. Опытными полярниками были только папа и каюр. На мысе Стерлегова рядом находилась полярная станция (в первую зимовку под начальством П.С. Солдатова, во вторую — Л.М. Повлодзинского). На станции зимовало четыре полярника, двое из них с женами. Один из зимовщиков, А.А. Лаврентьев, был фельдшером и парторгом. Его партийные и медицинские обязанности распространились и на экспедицию. Папа не упоминает о том, кто именно был членом партии в его экспедиции (видимо, не придавал значения партийности), но ждал помощи от А.А. Лаврентьева при разрешении случавшихся нравственных конфликтов. Особенно это относилось к Н.А. Федулову, который, будучи комсомольцем, по мнению папы, должен был отличаться образцовой дисциплиной и трудолюбием.
В первую зимовку заболели Г.Д. Курочкин и И.С. Суховеров. В начале 1937 года пришлось отправить на самолете в Москву Курочкина и немного спустя в Амдерму Суховерова. Экспедиция на несколько месяцев осталась без повара. В результате пришлось согласно составленному графику каждому члену экспедиции, включая начальника, нести дежурство по кухне — готовить трехразовую еду, мыть посуду и пр. В распоряжении экспедиции была корова и свинья. Уход за скотом на это время выпал папе — никто не захотел этим заниматься. Доить корову согласилась одна из женщин станции. Новый повар Ф.П. Мещанинов прибыл в экспедицию только в сентябре 1937 года. Взамен Курочкина Горно-геологическое управление прислало инженера-геолога В.П. Левского.
Дом с пристройкой вскоре был закончен. Общая площадь дома 40 м2, в середине большая квадратная печь. Она обогревала четыре комнаты и коридор. В двух комнатах по две койки, столы для работы и полки книг, в третьей — три койки, в четвертой, папиной, помимо койки, стола и полок с книгами, маленькая фотолаборатория и у печи таз для ежедневного обтирания. Все, что нужно для жизни:
«Портреты любимых и книги всегда со мной и около меня. <...> Часто думает моя седая головушка, начинающая жить "сызнова", как был бы я счастлив иметь такую светлую, уютную комнатку в Москве или в Ленинграде, даже в Архангельске. Ведь у меня по существу нет дома, нет помещения, где я мог бы склонить свою голову. У вас на Кировском я стесняю, как получить жилплощадь для нас, чтобы мы могли все вместе жить одной единой дружной семьей — для меня задача эта не разрешима <...> а трудно так скитаться! Еще труднее сознавать, что я бессилен создать вам уютную жизнь так, как это вы заслужили своими страданиями вместе со мной».
В пристройке расположена столовая-салон и кухня. Посередине салона обеденный стол, вдоль стен — рабочие столы, верстак, швейная машинка, шкаф с книгами, патефон. «Правда, наш салон является салоном постольку, поскольку мы там принимаем пищу, по существу мастерская: там, кроме обеденного стола и библиотеки, находится верстак и рабочий стол. Здесь чинится обувь и шьются меховые вещи, ремонтируются моторы и механические части машин и пр., пр.» Во второй части пристройки помещается кухня, в которой основное место занимает печь в два с лишним квадратных метра. Печь эта как бы многофункциональная: это и русская печь, где пекутся черный и белый хлеб, плита для приготовления пищи и вмонтированный в печь огромный котел для таяния снега. Отдельно поставлен бак, куда
наливается натаянная вода. Разделочный стол и полки — это как обычно. В меньшей трети пристройки — машинное отделение, где динамомашина вырабатывает электроэнергию.
«Из фотографии видно, что дом состоит из двух частей — основного дома и пристройки, а затем бесплатного приложения — массы снега. Снег закрыл до крыши с северной стороны наш дом так, что тоннель служит сообщением с домом. В тоннеле расположен весь наш собачник». У каждой собаки своя конура. Собачьи упряжки были единственным транспортом экспедиции.
Экспедиции надлежало работать на совершенно необитаемой территории, если не считать четверых зимовщиков на полярной станции мыса Стерлегова. Дикие животные встречались часто — это белые медведи, нерпы, олени, песцы, волки. Они же служили кормом ездовым собакам. Летом прилетали дикие гуси и веселые пуночки.
Конец октября, ноябрь, декабрь и январь — темные месяцы полярной ночи, когда солнце не поднимается из-за горизонта. В это время экспедиция занимается подготовкой к полевым работам: папа отрабатывает маршрут, кто-то подготавливает приборы, другие изготавливают соответствующую сезону обувь и снаряжение, а Аркадий Викентьевич Малаховский, по совместительству заведующий продовольственным складом, фасует продукты для отправки на временные базы.
Первый луч солнца мелькнул на несколько минут в день папиного рождения — 9 февраля. Этот день папа провел за чтением научных книг. Никому ничего не сказал: не хотел подавать повода для винных возлияний, к которым всегда была готова молодежь. Получил поздравительные радиограммы из дома и от Тамары Александровны. В дневнике появилась запись:
«Как-то в холодной Арктике дважды острее воспринимается внимание, любовь и ласка! Быть может потому, что очень холодно, температура все время стоит сорокаградусная или потому, что все время думаешь об одном: о своей работе и об окружающих людях, а также о собаках...
С появлением первых лучей солнца воскресли те, которые чувствовали себя угнетенными темнотой полярной ночи. Первые дни было пасмурно, но зато последующие дни солнечные, морозные, температура достигала 40—42°».
В первую поездку папа отправился в середине марта, чтобы заложить одну из баз для летних работ: «Ездил я туда с каюром Г.М. Кузнецовым на двух упряжках. На одной каюр, на другой — я. Температура была ниже 30 градусов, но было солнце, собаки бежали весело». На площади предстоящих полевых работ по берегу Харитона Лаптева надо было заложить шесть временных баз с оборудованием и продовольствием.
Планы на весну и лето выглядели так:
«Числа около 15 (апреля) я уезжаю на полевые зимние работы на двух упряжках с Кузнецовым. Мне нужно объехать все побережье от мыса Михайлова до мыса Иванова в заливе Миддендорфа — проделать работу по геологической съемке берега около 400 км и по реке Ленивой 150 км. Затем в первых числах июня переждать снеготаяние и двинуться на исследование пегматитов и начать горные работы, где я думаю пробыть до начала сентября».
Вначале путь отца лежал на мыс Михайлова — крайний южный пункт его маршрутов — 200 километров от Стерлегова. Затем он направился вглубь материка и, поднимаясь на горы, пережил несколько волнительных часов:
«Здесь я впервые увидел следы волка — какая жуткая картина! Лежит гладкий, чистый как скатерть снег, а по нему в одном направлении одинокая тропа лап волка. Не видя его уже мурашки пробегают по телу. Оружия с собой не было, а Кузнецов остался внизу с собаками. Идешь и думаешь, вот из-за камня или утеса на тебя обрушится серый гость, которому всегда холодно и голодно. <...> Подумаешь и все же свернешь в сторону, а след большой-пребольшой! Иногда попадаются разорванные волком олени. Волк даже оставляет по пол-оленя — видно, не так уж голоден, но большей частью находишь лишь "рожки да ножки"».
В папиных описаниях чувствуется ориентация на восприятие ребенка, хотя в то время мне было уже 15 лет. Писать в полевых условиях было трудно: «Когда находился в маршруте, так и рвалась рука к бумаге, чтобы поделиться впечатлениями с тобой, мой милый друг! Но условия жизни в маленькой палатке, где с трудом размещалось два человека, прикинь их зимнюю одежду: меховые штаны с курткой и малицей — это покажет сразу объем дорожного человека и тесноту в палатке, когда на дворе свищет ветер и температура обычно — 35° — 38°, а то и 40°С. При таких условиях... стынут чернила и стынут руки, писать не можется — делаешь только беглые заметки карандашом в своем дорожном дневнике».
Осмотрев берега реки Ленивой папа с каюром вернулся на базу. Следующий маршрут шел на север до острова Бонневи. Перед отъездом папа получил радиограмму от капитана В.А. Радзеевского, зимовавшего на экспедиционном судне « Торос», о находке топографической партией кусков слюды в заливе Бирули:
«В.А. Радзеевский пригласил меня к нему приехать отдохнуть во время моей поездки на север. Правда, это удлинит мой маршрут более чем на 100 километров — по арктическим масштабам это "завернуть" не считается далеким.
Я опять с Григорием Моисеевичем Кузнецовым собрался в путь на двух упряжках. Собаки те же, но всегда узнаешь их нрав в пути. Передовиком у меня был опять Ермак. От прежних маршрутов он усвоил привычку, что я все подворачиваю к камням, и он тоже стал подворачивать нужно и не нужно. Но у него, хитрюги, была определенная цель — это подбежать к камню и поднять лапу и сделать пи-пи. Это так меня изводило, что я испытывал большие затруднения, так как сани наезжали на камни, а мне их нужно было стаскивать, а он, дрянь, хоть бы что. Вторая его слабость, это идя по следу за первой упряжкой, в которой запряжено 8 собак, обязательно понюхать и остановиться на месте, где сделал его товарищ пи-пи и добавить хоть капельку, но своего. Это прямо озорство! Второе затруднение я испытывал из-за жалости моего сердца. Собаки должны справлять свои большие и малые дела на ходу. Так это заведено у Кузнецова и у всех порядочных каюров. А в моей упряжке собаке нужно обязательно остановиться и, исправив все свои дела, быть готовой бежать дальше. Для этого мне нужно встать и сдвинуть сани, а то они не смогут их поднять. Для меня лишняя нагрузка — временами в тяжелой малице — эта каждая лишняя операция тяжела и связана с затратой лишней энергии, а если эти дела повторяются дважды по восемь да дополнительные проделки шалуна Ермака и других, то это уже много!
Фотографии рядом передают картину нашего маленького отряда. На задке саней всегда лежит туша медведя, оленя или нерпы. Здесь видно, как мы тянем за собой нерпу — односуточное питание нашей «стаи славных» собачат. Если есть питание в избытке, то им лучше, да и у нас на душе легче. Мы имеем всегда пятидневный запас мяса для двух упряжек — что составляет мясо одного большого медведя. Олень идет на питание двух дней. <...>
Дальше мой путь лежал через залив Миддендорфа — имя академика, первого исследователя Таймырского полуострова, через остров Рогачева и полуостров Зуева в залив Бирули, ты помнишь директора Зоологического музея Алексея Андреевича Бялыницкого-Бирулю — он часто бывал у меня на Экскурсионной станции. Так вот этот залив назван в честь его. Он был молодым зоологом, когда участвовал в экспедиции Э.В. Толля — Русской полярной экспедиции. Эта экспедиция
зимовала в 6—7 километрах от залива Бирули, где мне приведется проводить вторую зимовку и создавать новую базу.
В память этой большой и славной экспедиции Академии наук поставлен каменный гурий выше двойного человеческого роста. <...> На этом гурии имеется медная доска, на которой выгравирована историческая дата 1900—1901 гг. — время зимовки экспедиции Толля на острове Наблюдения. Судно экспедиции называлось "Заря". Много дум проходило через голову твоего папочки, когда он стоял перед гурием. Теперь я и сам шагаю по этим историческим местам. Лучшие мои годы были всегда связаны с работами этой экспедиции».
Сказанное иллюстрируют в письме четыре фотографии гурия, памятной доски, папы и Кузнецова около этого гурия. Впереди их ожидали неприятности:
«По следам этой экспедиции передвигался и я на «Торос», но был сильный туман и метель и я потерял ориентировку и заехал не туда, куда следовало, а заехал на остров Таймыр вместо острова Бонневи. <...> После трех дней блужданий по Таймырскому острову, где в прошлом году «Седов» ставил знаки — ездил я. В тумане и непогоде можно было ориентироваться только по знакам, которые были поставлены экспедицией Тамары Александровны11. Миллион проклятий вылетало из моего раздосадованного горла: «Черт знает, что такое!» и еще крепче словечки были обычны, когда доберешься до знака, а там надпись: «Поставлен кочегаром «Седова» в 1936 году» и тому подобное... вместо того, чтобы вырезать имя острова и мыс, где поставлен знак, как это сделал Свердруп на мысе Вильда.
В это время у меня страшно болела левая нога, и я не мог совершенно передвигаться. Случилось несчастье со мной, когда Кузнецов охотился, а я должен был сдерживать собак, чтобы они не спугнули нерпу. Нерпа очень пуглива, а собаки рвутся вперед и хотят тоже помочь. Всемогущий хорей в моих руках, я их не бью, но пугаю. Чтобы успокоить более активных диксоновских, я вздумал, по мягкости моего женоподобного сердца, их погладить. Они, видно, приняли как знак одобрения и рванулись, за ними все остальные. Мгновение, и я был сбит ими
11 В 1936 Т.А. Колпакова в качестве судового врача плавала на ледокольном пароходе «Седов», с экспедицией под руководством П.В. Орловского, которая проводила гидрографические работы в районе архипелага Норденшельда.
и попал под сани, зацепив ногой. Меня поволокли противные безжалостные псы. Ушиб был настолько силен, что я к вечеру уже не мог сгибать ногу, а на другой день лишился свободы передвижения. Четыре дня страдал я неимоверно, как разразилась непогода и я с Кузнецовым должны были отлеживаться в палатке, выжидая погоду. Кузнецов спал все время как сурок, а я лежал в теплом спальном мешке и был счастлив, что мне не надо двигаться. Боль в ноге не утихала, но и не мучила меня так, как при движении. Все же после лежания было лучше, но начав ходить, боль снова возобновлялась. Я хотел уже возвращаться, как Кузнецов вернулся с охоты на оленя и сказал мне: "Павел Владимирович, ставьте бутылку коньяку, скажу, где "Торос". — "Ладно, уверен, что нам путь надо держать на север". — "Здесь "Торос", за горой видел своими глазами, там же стоит самолет Фариха". Оказывается, в тумане, не зная того сами, мы попали на искомый остров Бонневи и оказались около бухты Ледяной, где из-за вьюги и метели отлеживались два дня.
Спускаясь с горы к месту стоянки "Тороса", видели, как брал старт самолет Фариха, который три дня из-за плохой погоды оставался у "Тороса". <...> Фарих улетал с «Тороса», а я подъезжал. Был очень радушно встречен капитаном судна Виктором Алексеевичем Радзеевским и начальником экспедиции Николаем Николаевичем Алексеевым. С капитаном я имел возможность познакомиться раньше. Он прилетал с Махоткиным в марте и останавливался у меня. <...> Как странно бывает в жизни — не знаешь, где встретишь врагов и злых людей, а где таятся жемчужины человеческой души. К одним из таких редких людей относится, как оказалось, капитан Радзеевский. Он молодой человек, ему всего 28 лет — живой, бодрый, что свойственно южной природе. Он по отцу — армянин. Два исключительно приятных вечера провел я с ним. "Плоды наук, добро и зло" <...> — обо всем переговорили, все успели перебрать.
На судне " Торос" врач подлечил мою больную ногу, клал спиртовый компресс и массировал. Я находился в лежачем положении. Нога заметно поправилась, и после трех дней приятного душевного отдыха я собрался в обратный путь. Тепло провожала вся команда. Приятно видеть, когда окружают тебя к тебе расположенные люди. Виктор Алексеевич снял меня с Николаем Николаевичем Алексеевым».
В своей книге «Зимовка на "Торосе"» Николай Николаевич Алексеев пишет об обнаружении слюды во время триангуляционных работ и вспоминает о приезде на « Торос» папы:
«Маститый геолог и полярник решил лично обследовать место нашей находки и приехал на « Торос» на собаках. Во время путешествия П.В. Виттенбург повредил себе ногу и теперь вынужден был в течение нескольких дней отлеживаться у нас на корабле.
Наш гость знал Арктику и ее историю едва ли не лучше всех своих современников. Связанный в своей деятельности в течение многих лет с Академией наук, П.В. Виттенбург знал лично многих из наших и зарубежных исследователей Арктики, и его рассказы о их работе собирали по вечерам в нашей кают-компании полную аудиторию слушателей.
30 мая П.В. Виттенбург, получив от нас точные указания о месте находки слюды, уехал в залив Бирули и далее на свою базу на мыс Стерлегова. Через несколько дней мы получили от него телеграмму, в которой он сообщал, что месторождение оказалось настолько богатым, что вся геологическая экспедиция с мыса Стерлегова выедет в залив Бирули, где и продолжит детальное обследование минеральных богатств района»12.
От обратного пути у папы остались более приятные впечатления:
«Стоял теплый слегка морозный майский день. Повозка-сани были уже уложены и готовы к отъезду. Хореи в руках, собаки поднялись, мы готовы тронуться. Первым приходит в движение Г.М. Кузнецов, за ним я. <...> Начинается мерный бег собачьих лапок и красиво задранные султаны собачьих хвостов. Они сыты, хорошо отдохнули и легко бегут... Бодро гляжу вперед навстречу ветру и неизвестному. Сколько вопросов неразрешенных и нового ждешь с пароходом. Наладится ли у меня работа второй зимовки? Все вопросы и вопросы...
Путь обратно прошел вполне благополучно — собаки сыты, бегут весело! Любопытной картиной нашей зимней работы является привал — это остановка на ночевку. Постановка палатки дело простое, укладка и разбивка спального мешка — тоже дело несложное13. При этом работа у нас как-то сама собой разбилась на две части: я начинаю варить еду — это значит развожу примус, ставлю кастрюлю и начинаю
12 Алексеев Н.Н. Зимовка на «Торосе». Л., 1939. С. 228.
13 Папа имел с собой помимо спального мешка из собачьих шкур «амундсеновскую»перинку. Это легкий спальный мешок из гагачьего пуха в оболочке из парашютного шелка с двумя клапанами на уровне рук. Внутрь вкладывался хлопчатобумажный мешок, легко стирающийся. Благодаря «амундсеновской» перинке папа всегда имел возможность раздеться на ночь, несмотря на большие морозы и ночлег на снегу. Перинка сохранилась со времени папиных поездок в Скандинавские страны.
снег превращать в воду. Когда вода вскипит, забрасываю приготовленные ранее пельмени. Это один ком бывших пельменей, сбитых в общую массу, которая отрезается ножом. Масса имеет вид сельсисона — род колбасы. Затем кладу несколько кусков свинины, макарон или риса, соли, лаврового листа и варю.
Г.М. Кузнецов берет кусок мяса и топором отрубает на куски в среднем по килограмму, а то и больше — по числу собак. У нас их было шестнадцать. Все собаки смирно кругом садятся в ожидании разрешения приступить к уничтожению. Дело не обходится без ругани и драк, так как ряд собак стремятся из-под руки вырвать раньше времени кусок мяса и лезут прямо под топор. Часто мне приходится стоять рядом и хореем отгонять жаждущих украсть кусок мяса. Мясо порублено и все означающее "Ля" разрешает собакам хватать мясо. Ты бы посмотрела с какой жадностью и молниеносностью поглощается мясо и глотаются кости. Как они не подавятся — я прямо себе не представляю! Собаки поели, немного успокоились и свернулись в клубочек. Некоторые псы нуждаются в более усиленном питании, поэтому им дается двойная порция, а то и приварок. В этом нуждается Блажка — работает усердно, а ест мало, ее приходится усердно кормить.
Когда Г.М. Кузнецов кончил свое дело, то к этому времени и у меня тоже готова еда и согрет чай. Зову его, и мы начинаем еду чаем и кончаем чаем, а суп служит первым и вторым блюдом. Наш лагерь имеет один и тот же вид. Мало разнообразия и в нашей беседе. Г.М. Кузнецов, как северянин-промышленник, мало разговорчив. Он не словоохотлив. Про него даже говорят наши ребята: "Ему все хны, были бы песцы..." Действительно, его ничем не удивишь — все он знает лучше, уверен в себе и в своей силе. Зато, когда Григорий Моисеевич выпьет, а пьет он как полярник здорово, вот начинает говорить и говорить с большим воодушевлением и подъемом. Он вспоминает прошлые славные походы, зимовки и особенно много говорит о собаках. С великой любовью и душой отзывается о них и с чувством нескрываемого достоинства о промысле и о себе, который носит звание промышленника, а не каюра.
Действительно, неоднократно я имел возможность убедиться, что Кузнецов достоин гордого звания "промышленник". Неутомим Григорий Моисеевич в походе, беспрестанно смотрит в бинокль и высматривает зверя. Я еду и ничего не замечаю кроме камней, а он не пропустит ни одного следа. Когда встретит след, остановится, посмотрит, куда зверь прошел, до вьюги или после вьюги и лишь тогда, когда произведет всестороннее
исследование и анализ, он поедет дальше, и то тронется, когда будет убежден, что зверь находится вне поля зрения призматического бинокля».
Дальше папа пишет:
«Помню раз была отчаянная метель, мы курс держали по компасу. Мне было холодно, и нога адски болела. "Павел Владимирович, — обращается ко мне Кузнецов, — олений след заметил, позвольте сходить попугать их". " Что ж, валяйте", — говорю ему. А сам про себя думаю, какого черта он идет, глаза ничего не видят, ветер свистит и снег слепит. Я бы ни за что в такую погоду не двинулся, а он пошел. Закрылся я в свою малицу, собак привязал и стал ждать его возвращения. Ждать пришлось часа три-четыре. Наконец приходит. Лицо все залеплено, как говорится, на лице ледяная маска. Лег около моих ног. "Вспотел, жарко", — говорит мой каюр. "Ну, что, получили?' — спрашиваю я. "Да, Павел Владимирович, четырех уложил! "
Подняли собак, которых снег совсем закрыл, тронулись. Куда мы ехали, я ничего не мог сказать, так как абсолютно ничего не видно. Только стараюсь не отставать от Григория Моисеевича. Останавливаемся — один олень, дальше второй, и так во мраке снежном собрали всех четырех оленей...»
В другой раз собрался Григорий Моисеевич в непогоду на медведя налегке без палатки. Папа высказал ему свою обеспокоеность: «"Беда, — говорю ему, — если непогода Вас застанет". — "Ничего, убью медведя и завернусь в его шкуру, да сплю, высплюсь, а там и погода уймется". "Хороший шалаш", — подумал я». Постоянный промысел был необходим для добывания корма собакам. Во время весенних полевых работ на прокорм 26—30 собак14, как подсчитал папа, требовалось 12 тонн мяса зверя. В конце ноября 1937 года медведи ушли из окрестностей Стерлегова, а продолжительные штормы мешали охоте на нерп. Из Архангельска с пароходом должны были доставить экспедиции семь тонн мяса, но этого не произошло. Пришлось Кузнецову кормить собак селедкой с сухими овощами и картофелем. Для питания собак во время полевых работ изготовили консервы. Беда заключалась в том, что экспедиция не имела специального собачьего корма — пеммикана. Пеммикан изготовляется из молотого и высушенного мяса с жиром. Он высококалориен и легок на вес. Собаки едят его с большим удовольствием, чем сырое мясо. Небольшое количество пеммикана,
14 Число собак менялось в связи с появлением молодняка. По приезде на мыс Стерлегова экспедиция имела 75 собак. В работе постоянно находились 26—30 собак.
оставшееся от экспедиции Н.Н. Урванцева и П.Н. Ушакова 1930—1932 . годов, передали папе с Северной Земли, но это спасти положение не могло.
В те годы белые медведи и песцы жестоко истреблялись охотниками-любителями. Охотничьи страсти разгорались до ссор между рабочими экспедициями и персоналом полярной станции. Добыть шкуру медведя или песца было очень заманчиво, так как на Большой земле за них давали «хорошие» деньги.
6 июня папа и Григорий Моисеевич Кузнецов вернулись на основную базу экспедиции — мыс Стерлегова. Предстояло отправить группу на разведку пегматитовых жил в заливе Бирули во главе с геологом В.П. Левским. Для этого требовалось получить согласие горно-геологического управления. 22 июня пять членов экспедиции уехали на собаках на север. Перед отъездом В.П. Левского на полевые работы папа по его просьбе провел с ним ряд занятий по геологии Северо-Западного Таймыра. К папиному сожалению, Левский не обладал глубокими знаниями по своей специальности, но имел возможность через папину голову сноситься с Горно-Геологическим управлением. Как оказалось, он получал повышенную зарплату, равную зарплате начальника экспедиции.
Командование « Тороса» — Виктор Алексеевич Радзеевский и Николай Николаевич Алексеев — предложило свой корабль в качестве базы для экспедиции. Они выразили готовность поделиться продуктами питания и снаряжением. В своих «Поденных записках» папа писал: «Восторгаюсь капитаном Радзеевским — это мой идеал человека, понимающего сущность дела и во всем идущего навстречу вместе с начальником экспедиции Алексеевым». После отъезда людей в район залива Бирули на Стерлегова осталось три человека: папа, Аркадий Викентьевич Малаховский и Алексей Андреевич Стащенко.
Папу беспокоила перспектива будущей зимовки: «Приходится все время сноситься с Горным Управлением о деле второй зимовки — ведь нас отправили на мыс Оловянный на Северную Землю, а вещ-довольствием и другими делами снабдили лишь на год. Как я ни доказывал, что нужно иметь все на два года. Удалось отвоевать лишь резервный запас продуктов». С техническим оснащением обстояло дело также плохо, так как навязывали то, что непригодно в данных полярных условиях: вместо компрессора с двигателем внутреннего сгорания — паровой котел; вместо карбасов — мотолодки с подвесным мотором, в условиях битого льда непригодных. Горное управление на запросы отвечало: «Вас снабжаем как и всех, одинаково». У папы вырвалось: «Зачем личный опыт и мои знания, когда к моему голосу не прислушиваются?» Только после пятикратного обращения
в правление удалось добиться получения радиоустановки, хотя ясно, что без нее невозможно работать в полевых условиях Арктики.
Предстояло пополнение состава экспедиции еще восемью рабочими для ведения горных разработок в бухте Бирули. Казалось очевидным, что в экспедиции должен быть врач, однако он не предусматривался управлением. Папа хотел, чтобы на вторую зимовку приехала мама. Но на этот раз она не смогла выполнить папину просьбу. Возможно, она считала, что в это время больше нужна детям, а скорее всего, причиной было ее состояние здоровья: после трех рецидивов рожистого воспаления ноги, у нее сильно сдало сердце.
Бурные события в освоении Арктики, развернувшиеся в те годы, волновали папу — это и высадка на дрейфующую льдину научной станции в районе Северного полюса И.Папанина, П.Ширшова, Е.Федорова и Э.Кренкеля, трансполярный беспосадочный полет из Москвы в Северную Америку В.Чкалова, а затем М.Громова и трагическая гибель С.Леваневского:
«В 8 часов [25.VI.1937] слушал митинг на Щелковском аэродроме. Величественное должно было быть зрелище — прилет наших летчиков с О.Ю. Шмидтом во главе с Северного полюса! А я стою в стороне, где-то на Западном Таймыре и делаю свое маленькое дело. Хочется быть в центре полярных вопросов!
Под впечатлением переживаемого написал статью "Путь к полюсу". Хочу передать ее на Диксон для Арктической газеты15. Как горестно, что с Леваневским случилось несчастье! Где наш бедный самолет? Море Бофорта — очень коварное море и льды там паршивые. Будет очень трудно его искать».
Здесь на Стерлегова были другие заботы. Уход за коровой и свиньей, чистка коровника, приготовление корма — в это время все лежало на папе. Сено кончалось. Как дальше содержать корову? Корма собакам оставалось очень мало, промысел успеха не имел. Тревожило папу и отсутствие регулярных известий из дома. В это время мама лежала в больнице, а об этом папе не сообщали. В результате всех беспокойств у папы началась бессонница, чему способствовал и полярный день. Солнце больше месяца не опускалось за горизонт, светило и днем и ночью.
Среди всех забот и волнений папе пришла мысль отметить мое успешное окончание семилетки — подарить мне прогулку на автомобиле по Ленинграду и островам вместе с Тамарой Александровной, для этого он
15 Статья была принята и опубликована.
перевел мне специально 150 рублей. С огромным удовольствием на открытом «линкольне» в прекрасный солнечный день июля мы объехали красивейшие места города и лакомились мороженым. В то время прогулка на автомобиле была большой роскошью.
Папе предстоял выезд на полевые работы в район массива Тилло на базу № 2 — место летней геологической съемки и изысканий. К этому времени тундра стала непроходимой для собак — рыхлый снег, множество озер, кое-где проступали камни, до базы № 2 — 150 километров. После небольших выездов у собак уже были сбиты лапы. Надеяться на Махоткина не приходилось, так как он был занят на других направлениях. Стащенко предложил пешком отправиться на массив Тилло. «Этого предложения я только и ждал, — писал папа, — чтобы оно исходило от самих участников дела. Я с радостью приветствовал эту идею. А.В. Малаховский безоговорочно присоединился к нам». Придирчиво откинули все, без чего в поле можно обойтись. Взвесили груз — вес его составил 400 кг.
В путь они двинулись 15 июля в 12 часов 30 минут:
«...Я, А.В. Малаховский и А.А. Стащенко, положив на одну нарту 5 аккумуляторов, радио-вьючку и наши личные вещи, впряглись в лямки — потащили сани. Сначала дорога была легкая, хотя на поверхности льда находился снег, но пройдя километров 3—5, стали попадаться снежинцы, озерки с водой, и снег был весь пропитан водой, тянуть сани было трудно. Через каждые 500—700 метров останавливались, чтобы передохнуть. Тянули все дружно. Вскоре у меня заболела левая нога в сгибе, было очень трудно двигаться. Перемогая боль, все же не отставал от товарищей. Все были рады, что ушли с полярной станции, сотрудники которой нам здорово надоели. Дошли до видимости мыса Поворотного и Сталинца и остановились на льду на ночлег. Погода была переменная. Временами выпадал даже снег.
16 июля. Поднялись в 9 часов утра, позавтракали и двинулись вперед. Под мысом Приметным снежицы нас замучили. На мысу развели костер из плавника и через 3 часа пошли по направлению к мысу Гранатову острова Правды Севера. Дорога стала немного лучше, но все же воз, на котором груза около 400 килограмм, тянуть было очень трудно. Нога все болит, боюсь, что я стал в тягость товарищам, хотя и не подаю вида, но сгибать левую ногу становится все труднее и труднее. Все бодро тянут вперед. Ночевали на мысу с лагуной острова Правды Севера — до Гранатового не хватило сил.
17 июля. В полдень дошли до мыса Гранатового. <...> Взяли курс на мыс Ландина на нашу базу № 1. Дорога весьма и весьма посредственная — все снежицы. К вечеру пал туман, стали двигаться по карте, проходя в час не более 1 километра, дорога плохая. В 1 час ночи достигли мыса, промахнулись лишь на 100 метров.
18 июля. База № 1 хорошо была убрана и прикрыта брезентом. Предстоит последний этап — мыс т[очка] 44, где наша база № 2. Отдохнув, в Ъ часа дня двинулись вперед. Дорога сносная. Нога отчаянно болит. Временами побаливает и правая. Через косу мыса Каминского перетащили сани с аккумулятором волоком, а вещи перенесли. В 2 часа ночи пришли на базу № 2. Беспорядок отчаянный, грязь невозможная, но сил не было произвести приборку. С А.В. Малаховским произошла истерика — от ужаса при виде хаоса.
19 июля. Перенесли палатку, убрали свое помещение, сделали кровати и столы из плавника и досок. Удивительно, как В.П. Левский мог жить и удовлетворяться такой грязью. С Ершова трудно и спрашивать — в смысле культуры они, видно, оба стоят на одной ступени развития. Первым о переустройстве подал мысль А.А. Стащенко. Весь день хлопотали. В полдень А.А. наладил радио и имел связь со Стерлегова. Меня это очень обрадовало».
Парусиновую палатку на мыс Тилло привезли еще зимой. Размер ее 36 м2. Теперь в ней свободно разместилось, помимо четырех коек, радиоустановка, столы для работы и печка. Четыре окна, занавешенные материей, выходили на две стороны. Но вернемся к дневнику:
«21 июля. Начал полевые работы по съемке массива Тилло. Работаю вместе с А.В. Малаховским. Он очень старается и усердно все делает, несмотря на дождь, который шел весь день, он не потерял хорошее, бодрое настроение. Приветливо встречал нас в палатке базы № 2 А.А. Стащенко. К моей большой радости он на своем месте — работает старательно и увлекается своим делом. Экспедиционная работа его не тяготит. Вышли на работу в 12 часов 35 минут, пришли в 10 часов вечера совершенно мокрые. У меня болят ноги. Неужели я начинаю страдать ревматизмом колен? Правда, сапоги протекают — ноги все время мокрые. Болотных сапог Арктикснаб нам не дал. Вот уж организация — хуже которой не придумаешь. Рад, что хоть постель сухая и теплая!
22 июля. Дождь перестал, стали сушить наше промокшее белье. В 2 часа дня южным ветром оторвало лед от мыса Каминского и мыса
Тилло в пределах нашей видимости и понесло на Север. Полынья образовалась в несколько сот метров шириною. За Каминским в пределах нашей видимости чистая вода».
Папу особенно тревожило состояние льдов, так как должен был прийти корабль с продовольствием, снаряжением и новыми людьми для экспедиции на следующую зимовку.
«23 июля. В 10 часов утра отправились с А.В. Малаховским в дальний маршрут. Нужно охватить участок до реки Атты от мыса Дубинского и Тилло. На базе № 2 остался А.А. Стащенко. Целый день пришлось идти по мокрой топкой тундре, сапоги пропускают воду, но хорошо, что не было дождя. Тундра пятнистая и местами моховая с луговой».
В дневнике-письме папа описывает начало полярного лета:
«В середине июня появились проталины, а на них и первые скромные цветы, но как они здесь скудно природой рассеяны, — не то, что ты видела на Вайгаче. Отдельные желтые кустики или подушечки робко оживляли унылый пейзаж. К началу июля появились и знакомые тебе полярные маки, но стебелек их низок и лепестки куда меньше тех, которые мы вместе собирали и клали с мамочкой в букет. Прекрасны, конечно, голубенькие глазки незабудок. Как они дружно букетиками жмутся друг к другу, чтобы противостоять невзгодам переменчивой погоды — то туман, а как они здесь часты, то снег выпадет в начале августа, как это я сам перечувствовал на днях. Редко, редко температура подымается выше 3—5° С, а то держится около нуля, и лужицы замерзают, не успев растаять. <...>
Снег сошел у нас в середине июля и широко разлились речушки. Ожила тундра. Появились гнезда милых пуночек — этих жаворонков Арктики. Мои товарищи в Бирули уложили на корм себе и собакам в один присест 320 гусей! Но нет здесь лебедей — этих гордых и благородных представителей пернатого мира. Объясняется это наверное тем, что здесь на Таймыре совершенно нет озер. Чайки и буревестники, как и в Баренцевом море, нарушают вечный покой Полярных стран. Комаров и мушек почти не было видно в самые жаркие дни июля месяца, которых было тут дня два-три. Интересно отметить, что в палатке у меня вот уже который день живут три интернационалиста — обыкновенные домашние мухи, даже жужжат как дома, только робко!»
В письмо вложен гербарий из цветов, собранных папой.
И далее из «Поденных записок»:
«Обнажения крайне редки в виде отдельных развалок и глыб, торчащих в увалисто-волнистой тундре. Высшие точки не превышают 52 м над уровнем моря.
С нами побежали, как мы ни отгоняли, наши любимцы — белые щенята: Леди, Малинка, Аза и Моряк. Они радуют своим неизменно веселым нравом, женской лаской и добротой — то видишь в них, чего так хочешь и о чем так тоскуешь.
Интересно углубиться в материк и узнать его строение, но все же для этого нужно иначе подходить. На своих ногах далеко не уйдешь. Нужно еще больше баз и нужны палатки с примусами, чего у меня на пути нет. Работаешь самым примитивным образом. К пяти часам дошли до 6-й базы. Многое испортилось, хотя все было закрыто брезентом. <...> Передохнув, мы пошли дальше по направлению к реке Атте. Так назвал Федулов реку, впадающую в бухту Слюдяную, в память женщины любимой. Подробности не знаю этой юношеской любви. Ему 24 года, но пусть это так и останется — он тоже человек!16
Безмерно трудно шагать по тундре. Понятно, что все геологи, работавшие здесь, проезжали зимою на собаках, а не подобно мне месили тундру. Но когда я зимою проезжал эти же места, конечно, и половины того не видел, что вижу сейчас. <...> Пошли дальше к базе № 3. Пришли к ней в 5 часов утра 24-го, очень устали. Из ящика сложили костер, согрели чай, сварил я суп, поели и легли на землю, подослав переклейку из-под ящика, покрылись брезентом. Проспали до 6 часов вечера. Я еще так устал, что есть ничего не хотел, попил чаю и лег опять, хотя А.В. Малаховский предложил идти. Я чувствовал усталость в ногах и опухоль левой ноги, которая, кстати заметить, была к тому же натерта. В 10 часов вечера уже я поднялся бодрым, поели и в 11 часов вечера пошли дальше к мысу Дубинскому. Идти было тяжеловато, но все же продвигались вперед. К полночи достигли мыса. Работаем дружно-бодро!
Охватили мыс Тилло и сомкнулись с работой нашего первого маршрута. Пошли по береговому льду, имея перед собой свободную воду. В полночь был слышен, когда мы были на Дубинском, шум, ветру подобный, но из-за тумана с моря не могли ничего разобрать. Когда в
16 Папин снисходительный тон объясняется тем, что Н.А. Федулов обладал вздорным и тяжелым характером, что доставляло членам экспедиции много неприятного.
промежутке туман рассеялся, то увидели открытую воду. Лед зашевелился. От мыса Вильда, Дубинского и Тилло пришел в движение с большим шумом. Лед, по которому проходили, был весь испещрен промоинами и разбит трещинами, как говорится, был едва живой. Можно было ожидать, что он с минуты на минуту оторвется и придется идти в невольное плавание на дрейфующей льдине.
К 5-ти часам пришли на базу. Около базы нас встретил А.А. Стащенко, скучавший без нас, — мы отсутствовали три дня. Пришли, поели и легли спать. Спали до полночи, опять перекусили и спали до полдня 26-го. Встали бодрые и веселые. Записал чистовой дневник, а А.В. Малаховский нанес образцы на карту и убрал штуфу17. Нужно сказать, что вторую половину ночи нас все время мочил дождь, и мы промокли до костей.
27 июля. Ночью шел сильный дождь. Я не мог спать — все донимает бессонница и думы о доме, о домашних — о женушке и детях. Не получаю уже долго телеграмм — не больны ли? Всегда длительное молчание — плохой признак, всегда сопровождался извещением о болезни. Запрашивал Тамару Александровну, тоже не получил ответа. Как странно, что люди не хотят войти в положение далеко находящихся. Более спросить некого. Так томишься со своими бесплодными грустными мыслями, и нет ответа им. Как хотелось бы, чтобы мысль совсем не работала, лучше бы больше и лучше информировался о состоянии дел домашних. Сердцу так хочется покоя...
Дождь, сыро, туман, поработали около палатки, устлали камнем себе пол, а то от ночного дождя натекли целые лужи к нам в палатку. <...>
28 июля. Ходили на работу. Нашли гнездо хорошей слюды. Кристаллы размером 16x12, 10x12. К сожалению, это спорадическое гнездо. <...>
2 августа. Первого августа весь день спал, так как две ночи работал. Когда 30 утром мы с А.В. Малаховским вышли, то пришли на базу № 1 в 5 часов утра 31 июля, отдохнули и поели и в 2 часа дня пошли дальше и шли до 1-го августа 7 часов 30 минут, когда приплелись усталые на базу № 2. Последние сутки нам пришлось идти в тумане по мокрой [тундре] с постоянно мокрыми ногами и ориентироваться только компасом. Ориентировка была настолько точная, что пятая база в тумане была нами нащупана, а также и гора Базисная. Когда стали опускаться с горы, туман рассеялся и открылась панорама нашей базы № 2.
17 Штуф — крупный образец минерала или руды, предназначенный для исследования или для музейных, учебных коллекций и т. д.
Дыра в подметке моего сапога достигла 8 см. Подбить подметки нечем — всю кожу взяли с базы № 2 Аевский с товарищами. <...> 2 августа, после того как отдохнул, взялся за работу и переписал чистовой дневник — геологический, помылся и побрился. Рад был я страшно своей сухой постели, когда я мог вытянуться и отдохнуть. А.А. Стащенко сообщил, что Г.М. Кузнецов, отдохнув, взял лодку и дробовик, отправился к своей базе, где у него были собаки. Он собирается к пароходу на Стерлегова, так же как и мы, но как мы попадем — я еще не знаю.
Ветер разогнал льды. 1-го было чистое море, но сегодня опять нагнало. По радио передавали, что пролив Шокальского чист — как рано он освободился. Итак, не судьба мне быть на Оловянном Северной Земли. Больше уже ни в какую экспедицию не поеду — буду обрабатывать материал. Но где? <...>
11 августа. Усиленно работать, чтобы кончить скорее задание по съемке массива Тилло. Сегодня можно считать, что работа окончена. Хотя мы с А. В. Малаховским, с которым работали все время, нашли гнездо в 100—150 см2, но это единственное. Кристаллы слюды в 4—10 см2 чаще попадаются, но и то в рассеянном виде. Находки слюды Р.А. Самойловича на Дубинском, Кузнецова — т[очка] 44 и ничтожны и промзначения не имеют. Все пегматитовые жилы расположены у самого уреза воды. Вести горные выработки невозможно — будет заливать водой. Эти геологи раздувают без основания кадило.
Погода стоит дождливая и сырая с переменными штормами и штилями. Кузнецов ходил раз на охоту с А.А. Стащенко, но погода не благоприятствует.
9 августа на горизонте видели пароход, идущий к Челюскину, — дымок было радостно повидать и в то же время грустно, что только через год можно думать о возвращении домой, а так хочется к своим, к дому, к родным — скитаешься и бродишь по тундрам столько лет — пора успокоиться. Ноги вечно мокрые. Тундра как губка пропитана водой, сапоги текут.
В.М. Махоткин прислал милую радиограмму: "Я лечу Вас снять" <...> Погода только не хорошая, ожидаю изменения. Радио у А.А. Стащенко работает исправно — чему я очень и очень рад.
13 августа. Опять шторм с юго-запада. Бухта чиста, В полдень пошел дождь со снегом. Прибрали все, готовы к отлету. Самолет на Диксоне. Утром приехал Г.М. Кузнецов. Отдохнув, стал вязать сеть, готовится к рыбной ловле. На мой вопрос, где он думает ловить рыбу, —
не получил ясного ответа: "Где придется". Конечно, на реке Ленивой у полярной станции Стерлегова лучшее место, но там мы не будем.
14 августа. Самолет Махоткина с Диксона пролетел на остров Русский, а оттуда на мыс Челюскин, с Челюскина направляется на Стерлегова, но непогода заставила его снизиться в устье Таймыра. Вечером мы слышали разговор по радио. Ветер повернулся на Север, стало подмораживать и выпал слабый снег.
Про "Унжуп"18 ничего не слышно, не слышно также ничего от Макарова19, молчаливый, видно, человек и не знаком с деловыми операциями. Вообще своеобразно построило Горное Управление дело снабжения моей экспедиции — оказывается, по сообщению т. Макарова, нет ответственного лица за дело погрузки. Что получится?
15 августа. А.А. Стащенко уверял, что сегодня 16 — я тоже сбился со счета дней.
Второй день у нас стоит под берегом чистая вода полосой в 100—200 м и длиной более километра. Посадка возможна, что сообщил сегодня В.М. Махоткину, но он, бедняга, занят важным делом: затерло "Садко" в проливе Вилькицкого. "Ермака" зажало так, что три машины его не могут работать. Разговор слыхали по своему радио руководства "Ермака" с Николаем Михайловичем. Кто это? Видно, придется самим выбираться с Тилло. Жаль мне оставлять коллекции и материал для анализа — попадем ли мы на базу № 2 на моторной лодке — для меня проблематично. Ветер держится 3—С—3, почти западный. Льдина большая уперлась в мыс и держит водную поверхность в бухте базы № 2 свободной.
16 августа. Вечером 15-го, когда я пришел проверять залегание пород к западу от базы № 2, получил радиограмму от В.М. Махоткина, что сегодня он хочет нас снять и просит дать ему погоду. Виды на хорошую погоду слабы. Ветер повернулся на запад и дует с "гнилого угла". Действительно, ночью выпал снег, стало мокро. В 12 часов дня туман, видимость всего один километр. Хотя под берегом держится полоса воды 2—4 км — достаточная для посадки. Просил повторить данные о погоде в 3 часа дня, отложив полет. У меня все готово, ожидаю самолета.
Погода изменилась. К вечеру нагнало в бухту С—3 ветром лед и отрезало возможность посадки самолета. Пользуясь вынужденным ожиданием, пишу всем письма. А.А. Стащенко заявил, что аккумуляторов хватит еще на два дня. Печально!
18 Пароход «Унжа» должен доставить для экспедиции продовольствие и снаряжение.
19 Ответственный в ГГУ за снабжение экспедиции.
17 августа. Ледовые условия настолько ухудшились и дуют при этом упорные С—3 ветры, которые все больше и больше уплотняют ледяные поля, нас окружающие. Сплошной лед стоит до горизонта. Температура упала ниже 0, временами перепадает снег, тундра подмерзает к вечеру. Решил идти завтра с А.А. Стащенко и А.В. Малаховским обратно на Стерлегова. Идти придется 65—70 км по сплошной тундре. Г.М. Кузнецов подвезет нам шлюпочку, для переправы через Снежную. В 9 ч. 45 м. выехал Г.М. Кузнецов с лодкой. На обратном пути дал ему задание перевезти базу № 5 к базе № 2, куда стягиваю остатки баз. Собаки пошли по подмерзшей тундре легко и ходко.
18 августа. В 10 часов утра приехал Г.М. Кузнецов. Он привез лодку на реку Снежную, чтобы мы могли ее переехать. <...>При этом Г.М. Кузнецов сообщил, что три нерпы, которые были у нас сложены на перешейке, съедены медведем. Очевидно, это был тот же медведь, которого накануне вечером уложили А.А. Стащенко и А.В. Малаховский у нашей палатки.
В 2 часа дня мы закончили свои сборы и двинулись втроем: я, А.А. Стащенко и А.В. Малаховский на реку Снежную, переехали и в 7 часов пошли дальше по направлению к мысу Улитки, куда мы пришли в 12 часов ночи.
19 августа. Отдохнули, осмотрел я береговые обнажения и взяли курс на Стерлегова в 2 часа утра. Ввиду того, что береговая полоса нанесена на карту неправильно и бухта Витольда гораздо более расчленена, чем это казалось по зимнему объезду берега, — более четырех часов огибали мы бухту. Тундра была слегка подморожена, поэтому идти было сравнительно легче, чем это пришлось испытать по снежне массива Тилло. Ветер был попутный, С—3.
Я лично изменил направление и пошел на реку Ленивую, чтобы посмотреть берег и за вторым каньоном увидел, что развита вторая морена и мощно флювиогляциальные отложения. Этот заход был на 20—25 км в сторону от намеченного маршрута. Устал страшно, шел уже круглые сутки.
Пришел на Стерлегова в 4 1/2 часа дня. В пути был 26 1/2 часов. Дорога нас спасла, если бы не подмороженная тундра, то пройденные 100 с лишним километров пути пришлись бы очень и очень трудно.
Окружение наше — милые подростки щенята, которые неразлучно с нами. А как они, бедные, устали, особенно Леди. Садилась она, бедная, и выла. Так хотелось ей сказать: "Устала я, сжальтесь". Но нельзя было останавливаться, так как от ходьбы разогреваешься, а как остановишься, начинает холод пробирать — температура воздуха слегка отрицательная.
Пришел домой на базу — все в запустении: грязно, холодно. Мои товарищи пришли на 2 1/2 часа раньше меня, так как они шли по берегу моря, пообедали у соседей и легли спать. Когда я пришел, соседи спали, имея послеобеденный отдых. Мне пришлось прибрать дом, растопить печь и затопить плиту, доставить со склада продукты. Проделав эту операцию и закусив, главное — выпил горячего чая, лег спать. Спал кое-как, так как меховой спальный мешок не нашел на своем месте. Проснулся в 10 часов вечера. Милые соседи топили баню и пригласили помыться. С дороги это было блаженство! Купались мы все втроем, я, А.В. Малаховский и А.А. Стащенко. Ноги, а особенно пятка, болели страшно! Сбил себе ноги в новых сапогах и А.В. Малаховский. После бани поели и в 3 часа ночи 20 августа легли спать.
20 августа. Все мы занялись уборкой дома. Пришла Валентина Николаевна Иванова20 и предложила нам испечь хлеб, которого не было, ели печенье. И взялась нам состряпать обед. Мы втроем мыли пол — летчики здорово все испачкали.
Пребывание, уход и внимание В.Н. Ивановой всем действовали благотворно на нервы — мы чувствовали точно сегодня выходной день. Как много значит дух и внимание женщины. Мне все же очень жалко, что так разбилась комбинация женской души у нас на зимовке. Мужчины грубы и некультурны. Женщина украшает все».
Папа принялся за написание отчета по летним работам в районе массива Тилло. В письме ко мне он писал: «Район моих работ занимал 400 кв. км. Я должен был составить его геологическую карту и выяснить его слюдоносность. В этом районе слюды нет. Нашел ее гораздо дальше, в заливе Бирули. Указания прежних геологов, как-то: Самойловича, Кузнецова, Хераскова не оправдались. Моя экспедиция должна была подтвердить, а выходит наоборот».
Папа и А.В. Малаховский продолжили поисковые работы в районе реки Ленивой. Они трижды выезжали на моторной лодке вверх по реке. Предполагалось, что там должны быть выходы нефти. При тщательном осмотре берегов и прилежащей территории никаких следов нефти обнаружить не удалось.
Тревоги и заботы занимали папу. Море забито льдом. Пароход подойти не может, отстаивается на Диксоне. Запасы экспедиции на исходе. Кончился корм для коровы. Она очень похудела. Пришлось ее застрелить.
20 Жена одного из сотрудников полярной станции.
Собачьего корма очень мало. Охотиться было трудно, так как кончались патроны. Папа попросил Б.А. Кремера, зимовавшего на мысе Оловянном, поделиться патронами и прислать сколько возможно с В.М. Махоткиным.
Тем временем В.М. Махоткин увез старую смену зимовщиков Полярной станции Стерлегова, к работе приступила новая, не расположенная к находящейся рядом геологической экспедиции.
В конце сентября и начале октября разразились жестокие штормы 10—11 баллов. Море вскрылось, лишь на горизонте виднелся лед и у берега оставался припай. Ветер бывал настолько силен, что приходилось ходить, согнувшись в три погибели. После постоянного ледяного безмолвия шум волн доставлял папе удовольствие. Когда ветер немного стихал, он выходил на берег слушать плеск волн.
Описание парохода «Ушки» и эпопею его разгрузки приведу по папиным письмам:
«26 [сентября] утром на горизонте показался пароход и, проходя сквозь льды, приближался к нам. <...> Мы были разбиты на три части: на Бирули было 4 человека экспедиции, нас на Стерлегова — 3, а каюр где-то в пространстве промышлял зверя. Ничего не зная о приходе парохода, на другой день в темноте ночи он возвращался на базу и увидел огни. Он принял огни парохода за огни домов и направил полным ходом свою упряжку на свет. Каково было его удивление, когда собаки вдруг как вкопанные остановились перед открытой темной водой. Тогда он только понял, что у Стерлегова вскрылось море, чего он никак не ожидал и не предполагал. Все же благополучно добрался до дома, к моему удовольствию!
Для того чтобы иметь сообщение с пароходом, нужно было взрывать лед, отталкивать его и распихивать стамухи21. Все же катер дошел до берега и произошла приятная встреча. Сердце билось радостно — теперь мы двинемся вперед. <...> Я побывал у капитана Овчинникова. Молодой энергичный моряк, готов всем помочь и идти в залив Бирули, на Таймырскую станцию, мыс Челюскин, Комсомольскую правду, восточный берег Таймыра и к Хатангскому заливу, то есть посетить и свезти смену на 6 полярных станций. На борту находилось еще 12—16 человек Таймырской комплексной экспедиции с географом Кошкиным во главе. Из дальнейшего видно будет, как права русская пословица: "Человек полагает, а бог располагает".
21 Стамуха — льдина, вынесенная на берег или на отмель.
Наша задача состояла в том, чтобы сгрузить на Стерлегова бензин для летних полетов самолетов и погрузить наше имущество около 10—12 тонн и двинуться в залив Бирули, который находится в 300 км от нас. Сгрузили бензин в сутки, поднялся опять шторм и судно срочно, чтобы не быть выброшенным на берег, в 6 часов утра снялось с якоря и ушло в море отстаиваться. Отстаиваться от западных ветров можно под островом Геркулес, который находится в 30 км от нас. <...> Прошел день, другой, а буря не унимается. У меня осталось 7 человек, которые не могли попасть на пароход. Вижу, что дело плохо, заставил конопатить дом, собирать на всякий случай дрова на зиму. Наконец с 3 октября стало чуть тише и судно могло подойти к берегу. Спустили карбас, но нигде не могли найти место, где он мог бы пристать. За прикрытием одного мысика, откуда всегда в прошлом году показывались медведи — я его назвал Медвежьим — можно было карбасу подойти. Это в 5 км от Стерлегова.
Стали разгружать самое необходимое для второй зимовки. Капитан, который никогда не бывал в Арктике, стал сомневаться в возможности продвигаться дальше на северо-восток. Буря шумела, снег крутил, мы боролись со стихией. Принял два карбаса с продовольствием — 10 тонн. Получил известие, что от парохода оторвало карбас и унесло в море. Прибывший карбас с мукой на глазах разбило. В другом карбасе был скот: 3 коровы, бык и 3 свиньи. Прибегают ко мне и говорят — приплыла свинья. Оказывается, четвертая сорвалась с парохода и упала в море. Ее считали погибшей, вдруг объявилась. Берег был крут, ее застрелили, но не успели схватить, и волной ее смыло. Этой же волной било карбас. Одна корова выскочила и сломала себе ноги. Ее зарубили на месте, другая корова с быком скрылась в снежной метели, и все поиски их не привели ни к чему. Удалось лишь спасти одну слабую корову и трех свиней.
В это время катер выбросило на берег и пароход, борясь с волной, полным ходом слабо подвигаясь против бури, уходил от наших негостеприимных берегов. У меня осталось 19 человек команды. Не было никаких физических сил бороться с бурей. Так кончился день 3 октября.
Ничего хорошего дальше я не мог ждать. <...>
Я был уверен, что лед разогнало, и пароход опять вернется. Оставшиеся 19 человек я приспособил возить груз к нам в склад, правда, одни пошли на это охотно, но зимовщики других станций ворчали, пришлось на них воздействовать. Все же в день делали три нарты по три поездки. Мне становилось все более очевидным, что дело дрянь, и
нам придется опять зимовать на Стерлегова. Нам всем очень не хотелось оставаться здесь, так как Полярная станция с отъездом старой смены стала весьма несимпатичной, особенно добивался это Стащенко. Лишь 7-го октября шторм стих, и я получил от капитана радио, что просит погрузить людей на катер и он уходит на Диксон, прерывая дальнейший рейс на север и восток. Время было позднее, стояла уже зима. Действительно, около 5—6 часов появился катер, и я на промысловой шлюпке поодиночке на веревке отправлял — грузил людей. Каждый, конечно, попадал под волну и мок сверху и снизу, так как приходилось прыгать в воду — в шлюпке была вода. С этой шлюпкой отправил я и Стащенко на Диксон сгружать аэросани, которые должны были быть переданы Таймырской экспедицией нам. Я мок основательно, так как не было высоких сапог. Как бы то ни было, я, 19 человек + Стащенко, всего 20 погрузил и отправил и остался я один на берегу. <...>
Удалялась шлюпка и катер к стоящему на рейде под парами пароходу "Ушке". На берегу были обломки двух десятитонных кунгусов и моторный катер «петушок» жалобно лежал на боку. Кучка ящиков содержала немного продуктов и вещей. Полярной станции ничего не сгрузили из продуктов, кроме 4 свиней и одного быка. Когда совсем стемнело, то увидел, к нам опять направляется катер со шлюпкой на буксире. Я побежал к мысу Медвежьему, со мной побежал также метеоролог Павлуша и рабочий Бубновский (это новый, которого я оставил у себя — он кузнец). Подошел катер, при помощи швырка перекинули веревку, и мы стали подтягивать нашу небольшую, нам присланную шлюпку. Катер немедленно отошел, и мы стали выгружать присланные последние вещи: молотки для работы, личные вещи некоторых товарищей, которых перебросили с Диксона на Таймыр самолетом, а вещи скинули нам, чтобы зимним самолетом им их отослать. Был также патефон, наш пришел уже в негодность и, увы, пачки патефонных пластинок, которые прямо в темноте швырнули на обледенелые камни. Я и не хотел их смотреть, думал, что там осталась одна труха. Представь себе, я ошибся! Ни одна пластинка даже не лопнула. Правда, выбор пластинок был очень неважный — все крикливые деревенские песни, ни одной арии из опер.
Теперь задача — вытащить нам шлюпку. Ревела буря, силы малы. Я в отчаянии бегу на станцию звать помощи. Все откликнулись и пошли вытаскивать шлюпку. Я прошел 100—150 метров и не мог более двигаться — сердце не брало, и я обессиленный добрался до своей койки и лег. В 10 часов вечера пришли товарищи и сказали, что поручение выполнили, шлюпку вытащили. Отлегло от сердца, а то еще четвертую посудину терять было бы ужасно!..
"Унжа" дала свисток и вскоре скрылась во мраке ночи <...> Наутро настал полный штиль и море покрылось немедленно льдом. <...> Мы замерзли на вторую зимовку...»
Навигационный сезон 1937 года был чрезвычайно тяжелым для арктического мореплавания. Жестокие штормы сменялись огромными подвижками льда. Папа писал, что никогда не видел Карское море столь бурным. Еще в середине лета в один из штормов ледокольный пароход «Малыгин» сел на банку недалеко от Стерлегова. Его сняли ледокольные пароходы «Г.Седов» и «Диксон». Проводка Северным морским путем каравана торговых судов с помощью ледоколов «Малыгин», «Г.Седов», «Ермак» и других сорвалась. В Карском море и море Лаптевых в 1937 году зазимовало 25 транспортных судов и почти весь ледокольный флот, за исключением л/к «Ермак»22.
Выгрузить аэросани с «Утки» на Диксоне не удалось опять-таки из-за шторма. Стащенко с «Унжеи» пришлось отправиться в Архангельск. Папа сокрушался: «Так невыносимо трудно работать, когда нет механизированного транспорта. С уходом "Ушки1 с Диксона рухнула надежда на получение аэросаней — опять только собачки, на них вся надежда».
Остро не хватало корма собакам. Арктикснаб не реагировал на многократные просьбы папы прислать с «Унжей» 7 тонн мяса. Приходилось рассчитывать только на свои силы. Охота плохая, медведей нет, они куда-то ушли. Напряженность не снималась. Кузнецов отправился с двумя упряжками в залив Бирули за группой Левского. Стоял октябрь, но уже наступила глубокая зима. Папа надумал построить собачник с северной стороны дома. Вместе с Бубновским, единственным рабочим нового пополнения, принялся за работу. Затем присоединились и те, кто приехал с залива Бирули. Собачник площадью 55 квадратных метров вышел на славу:
«Чтобы попасть в дом в этом году, не надо проходить через многометровый снежный тоннель, а можно прямо с двухметрового сугроба нырнуть в собачник и через него пройти в дом. Конечно, наши собаки своего встречают ласково, приветливо, но органически никого из зимовщиков Полярной станции не переносят — всегда бросаются, а некоторых прямо даже кусают. Кусают особенно тех, кто плохо относится к экспедиции. Особенно яростно набрасываются наши молодые собаки на собак с
22 Белов М.И. История открытия и освоения Северного морского пути. Т.4. Л., 1969. С. 196.
Полярной станции, которые не смеют к нам и носа показать, так с яростью на них набрасываются... Я опять о собаках — это моя слабость!
Все же через собачник надо пройти в дом. <...> Здесь, кроме конур собачьих, лежат мешки с кормовой мукой, две бочки топленого масла да бочка селедок — это продукты, из которых каюр Кузнецов варит сытные обеды собакам, которые стали почти вегетарианцами. От мучной еды пополнели и чувствуют себя здоровыми. Бочка с керосином и ларь с углем находятся под крышей собачника, здесь же заготавливаются дней на 10 дрова. Все удобно, хозяйственно».
В письме прилагается и план собачника, а также фотография со словами: «Прошу взглянуть на наш дом. Он весь в снегу. Сугробы до самой крыши. Собаки свободно гуляют на его поверхности во всех направлениях».
Также общими усилиями был построен продуктовый склад и обшита снаружи пристройка — кают-компания. Там при северо-восточном ветре температура падала до 0°. Несколько дней возили плавник, который море выбросило на берег в большом количестве. Благодаря ему экспедиция обеспечила себя дровами на всю зиму.
Приступая ко второй зимовке, папа продумывал задачи, стоящие перед ним:
«Нужно проделать основную работу по геологии и выявить развитие пегматитовых жил, которые несут слюду и другие полезные ископаемые из группы редких земель, 2. Нужно ставить разведку найденных тел со слюдой, 3. Нужно обеспечить оба вида работы собачьей тягловой силой — добывать им корм, 4. Нужна забота о людях, создать им теплое, уютное помещение и обслужить их культурные потребности и 5. Убрать с дороги всякие шероховатости и работе и людям — все должно гармонично сочетаться, а для того, чтобы оно гармонично сочеталось, нужно хорошее — бодрое настроение».
Вторую зиму хотя и нежелательно было проводить на Стерлегова рядом с Полярной станцией, но все же было и преимущество — не надо строить новый дом на безлюдном голом месте в заливе Бирули и обживать его. Условия жизни в старом доме были хорошие. Все имели спальные комнаты на 2—3 человека, двое из прибывших позже — С.А. Абакумов и С.И. Бубновский — получили возможность ночевать в освободившейся комнате на Полярной станции. Парторг и врач (фельдшер) Полярной станции А.А. Лаврентьев был также парторгом экспедиции и оказывал в случае необходимости медицинскую помощь. Когда не было сильного ветра, в
доме было тепло, всегда горел электрический свет. Папа пишет, что лишь однажды в его комнате ночью замерзла вода в стакане.
Наступившая полярная ночь казалась папе темней предыдущей. На некоторых сотрудников экспедиции она действовала угнетающе — нападала спячка, а другие, напротив, возбуждались, становились раздражительными. Папа всячески рекомендовал своей молодежи больше бывать на воздухе, бегать на лыжах. Сам же папа тихими вечерами любил гулять с собаками под шелестящими разрядами полярного сияния: «Аза от радости и избытка чувств прыгнула мне прямо в лицо, когда я нагнулся приласкать Торосика. <...> Полярный мир — мир снега, северных сияний и безмолвия».
В экспедиции действовал определенный распорядок по уборке помещений, мытью полов, топке бани и стирке белья (с помощью стиральной машины). Дежурили все, не исключая и папы. Питание было очень хорошим, благодаря приезду нового повара Ф.П. Мещанинова:
«Повар высокий ростом, мягкая задумчивая улыбка делает его слегка печальным. Он молчалив и обладает замечательным даром спокойствия и невозмутимости. Завоевал сразу симпатии всех. Действительно, если бы были у меня все такие сотрудники, как Федор Павлович, я бы не знал горя и зимовал бы в Арктике. <...> Такой славный и хороший, притом первоклассный специалист. Обеды, ужины у нас такие, каких в ресторане не получишь <...> все так пополнели, прямо стали круглыми. <...> Питаемся прекрасно, и я никаких не должен выдумывать меню и выслушивать неприятностей за худое питание, как это было в прошлом году. Имеем пирожные, сладости и все, что может только вообразить себе самая избалованная хозяйка. <...> Беда только в том, что он как профессионал-повар страдает желудком и сердцем и часто прихварывает, стоит даже вопрос о вывозе его, к моему большому огорчению, с самолетом в больницу. Но он хочет с нами ехать на полевые работы».
Кают-компания была местом, куда по вечерам собирались члены экспедиции поиграть в шахматы, шашки или в настольный бильярд. Папа любил играть в шахматы с Абакумовым или Бубновским. Однажды даже устраивался шахматный турнир с персоналом Полярной станции. Музыкальные вечера с прослушиванием пластинок не удались, так как слишком разные были вкусы. Папа пытался привить интерес к классической музыке: читал сказку А. Островского «Снегурочка» и иллюстрировал ее записями арий из оперы Римского-Корсакова, но успеха не имел. Бытовал вкус иной — популярные песни и частушки. В те вечера, когда особенно взгрустнется,
папа брал патефон в свою комнату и слушал в одиночестве арии из любимых опер: «Царской невесты», «Евгения Онегина» и других.
В кают-компании собирались слушать разные лекции: «Советская Арктика к 20-летию Октября», «Исторические даты декабря», «Природа колебаний земной коры», к годовщине смерти С.М. Кирова — воспоминания о встречах с ним — это папины темы. Топограф Федулов сделал доклад о топографии берега Харитона Лаптева. Метеоролог полярной станции — о метеорологических явлениях в Арктике.
На берегу сурового Карского моря, среди снегов и льдов, полярникам следовало изучать историю ВКП(б) — самой передовой, самой революционной партии в мире. Для этого оба коллектива — геологической экспедиции и Полярной станции — были разделены по образовательному признаку на две группы. Старшую вел парторг А. Лаврентьев, а младшую — комсорг станции П. Гореченков. В зимний сезон занятия проводились ежемесячно.
Папа отметил в своем дневнике после одного из занятий 1937 года:
«Вчера были очередные занятия по истории ВКП(б). Как я рад, что мог в течение всего года пройти связанный, при этом полный курс при очень хорошем руководстве со стороны А.А. Лаврентьева. Как жаль, что я раньше не знал об этом почти что ничего, а ведь как история расширяет горизонты и дает правильное понимание настоящего и Генеральной линии партии. Быть может и моя жизнь не пошла бы по тернистому пути ссылки. За что погибла моя жизнь? Эта сволочь троцкистская погубила не одну тысячу людей!»
Наивный, доверчивый папа!.. Он все принимал за чистую монету.
...Неожиданно пришла телеграмма парторгу из Политуправления ГУСМП: учебник Попова, по которому шли занятия, не годен, нужно изучать историю партии по трудам Сталина. Так и поступили.
Так же, как и все трудящиеся страны, участники экспедиции включились в социалистическое соревнование. Папа нашел рациональное зерно в обязательствах — четко сформулировать обязанности каждого. Получились по существу должностные инструкции: «Наш план и наши обязательства четки и ясны. Метод соцсоревнования очень помогает мне в деле администрирования».
Полярная станция никак не могла сформулировать свои обязательства, а экспедиция должна была соревноваться именно с ней. Тогда папа написал для них несколько пунктов, которые сводились к просьбам экспедиции: ежедневно подавать метеосводки, сообщать об отправленных в эфир телеграммах от имени экспедиции, помочь в ремонте компрессора и
тому подобное. На общем профсоюзном собрании совместно с Полярной станцией обязательства были утверждены.
К Новому году Главк предложил папе провести проверку соцобязательств и выделить ударников. «Мои работают все хорошо. Хочется всех сделать стахановцами. <...> Экспедиция все сделала и перевыполнила. Бубновский, Абакумов и Ершов выделены [ударниками]», — был ответ.
Как требовалось в те времена, каждому коллективу надлежало иметь свою стенную газету. Экспедиционная газета «За арктическую слюду» в зимний сезон была выпущена несколько раз, оформляли ее Левский и Малаховский. Постоянно давали туда свои статьи как папа, так и другие сотрудники.
В Москве и на Диксоне передавали по радио «Арктические известия». Папа посылал им материалы: «Строение Таймырского полуострова», «5 лет ГУСМП» и другие. «Как живет и работает геологическая экспедиция» — эту большую статью он написал по заказу «Московских Арктических известий». «Просили дальше писать, но стесняюсь, что не смогу красиво и хорошо передать», — сомневался папа.
Ноябрь-декабрь 1937 года были насыщены в стране событиями большой важности: 20-летие Великой Октябрьской социалистической революции, выборы в Верховный Совет на основании новой Сталинской конституции, свидетельствовавшей о победе социализма в одной, отдельно взятой стране. Большевистская пропаганда развернулась с огромным размахом, захлестнула всю страну, в том числе и заброшенные среди Арктики экспедиции, полярные станции и замерзшие во льдах корабли. Предписан был определенный ритуал, который всюду без исключения должен исполняться. В условиях зимовки он был таков: парторг А.А. Лаврентьев, профгрупорг Г.М. Бедняков, папа и начальник станции Л.М. Повлодзинский «установили порядок проведения торжественного собрания 6 ноября в 9 часов вечера на Полярной станции; 7-го утром митинг, вечером банкет у нас; 8-го — общий отдых».
6 ноября подняли государственные флаги над домом экспедиции и Полярной станции. Как полагается — вымылись в бане.
«Торжественное собрание в присутствии обоих коллективов прошло очень хорошо. Немного подвыпили ребята. Но все в меру. Я выступил с воспоминаниями, А.А. Лаврентьев произнес торжественную хорошую речь. Слушали трансляцию — речь т. Молотова.
7-го трансляция Красной площади, речи, звуки из центра. Как все величественно! Вечером был у нас банкет. Повар т. Мещанинов все приготовил, как на настоящем банкете. Но все были утомлены вчерашним вечером. Замечаю, что необыденное выводит легко из равновесия и утомляет, если сегодня не похоже на вчера. Я тоже чувствовал
утомление и был несказанно рад, когда в 12 часов все стали расходиться и я мог лечь с книжкой и читать "Наполеона" Тарле и начал с удовольствием читать Ив. Новикова "Пушкин в Михайловском"».
На следующий день, 8 ноября, была получена срочная радиограмма из Горного Управления:
«Горячо поздравляем Ваш коллектив 20-тилетием социалистического Октября. Наряду достижениями Ваш коллектив имеет много крупных недостатков. Прошу всей большевистской решимостью обеспечить немедленное изжитие их, массовый охват всего коллектива соцсоревнованием, ударничеством, конкретными обязательствами, наведением советского порядка экономии Вашем хозяйстве, резким усилением революционной бдительности беспощадно разоблачения врагов народа. Желаю дружной полярной работы. Эглит».
Папа пишет: «Впечатление от этой телеграммы было, как разорвавшаяся бомба». В ответ он послал сдержанную телеграмму с благодарностью коллектива за поздравления, а затем другую с вопросами: имеются или нет замечания по представленному отчету и о каких «крупных недочетах» идет речь? Ответа не последовало. В поздравительной телеграмме Управления слышны отзвуки судебных процессов, которые проходили в то время в стране над «врагами народа». Советских людей нужно было держать в страхе.
5 декабря, опять-таки вместе со всей страной, экспедиция отмечала день Конституции. Неудивительно, что люди были всей душой за декларированную в конституции свободу и справедливость: всеобщие равные и прямые выборы в верховные органы власти, гарантию свободы слова, печати, собраний и митингов, право объединения в общественные организации, неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища и тайны переписки и прочее.
И все это предлагалось одновременно с реализацией репрессий против своего же народа!
«Утром встали позже обыкновенного, в десятом. Выпили по-праздничному какао. Все дружно беседовали. Н.А. Федулов хорошо написал лозунги, а В.П. Левский вместе с А.В. Малаховским хорошо оформили стенгазету "За арктическую слюду" № 2. <...> Мы пообедали с вином. Я сказал речь о Сталинской конституции и выпили за здоровье великого акта и его творца, нашего любимого вождя т. Сталина. Угостились пивом, которое приготовил наш замечательный повар. <...> Я пошел поднять флаг. Вечером на фоне и под аркой полярных сияний так живописно!»
Как 5 декабря, так и 12-го в день выборов в Верховный совет проводили общее собрание, слушали по радио выступление Сталина перед избирателями из Большого театра. «Образно, просто, сильно — какой гений, какая мощь! Так веришь в прекрасное будущее! Как счастливы все, что могут участвовать в выборах — мы мысленно ликуем и мысленно с вами, наши друзья и товарищи и подаем голоса за Великого Сталина!» — писал папа в своем дневнике. Только благодаря тому, что в эти годы он находился в далеком малодоступном районе Арктики, его не постигла участь большинства арестовывавшихся ранее — расстрела. Но тогда этого папа знать не мог.
Зимние празднества завершились встречей нового, 1938 года. Накануне поступила радиограмма от нового руководства горно-геологического управления: «Поздравляю руководителей, инженерно-технический состав и весь коллектив экспедиции Новым годом. Желаю, чтобы 1938 году ваша экспедиция лучше всех работала, перевыполняя план, и дружнее всех жила. Демидов». Теперь совсем другой тон поздравления, чем раньше. Папа ответил в том же бодром духе.
Настроение у всех было хорошее, хотя в такой вечер каждому хотелось бы быть вместе со своими родными. Папа писал:
«Накрыт красиво стол. На нем стоит песочный торт, на котором написано: "С Новым годом". Много яств: осетрина, отварная свинина, ветчина, замечательный студень и пр., пр. Вместо цветов пестрые бутылки вина. В 12 часов, когда перекрестятся стрелки часов, мы поднимем бокалы, и я скажу речь, отмечу замечательные достижения прошлого года: незабываемые дни декабря — выборы в Верховный Совет, достижение полюса, дрейф смелой четверки, перелет Чкалова—Громова, за успехи первого года третьей пятилетки и за вождя нашего товарища Сталина, Великого Сталина! Закончу о его заботе о нас, полярниках и наших дорогих нам семьях! Да, 1937 год был год замечательных достижений. Желаю от всей души, чтобы 1938 год был также прекрасен».
Гипноз пропаганды достигал и берега Харитона Лаптева...
Теперь предстояло готовиться к полевым работам. Папа предложил каждому продумать содержание своей летней работы, затем вместе обсудить их с тем, чтобы в полевых условиях все проходило слаженно и гладко. В конце января папа закончил геологический отчет, прочел его всему коллективу. Для следующей экспедиции 1938—1939 года подготовил материал по продолжению разведывательных работ. Он считал целесообразным передачу дел экспедиции из рук в руки. Для этого просил
ГГУ прислать заранее руководителя будущей экспедиции. Но его просьба не была услышана.
Техника и снаряжение также требовали подготовки и наладки. Нужна была большая палатка для работы на Бирули. Надеялись воспользоваться палаткой, оставшейся на мысе Тилло, на базе № 2. Кузнецов поехал за нею, но палатка оказалась разорванной в клочья медведем. Там был поставлен самострел, но он не выстрелил. Решили сконструировать новую палатку, изготовить складной каркас и обтянуть его брезентом, полученным с «Утки». Сделали палатку размером 6x2,5 метра и высотой в 1,8 метра.
Заканчивалась монтировка компрессора, изготовленного механиками для ведения горных работ, и проверка остального оборудования. Бубновский и Абакумов изготовили железные печурки для обогрева. Шитье обуви и одежды — также ответственное дело. Им занимались двое рабочих, шили пимы из шкур нерпы, малицы из шкур оленей. На производственном собрании обсуждали количество груза, необходимое для переброски в залив Бирули. Решили создать три промежуточные базы с пятидневным запасом продуктов и кормом для собак. Распределили ответственных за каждую операцию.
Не раз приходилось папе сталкиваться с несовместимостью некоторых людей, учитывать, кто с кем ладит. Папе казалось недопустимым противостояние друг другу: «Резкости я молча в мучениях переживаю. Никак не могу мириться с тем, что люди могут недобросовестно относиться к своим обязанностям». И далее:
«Подлец тот человек, который не думает о своих товарищах по работе. Трудно выковать честный кадр экспедиционных работников. <...> Да, горько, горько от таких людей, не по совести мыслящих и работающих. <…>
Я был рад тому, что ко мне назначен комсомолец, что он будет во всех делах моим лучшим, образцовым стахановцем, моей душой, будет кипеть в работе, но, увы, я очень разочаровался. <...> Редко увидишь, что кто-либо охотно работает, а все нужно подгонять. К обеду все весело и быстро собираются. Мое горе, что нужно все понукать и толкать на работу».
В 1930-е годы в жизнь вошла новая генерация людей, для которых труд не был естественной потребностью. Это для них был брошен лозунг: «Труд есть дело чести, доблести и геройства».
В ответ на требования папы к некоторым сотрудникам, позволявшим себе отлынивать от работы и дерзить, в начале 1938 года он слышал весьма недвусмысленные намеки с угрозами типа: «Мы знаем, кто Вы такой... У нас
есть против Вас материалы... Мы с Вами поговорим еще в другом месте» и тому подобное. Папа называл это гнусностью. Вместе с парторгом А.А. Лаврентьевым они выводили говоривших так на чистую воду.
Папу угнетало, что некоторые ученые, к которым он обращался с научными вопросами, не отвечали ему. «Неужели боятся со мной вести переписку? Многие знают, что с меня судимость снята, а все же думают — опальный! Какое малодушие — ведь я запрашиваю для успеха дела!»
В январе, к 28-летию памятного дня — свадьбы, папа послал Нике радиограмму:
«Прошу тебя моя родная 10 января утром постели мамочки поставить букет или горшочек белых цветов или возможно нарциссы купи также торт вечером этого или ближайшего дня всем домом пойдите оперу перевожу тебе этой цели сто рублей целуя мамочку скажи пожелания твои высказанные папочке 20 лет тому назад ни расстояние, ни температура Арктики на время зимовок не влияет сообщи как выполнила мои поручения мысленно мои любимые голубки неизменно вами»23.
Из цветочного магазина была доставлена корзина с белой комнатной сиренью. Она благоухала и долго доставляла радость всем. А слова, сказанные мамой 20 лет назад, о которых упоминает папа, были:
«"Павленька, это понятно, что ты сейчас меня любишь. Я молода и ты тоже, мы здоровы и сильны — готовы к жизненной совместной борьбе, но радостно было бы мне сознавать, что любовь твоя с годами не будет угасать, а все ярче и ярче разгораться и к старости ты будешь еще больше меня любить!" — Поцелуем любви было обещание закреплено!»
В письме ко мне папа пишет, подобно пушкинскому Кочубею: «У меня было три клада: первый клад <...> моя нежно любимая лебедушка, наша мамочка, второй клад — это вы, мои горячо любимые дети, третий клад — это наука. Последний клад взяло у меня ГПУ — разбилось третье счастье — вывели меня из Академии, не знаю, со снятием судимости могу ли я опять вернуться в Геологический институт? Второй и первый всегда у меня перед глазами». (Это фотографии.) И далее: «Все же мечтаю найти тихую пристань и работать над геологией Арктики... Думается, должна же фортуна мне опять улыбнуться и ввести меня в рельсы научной работы — созидательной творческой работы после восьми лет скитаний в Арктике».
23 Отсутствие знаков препинания, союзов, предлогов обычно в радиограммах.
Задумав подарить Люсе часы и велосипед, папа запросил Мосторг, не может ли магазин выслать в Ленинград по определенному адресу дамские часы и велосипед. Получил положительный ответ, и действительно Люсе доставили и то и другое. В те годы полярники были в моде, желания их исполнялись.
Во время Таймырской экспедиции папа очень тосковал. Он страдал от одиночества, так как среди членов экспедиции и персонала полярной станции не оказалось близких ему людей. За эти два года зимовки папе встретились только два человека, с которыми он мог отвести душу. «Капитан Радзеевский и Махоткин — вот два настоящих хороших товарища, которых я узнал за время моей Таймырской экспедиции», — писал папа. Он с нетерпением ждал писем и телеграмм из дома. Как-то Махоткин ничего ему не привез. «Все больше сходит на нет моя связь не только с миром, но и семьей. Как это грустно!.. Я так хочу жить вместе с вами одной жизнью, одной мечтой, одним стремлением...»
В «Поденных записках» и письмах папы частенько описание дел экспедиции прерываются рассказами о собаках. Привязанность собак к папе скрашивала его одиночество. Он писал:
«Есть у меня своеобразная собака — звать ее Моряк... Она всех кусает и только дружно жила с боцманом судна ("Сибирякова") под его койкой. На суше эта нелюдимая собака всегда держалась в стороне и смотрела с высоких мест вдаль моря. Глаза ее печальны и сама она, по удачному выражению одного из сотрудников, Н.А. Федулова, напоминает неандертальца, а я сравниваю ее с типами опер Вагнера. Ведя отшельнический образ жизни вне собачьего коллектива, она совсем одичала, и ей нечем было питаться. Она похудела, и собаки неоднократно пытались ею поживиться и хотели ее съесть. Но А.В. Малаховский хитростью поймал ее, а я привязал ее своим поясом к дому, где покормил ее. С тех пор она неотступно со мной. Когда я выхожу, то она сейчас же у моих ног, везде и повсюду сопровождает меня. Раз я уехал за 30 километров. Неожиданно эта собака появилась из тьмы полярной ночи и снега, но не узнала меня, так как я был в малице. Поймать ее могли только тогда, когда она попала в песцовый капкан. Привязал ее к упряжке мой каюр и взялся учить. Что это было за ученье... Собаки бежали, а эта, бедная, змейкой вилась то на спине, то на животе и все ужасный хорей висел над спиной, опускаясь время от времени на бедную жертву. Ученье продолжалось полчаса, наконец, собака поняла и побежала. Но как она побежала, перетягивая и обгоняя других. Так дается наука собакам!
Теперь эта собака мой верный и единственный друг. Ее карие глаза так печальны и так глубоко впадают в душу — всегда смотрят прямо в мои глаза. Взгляд собаки грустный, задумчивый и скорбный, она не знает резвости собачьей. Это первое живое существо, которое, я чувствую, глубоко ко мне привязалось и полюбило меня, и я плачу ей тем же и мы всегда ходим вместе — здесь есть какое-то родство души! Человечьей и собачьей!»
Будучи на летних работах у массива Тилло, папа переживал потерю собаки по кличке Зорька:
«Г.М. Кузнецов передал мне печальную весть: моя любимица Зорька умчалась с Цыганом вдаль. Цыган вернулся, а Зорьки уже дней 7—8 как нет — поглотили, видно, ее неведомые дали! Жаль мне ужасно, она лучшая собака упряжки и лучшая производительница! Без нее сиротливо, как-то грустно». Спустя несколько дней папа пишет: «День большой радости, только что передали по радио, что <...> Зорька, моя любимица, объявилась на Стерлегова. Я ее оплакивал форменным образом, конечно, без слез. Так долго блуждала и странствовала она, любительница арктических далей, и, наконец, добралась все же до дома. Передают, что пришла и села на мою шлюпку и не сходит с нее. Какая радость, какой восторг! Теперь можно сказать — она испытанная верная подруга арктической жизни».
Как я уже упоминала, папа много фотографировал и в маршрутах, и на Стерлегова. К 8 Марта сделал снимки единственной женщины на зимовке (жены рабочего Полярной станции), собрал их в альбом и подарил ей от коллектива экспедиции. У папы есть фото собачьих упряжек, снятых в пути. Вдали виднеется Кузнецов на своей упряжке, а на переднем плане девять собак, тянущих нарты, с которых папа и снимает бегущих собак. Ему очень нравился этот снимок, как передающий мерный бег собачьих лапок и беспредельную снежную даль Арктики. Во время войны, когда папа обследовал месторождение угля на Воркуте, он познакомился с художником Александром Степановичем Кузнецовым, отбывавшим срок в лагере, и хотел заказать по этой фотографии картину. Сделать это не удалось, но две другие картины маслом Александр Степанович написал для папы по фотографиям. Первая — одинокий домик экспедиции среди беспредельных снегов при первом луче солнца в полярную ночь, вторая — тот же пейзаж, но ночью, под куполом полярного сияния. На обеих картинах дом, до крыши занесенный снегом, собачник, беспредельная даль. На них нет, однако, находившегося поблизости дома Полярной станции, бани и прочих построек. Папе хотелось, чтобы картины передали чувство одиночества, заброшенности, которое владело им в эти годы.
Однажды папе случилось сниматься на киноленту. Как-то с Фарихом прилетели на Стерлегова какие-то важные люди, среди них кинооператор. Они пожелали снять сцену ожидания полярниками самолета. Предложили разыграть этот сюжет по придуманному сценарию, далекому от реальности — с волнениями, суетой, паникой среди собак и тому подобное. К сожалению, впоследствии этот небольшой фильм пропал.
Кончилась полярная ночь. 12 марта к всеобщей радости прилетел Махоткин. С ним вернулся и Стащенко. Получили первый привет с Большой земли — письма, фотографии родных и близких. Наступило время выезда на работы в залив Бирули. Махоткин обнадежил, что со вторым рейсом перебросит экспедицию к месту работ. Но в полете к мысу Челюскин его самолет получил повреждение, и Авиауправление Главсевморпути отказалось помочь экспедиции в доставке в район залива Бирули. Предстояло перебираться своими силами.
25 марта папа закончил подготовку материалов для экспедиции 1938—1939 годов, запросил Морской отдел, когда намечен выход парохода и какого именно, чтобы подготовиться к смене. Весна 1938 года отличалась частыми продолжительными метелями, достигающими порой скорости ветра 40 метров в секунду. Для папы эта весна была очень трудной в связи с возникшим напряжением в коллективе. Его внесли два человека — Федулов и Левский. Федулов — психической неуравновешенностью, отказом от работы, Левский — раздражительностью и враждебностью, возможно, происходивших вследствие базедовой болезни. Оказалось, он в свое время избежал осмотра врачебной комиссии. Чтобы понять Левского, папа специально читал брошюру об этой болезни, которую предложил ему Лаврентьев. С Левским никто не хотел работать. Вторая трудность — опять отсутствие корма для собак. Во время бега они быстро теряли в весе, уставали, им недоставало сил. Кузнецову и Ершову редко удавалось найти медведя, а в апреле пришло распоряжение, вообще запрещающее охоту на медведей. Папа запросил Горное управление о необходимости получения исключительного права для экспедиции, так как иначе сорвутся летние полевые работы, мясо медведей — единственное полноценное питание для ездовых собак.
После тщательных подсчетов потребностей экспедиции при горных работах и разведке на Бирули выяснилось, что понадобится трижды на трех упряжках перевозить грузы. Кроме того, нужно было отправить продовольствие минимум на три месяца для двух отрядов, работающих на севере и юге бухты Бирули. 28 марта снарядили Ъ упряжки с продуктами. Вернулись они 1 апреля. Повар Мещанинов, управлявший третьей нартой, зашиб
себе ногу и вынужден был лечь в постель. Опять дежурство по кухне пришлось вести каждому члену экспедиции в порядке очереди.
Заготовленные осенью дрова кончились. Принялись собирать плавник, извлекая его из-под снега и льда, бревна превращать в дрова. Подготовка в дорогу заключалась не только в сборах, но и в приведении в порядок помещения экспедиции, мытье полов, уборки в собачнике. В это время сообщили из Горного управления, что продолжения работ экспедиции в следующем году не будет.
В конце марта прилетел Махоткин, но ничего и никого из экспедиции не взял. 7 апреля на трех упряжках выехали к заливу Бирули рабочие Ершов, Абакумов и Кузнецов, нагрузив нарты продовольствием и горным оборудованием. Вернулись они 16 апреля. Собаки были в очень плохом состоянии. Машку пришлось с мыса Каминского везти на нартах. У другого пса по кличке Потапыч настолько ослабли задние ноги, что он не мог ходить.
Наступил май, первая партия в составе коллектора Малаховского, топографа Федулова и лекпома Лаврентьева, теперь выполнявшего в экспедиции по совместительству разные вспомогательные работы, выехали на двух упряжках к заливу Бирули. 10 мая папа со Стащенко и Кузнецовым выехали на остров Геркулес. Вот запись из дневника:
«Собрался осуществить свое давнишное желание и посетить остров Геркулес — место первого акта трагической гибели В.А. Русанова24. Здесь стоит знак с надписью "Геркулес 1913". Этот знак, говорил мне Н.Н. Алексеев — начальник экспедиции на "Торосе", он хотел снять и доставить в Арктический музей в Ленинграде. В поездке кроме Г.М. Кузнецова принял участие А.А. Стащенко. Попутно мечталось, что попадется зверь, чтобы облегчить нам предстоящую поездку на Бирули.
Поехали мы на двух упряжках в первом часу. Продовольствие и корм собакам взяли на четыре дня. Курс взяли на остров Мона. Вскоре видимость стала ухудшаться, слегка мело,' был поземок. Часов в 5 стало плохо видно, и очень мешали торосы. На торосах, толщиной 25—35 см видны были песчаные проморозки, что указывает на прибрежное образование. В 7 часов остановились из-за плохой видимости
24 Экспедиция Владимира Александровича Русанова на судне «Геркулес» пропала без вести в Карском море (1913). «Первый акт трагедии...» — здесь имеется в виду первое вещественное доказательство зимовки у этого острова судна «Геркулес». Второе вещественное доказательство гибели было обнаружено между о. Белым и Ю. Шаром в 1919 (останки судна типа «Геркулес»). См.: Белов М.И. По следам полярных экспедиций. Л., 1977. С. 31—32.
и разбили в торосах палатку. Ветер усиливался. Покормили собак, сварили себе еду: 2 банки консервов с приложением вермишели и масла, да чай с сухарями. Легли рано, место для спанья очень неудобное — неровное ложе. Удивительно, что среди торосов снег совершенно сыпуч и ноги проваливаются до основания.
И.У. Ветер стих, хотя видимость плохая, но со всею очевидностью перед нами обрисовался остров. Оказывается, торосы правильно онгламезировали близость земли. Мы поехали прямо на остров, который состоит из серого гранита — это остров Кравкова. С острова видны другие острова. Г.М. Кузнецов правильно предположил наличие в 8—10 км другого острова, который он принимал за остров Геркулес. Поехали опять через невыносимо труднопроходимую зону торос, высотой до 2—3 метров. Но главное рыхлый снег между глыбами не дает возможности передвигаться. Увидел след Кузнецов, решил — это проехал Ершов на 9 собаках. Это правильно: он тоже ищет зверя.
За полосой торосов чистое ледяное поле. Вообще весь горизонт в сторону Карского моря не был торосистым. Под самым островом опять торосы. Знак триангуляционный упал — Русанова знак нагнулся на 75°, на верхушке следы недавнего посещения медведя, щепки еще лежали на снегу, но следа не было видно. По изглоданной верхушке видно, что медведь нередко прикладывался к этому загадочному памятнику. Под камнями не было найдено ни банки, ни записки, которая могла бы расшифровать судьбу экспедиции. На знаке еще имеются инициалы "П.В." — может быть Попов — боцман экспедиции.
Я все сфотографировал, знак снял, поставил новый высотой в 3 метра и вырезал на доске: "Геркулес 1913. Виттенбург, Стащенко, Кузнецов. 1938,12/V". Тот знак, как поставил Русанов, ставится обычно на месте зимовки судов. Остров состоит из того же серого гранита. Вечером повернули обратно с тем, чтобы заночевать в торосах».
Знак экспедиции В.А. Русанова папа переправил на пароход, затем доставили его в Ленинград. Люсе было поручено получить его на товарной станции Московского вокзала и отвезти в музей Арктики. Люсе приходилось по пути следования объяснять любопытствующим, что это за выщербленная доска и почему ее так бережно везут.
Папина запись дала возможность Комсомольско-молодежной экспедиции, организованной газетой «Комсомольская правда» под начальством Д. Шпаро летом 1977 года, обнаружить место, где стоял столб экспедиции Русакова, судна «Геркулес». Они сфотографировали столб,
поставленный папиной экспедицией (это фото Д. Шпаро прислал мне) и поблизости на бугре водрузили свой шестиметровый столб, также из плавника. В него врезали бронзовую плиту с надписью: «Полярному исследователю В.А. Русанову, капитану А.С. Кучину, экипажу судна "Геркулес". Потомки помнят. Министерство Морского флота СССР, редакция газеты "Комсомольская правда ", 1977»25.
Едва окончилась очередная вьюга, папа, Стащенко и Кузнецов 16 мая выехали к заливу Бирули. В течение летнего периода работ папа вел записи только в полевом дневнике. Как и все полевые дневники этой экспедиции, он, скорее всего, находится в архиве Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики, так как в конце 1938 года экспедиция была передана в ведение этого института, и камеральная обработка материалов проводилась там же.
Летние работы экспедиция закончила 13 августа. К 20 августа вернулись на Стерлегова. Последняя запись «Поденных записок»:
«20.VIII. На п/х "Пушкин" приехал инспектор Полит-Управления тов. Беляков. Просил сделать доклад об итогах работ экспедиции. Доложил с демонстрацией карт и полезн. ископаемых: слюды, граната, ставролита, берилла и пирита. Очень хвалил за выполненную работу, говорил, что ГУСМП отметит работу — посмотрим, каково будет дело в Москве? Конечно, работа проведена хорошо и дружно всем коллективом в целом. Результаты тоже хорошие.
Что-то нет ответа от Начмора Шевелева на мой вчерашний запрос, кто нас снимет. Нет особенного ветра, но накатная волна очень большая. Пена клочьями на 30—50 м покрывает берег моря — море ревет. П/х "Пушкин" отошел от нашего берега и отстаивается под островом Ригнеса».
Вскоре «Пушкин» ушел.
Экспедиция погрузилась на другой пароход — «Сталинград». Пароход производил замену зимовщиков на полярных станциях и только 13 октября экспедиция в полном составе наконец прибыла в Архангельск. 20 октября папа был уже в Москве с отчетом в Главсевморпути.
За время работ экспедиция произвела исследования на площади 40000 квадратных километров по берегу Харитона Лаптева от острова Колосовых до острова Таймыр в его юго-восточной части, а также в долине реки Ленивой на 40—50 км вглубь материка. Разведала около 120 пегматитовых жил, закартировав их.
25 Шпаро Д., Шумилов А. Путь, прочерченный пунктиром // Вокруг света. 1977. № 12. С. 6.
«В пегматитах были обнаружены следующие минералы: берилл, турмалин, монацит, апатит, гранат, дистен, топаз и другие. Техническими анализами было установлено, что некоторые пробы Таймырской слюды превышают слюду Майского района, а по качеству Таймырская слюда не уступает слюдам восточносибирских месторождений. Преимущество Таймырского месторождения заключается в том, что параллельно с добычей слюды возможна комплексная добыча берилла и высококачественного полевого шпата, которая оправдывает себя, поскольку месторождение расположено на берегу моря. Южнее мыса Стерлегова было обнаружено значительное месторождение сернистого колчедана — пирита»26.
На техническом совещании горно-геологического управления 22 октября 1938 года папа делал доклад. После обсуждения было вынесено постановление, в котором отмечалось, что работы в заливе Бирули и в районе реки Ленивой, также на побережье мыса Стерлегова должны быть продолжены. «Совещание отмечает, что район залива Бирули является основным районом дальнейших разведочных работ и в первую очередь по степени важности открытых месторождений»27. Папе и Левскому было поручено в трехдневный срок представить программы и сметы работ экспедиции на 1939—1940 год.
Но в следующем году геологические работы так и не проводились. Позже на мысе Стерлегова был установлен деревянный знак в память работы папиной экспедиции 1936—1938 годов. В книге М.И. Белова «По следам полярных экспедиций» в главе «Список памятных знаков и памятников освоения Советской Арктики»28 читаем: «Памятная деревянная доска (толстая) экспедиции Арктического института 1936—1938 гг. на мысе Стерлегова. На доске надпись: "Геологическая экспедиция ААНИИ 1936—1938 гг. во главе с П.В. Виттенбургом"».
Глава VII В Ленинграде и Киеве С Советской властью не соскучишься 1936–1940
Глава VII
В Ленинграде и Киеве. «С Советской властью не соскучишься!»
1936-1940
В то время, когда папа искал залежи полезных ископаемых среди безграничных арктических далей, наша семья в Ленинграде в полной мере ощущала несоответствие реальной жизни и всего того, что мы слышали и видели вокруг. Всеми любимая «Песнь о Родине» утверждала мысль о человеке-хозяине «необъятной родины своей», но нам-то было хорошо известно, что именно в эти годы миллионы людей, якобы хозяев своей страны, оказались в положении беззащитных рабов карательной машины государства. Система репрессий была разработана в совершенстве и за многие годы доведена до автоматизма — в этом мы и наши ближайшие родственники могли убедиться на собственном опыте.
Массированный напор коммунистической пропаганды обрушивался на нас, в частности в виде популярных песен-маршей: «Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте! На битву шагайте, шагайте, шагайте! Проверьте прицел, заряжайте ружье — на бой, пролетарий, за дело свое!» — это Коминтерн. Или «...От Москвы до британских морей Красная армия всех сильней», припев: « Так пусть же Красная вздымает властно своей мозолистой рукой, и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой!» Или: «Слышишь, товарищ, война началася, бросай свое дело, в поход собирайся!» Припев: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это!» А марш Буденного кончался словами: «Веди ж, Буденный, нас смелее в бой! Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, мы беззаветные герои все и вся-то наша жизнь да есть борьба!» Все в бой, все на смерть, а кто же жить будет? Немного позже зазвучал «Марш
энтузиастов»: «Нет нам преград ни в море, ни на суше...» (Как раз в это время Владимирскую дорогу, каторжную Владимирку, переименовали в Шоссе Энтузиастов.)
И вместе с тем, как мы горланили эти песни на демонстрациях 1 Мая и 7 ноября!!! Ходили, конечно, все. Ника и Люся со своими институтами, мама с Выборгским районом и я с ней. Этот район как рабочий шел в колонне, самой близкой к трибуне, требовалось, чтобы демонстранты шли в ногу четкими рядами. Мне это очень нравилось. Потом стали ходить кое-как. Тогда невозможно было представить, чтобы участие в демонстрации компенсировалось бы выходными днями или деньгами, как стало позже.
Сталинская конституция 1936 года декларировала все возможные свободы, а они оказались фикцией. Вся атмосфера жизни была пронизана страхом перед карательными органами. Один за другим следовали судебные процессы над право-левацкими уклонистами, троцкистско-бухаринскими и прочими «врагами родины». Для многих было очевидно, что идут аресты лояльных, ни в чем не повинных людей, считалось, что это ошибка, вредительство руководства НКВД, потому что не может быть, чтобы со стороны ЦК ВКП(б) и «вождя народов» Сталина проводилось такое плановое, заранее предусмотренное истребление своего народа. Казалось, этого просто не может быть!
Для нагнетания политической истерии годились даже школьные тетради! В графических рисунках на обложках были усмотрены зашифрованные антисоветские призывы. А поскольку они были отпечатаны на фабрике имени А.С. Бубнова, к этому времени уже разоблаченного «врага народа», то мне, как и каждому школьнику, пришлось проявить бдительность и зачернить вражеское имя на своих тетрадках. Расцвело доносительство. Люсю вызвали в новый построенный заключенными Большой дом на Литейном, 4, и потребовали от нее патриотического поступка — стать секретным осведомителем, доносчиком. За отказ угрожали неприятностями в институте. Люся категорически отвергла предложение, но какого напряжения сил это ей стоило! Из наших знакомых, как мне известно, приглашали сотрудничать с НКВД и Шуру Алешко. Он тоже как-то отвертелся.
Борьба с врагами была одной стороной деятельности государства, другой же — организация всеобщего ликования по поводу победы социализма в одной стране, расцвета благосостояния и культуры. Лозунги партии: «Жить стало лучше, жить стало веселее!», «Все для блага человека!», «Кадры решают все!» — вызывали среди наших знакомых сомнения, а уж «Незаменимых людей нет!» звучало заведомой ложью. Мама, всегда интересовавшаяся политикой, не сочувствовала, конечно, линии партии, но старалась найти в ней
смысл. А мы, дети, по молодости и легкомыслию не задумывались глубоко, посмеивались все вместе над нелепыми лозунгами, иронизировали и всерьез их не принимали. Из наших близких знакомых в то время только одна Тамара Александровна откровенно осуждала советскую власть и считала ее большим бедствием для страны.
В те годы индивидуальной подписки на газеты не было, и в киосках их не продавали. Мама всегда читала газеты на уличных стендах, даже большие статьи, посвященные политическим «разоблачениям». Бывало так, что из-за сильного ветра или мороза набежит на глаза слеза, не дай Бог, чтобы рядом стоящий человек это заметил: он мог оказаться осведомителем, и тогда НКВД обвинит в сочувствии к врагам народа и примет соответствующие меры. Однажды рядом с мамой читала газету старушка. Она вполголоса заметила: «С Советской властью не соскучишься!»
В 1930-е годы были введены подробные анкеты для поступающих на работу или учебу, которые сразу же стали предметом тщательного изучения компетентными органами. Они содержали до 32 пунктов, по которым нужно было изложить сведения о себе, своем социальном происхождении, партийности (в том числе и до Октябрьской революции), знании иностранных языков, пребывании за границей и на какие средства, а также социальное происхождение родителей и их занятия, перечень родственников и чем они занимаются, семейное положение, социальное происхождение жены (мужа), наличие у них родственников за границей, причину выезда и тому подобное. Помимо анкеты требовалась подробная автобиография. Поскольку очень часто возникали обстоятельства, при которых приходилось заполнять анкеты и писать автобиографии, то мы всегда оставляли себе черновики, чтобы не сбиться в очередной раз.
Мама по возвращении из Архангельска была опять принята на работу в 7-ю детскую поликлинику. Кроме должности старшего школьного врача Выборгского района ей было поручено заместительство главного врача поликлиники Екатерины Григорьевны Быстровой. Мама любила свою работу, ей нравилось иметь дело с детьми рабочих — в те годы Выборгский район практически оставался рабочим. По вечерам она продолжала дежурить в доме культуры в качестве врача и по совместительству оставалась врачом детского сада в Бабурином переулке. По профсоюзной линии ее неоднократно избирали председателем производственного сектора месткома и заведующей научной медицинской библиотекой. Мама, по-прежнему рано уходила из дома и возвращалась поздно. Она часто получала благодарности и премии за хорошую работу, за отлично проведенную летнюю оздоровительную кампанию детей Выборгского района, за успешную борьбу
с эпидемией гриппа, за чуткое и внимательное отношение к детям. За эти годы мама трижды проходила курс повышения квалификации в Сантехническом институте, в институте усовершенствования врачей и при детской больнице имени Филатова.
Мама настолько привыкла к напряженной жизни, что не могла остановиться и дома. Если выдавалась свободная минута — садилась поиграть на рояле или разложить пасьянс (мы тут же тайно загадывали желания: выйдет — не выйдет).
В 1930-е годы в Ленинграде еще не исчез институт домработниц. Мама, обеспокоенная нашим питанием, нашла женщину, которая взялась стряпать обед. Излюбленным ее занятием было печь блины, чем она по преимуществу и занималась. Жила она в квартире по нашей же черной лестнице.
Ника оставалась жить на Ораниенбаумской улице с матерью уехавшего мужа — Екатериной Михайловной Лежоевой. Часто приходила к нам с Танечкой. К этому времени Ника сильно похудела, свою и без того стройную фигуру затягивала в какую-то чрезвычайно узкую грацию и надевала туфли, наверное, на номер меньше необходимого. Придя домой, то и другое с облегчением скидывала. Все над ней смеялись, но она стойко держалась — красота требует жертв.
Люся успешно училась в институте имени Герцена. В те годы была хорошо организована спортивная работа среди молодежи. Называлась она тогда физкультурой. Люся, длинноногая и стройная, с удовольствием сдавала нормы на значок ГТО: бег, стрельба, плавание, прыжки, играла в волейбольной команде института. Однажды получила премию — путевку на Кавказ. С туристской группой прошла по Военно-Сухумской дороге, побывала в Домбае и загорала на Сухумском пляже. Скоро кончились деньги, пришлось в ожидании перевода ночевать в саду на скамейке. О своем путешествии она так красочно рассказывала, что мне казалось, и я там была. Получив из Мосторга папин подарок — велосипед, они с Никой вечерами катались по городу и дальше, на Лахту.
В начале лета хотелось быть уже загорелыми. На единственный в городе пляж у Петропавловской крепости в выходные дни отправлялись и мы. Помню пляж, кишащий обнаженными телами — песка не видно. Подвинем чьи-то ноги, попросим других головы отодвинуть, вот и разгребли себе место. Одна молодежь. Всем весело, все смеются. У кого-то из соседей с собой граммофон, льется музыка. Впервые услышали там неаполитанскую песню «Скажите, девушки...» Что значит молодость — все легко и беззаботно!
В 1937 году широко отмечалось 100-летие со дня гибели Пушкина. Подготовка к этой дате началась заранее. Издавалось полное академическое собрание сочинений Пушкина, отдельные исследования, художественные
произведения современных авторов (Юрия Тынянова, Леонида Гросмана и других), готовилась всесоюзная выставка, посвященная Пушкину, из экспонатов, находившихся в разных музеях страны и у частных лиц. В дальнейшем эта выставка составила Всесоюзный музей Пушкина. Все это создавало атмосферу почитания Пушкина, наше восприятие жизни было пронизано пушкинскими идеями. Смерть Пушкина сто лет тому назад 29 января (по старому стилю) в 1937 году переживалась нами, как личное горе, тому способствовали и радиопередачи. Ленинградский радиокомитет много делал для просвещения горожан. Через черные тарелки репродукторов, которые были в каждой семье, слушали содержательные литературные передачи, мастера художественного слова (так назывались артисты-чтецы) исполняли произведения Пушкина, звучали оперы с пояснением музыки. Вообще, по радио в те годы шло много художественных программ. Как интересен был подробный разбор симфоний Бетховена, Чайковского и других композиторов. Сперва объясняли и исполняли части симфонии, а потом звучала она целиком. Мы старались не пропускать эти передачи.
В школе № 2 на Карповке, семилетке, где я училась, была прекрасная учительница литературы. На ее уроках, посвященных писателям XIX века и литературной критике той поры, персонажи являлись живыми людьми, мотивы их поступков разбирались нами с большим интересом под ее тактичным руководством. Будучи пионеркой — а в те годы пионерами должны были быть все, — я имела поручение просвещать в качестве вожатой октябрят — учеников начальных классов. В связи с пушкинскими днями я тоже рассказывала им о Пушкине. Что касается моего собственного увлечения литературой, то оно никак, к сожалению, не способствовало моей грамотности. То же касалось и Ники. Ника к этому времени поступила учиться в институт Коммунального строительства (ЛИКС). Она хотела стать инженером. В школе, когда она училась, постоянно менялись программы и методы обучения, ей не удалось освоить грамматику русского языка, а может быть, у нее, как и у меня, отсутствовало чутье и способность к правописанию. Во всяком случае, мы обе делали много орфографических ошибок. Мама нашла учительницу, старушку, которая взялась нас научить писать грамотно. Мы ходили к ней в старую петербургскую, теперь коммунальную квартиру, заставленную старинной мебелью. Она давала диктовки, проверяла и объясняла ошибки, но научить нас грамотности ей так и не удалось. Мы старались найти этому объяснение. Мол смешанность многонациональной нашей крови — тому причина.
Начали приходить от папы бандероли на мое имя с надписью на обертке: «От зимовщика из Арктики». Письма-дневники читали все вместе и
перечитывали по отдельности. В них была ласка и нежность, папа делился своими размышлениями о жизни. Чувствовалась тоска одинокого человека. Некоторые описания работ экспедиции, природы и нравов собак, с разрешения папы, я передала в редакцию нашей пионерской стенгазеты.
В 1930-е годы в Ленинграде было много интереснейших театральных постановок и прекрасных концертов. Мама всегда знала, что именно нельзя пропустить. Так, в Александрийском театре увидели незабываемую постановку Всеволода Мейерхольда «Маскарад» Лермонтова в декорациях Александра Головина с Юрием Михайловичем Юрьевым в роли Арбенина и Евгенией Михайловной Вольф-Израель в роли Нины. Весь спектакль был единым художественным целым. Имя Мейерхольда в афише уже не упоминалось1.
МХАТ привез недавно поставленную инсценировку «Анны Карениной» с Аллой Тарасовой, Николаем Хмелевым и Марком Прудкиным, «Три сестры» Чехова с Ангелиной Степановой, Клавдией Еланской и Аллой Тарасовой. Критиками мы были чрезвычайно строгими: Анна в исполнении Тарасовой нам показалась скорее буржуазной женщиной, чем аристократической, Вронский недостаточно элегантным, зато Каренин-Хмелев полностью соответствовал нашему представлению. В театре имени Ленинского комсомола шел замечательный спектакль с Владимиром Чесноковым в заглавной роли — пьеса Ростана «Сирано де Бержерак».
Тогда же мы начали увлекаться Филармонией. Остался в памяти первый концерт, на котором мы были с папой, после его возвращения с Вайгача. Исполнялась тогда любимая папой 5-я симфония Бетховена, под управлением Отто Клемперера. Систематическому посещению концертов начало положила Люся, она как-то купила билеты на концерт тогда неизвестного нам скрипача Мирона Полякина. Восхищение его исполнением побудило нас внимательно читать афиши и не пропускать его концерты. Однажды Полякин исполнял Чакону Баха, написанную для скрипки соло. Папа был поражен полифоническим звучанием инструмента, не верилось, что скрипач играет один. Исполнение Полякина незабываемо, драматичность его игры остается в памяти души (если так можно выразиться). То же следует сказать и о концертах Владимира Софроницкого. Входные билеты на хоры были совсем дешевы, а лучших мест и не надо было. В те годы была заметна продуманность построения программ концертов, составлявших циклы, посвященные исполнению музыки выдающихся композиторов мира. Так, Бетховенский цикл составляли все девять симфоний, десять
1 Всеволод Эмильевич Мейерхольд к тому времени был уже арестован.
скрипичных сонат, пять фортепианных концертов, фортепианные сонаты, увертюры, опера в концертном исполнении. Исполнители — зарубежные и наши лучшие музыканты. Скрипичные сонаты исполняли Мирон Полякин и Генрих Нейгауз, Давид Ойстрах и Лев Оборин.
Незабываемый концерт — исполнение Евгением Мравинским 5-й симфонии Дмитрия Шостаковича после получения им первой премии на Всесоюзном конкурсе дирижеров. Исполнение было таким вдохновенным, что слушатели бурно выражали свой восторг, а мы с Люсей после концерта, переполненные впечатлениями, отправились пешком домой. На симфонических концертах обычно бывала одна и та же публика. Часто в артистической ложе видели Галину Уланову в сопровождении пианиста Александра Даниловича Каменского и профессора Ивана Ивановича Соллертинского. Выделялся своим артистическим видом Иван Васильевич Ершов, исполнитель теноровых партий в операх Вагнера. И.И. Соллертинский в то время ввел новшество: перед началом концерта он выходил на эстраду и увлекательно, как только умел он один, рассказывал о композиторах и исполняемых произведениях.
Вообще в эти годы Иван Иванович Соллертинский увлекал и завораживал молодежь своими публичными лекциями о творчестве композиторов и писателей прошлого. Благодаря его эмоциональному живому рассказу слушатели переносились в другую эпоху, становясь современниками тех давних событий. Мы старались не пропускать его лекций.
В Филармонии бывали и вечера балета. Помню прекрасные пары: Татьяна Вечеслова и Вахтанг Чабукиани, Галина Уланова и Константин Сергеев, а также балерин: Ольгу Иордан, Нину Анисимову. Эти вечера были большим праздником балета. Без декораций концертные номера на музыку Шопена, Листа, Грига являлись маленькими драматическими сценами.
Там же устраивались вечера художественного чтения, иногда с мелодекламацией. Мастера художественного слова — это была самостоятельная артистическая специальность, не связанная с драматическим театром, — Антон Шварц, Георгий Артоболевский, Владимир Яхонтов, Дмитрий Журавлев собирали полный зал слушателей.
Потрясающим было концертное исполнение драмы Ибсена «Пер Гюнт» в сопровождении музыки Грига. Эту постановку привез из Москвы ее автор Александр Глумов, исполнявший роль Пера Гюнта. Текст Ибсена перемежался пением и музыкой. После окончания зал застыл... Только спустя несколько минут раздались горячие аплодисменты. Нам с хоров был виден оркестр. Мы заметили, что концертмейстер вторых скрипок Лукашевский не удержал слез. Потом «Пер Гюнт» исполнялся другими артистами, но уже не с тем вдохновением.
После возвращения с Вайгача мне очень хотелось учиться игре на гитаре. Немного я уже умела играть, выступая там в струнном оркестре. Несколько раз мама дарила мне деньги на покупку гитары, но вскоре их тратили на другие нужды. Когда маме случалось найти время поиграть на рояле, то мы с Люсей возобновляли танцы в духе Айседоры Дункан под музыку Шопена, Грига и даже Бетховена. Нас никто не видел, но мы сами получали огромное удовольствие.
Помнится, мы не раз жаловались маме, что у нас нет общества — круга сверстников, с которыми можно было бы встречаться дома, потанцевать, поиграть в общие игры. Желание наше было естественно, но невыполнимо. Как в одной тесной комнате собрать молодежь, а главное, всякое сборище оказалось бы под прицелом НКВД...
В коммунальной квартире произошли некоторые положительные изменения. Угловая жилица коридора Клавдия Боломотова получила где-то комнату и выехала к всеобщему удовольствию. Коридор стал светлым и более просторным. Наш сосед, Борис Сергеевич Лысенко, обладатель двух комнат, впустил в дальнюю комнату своего друга — капитана. Этот благородный шаг имел роковые последствия для Бориса Сергеевича: капитан переманил его красавицу жену, но они мирно продолжали жить в новом сочетании.
В кухне вместо шумящих примусов у соседки появился керогаз — верх совершенства нагревательного прибора того времени, а мы обзавелись в добавление к примусу керосинкой. С примусом было много хлопот. Постоянно засорялся нипель, тогда примус было никак не накачать, то он фыркал, то неестественно шумел, того и гляди — взорвется. Но с керосинкой обходиться, оказалось, тоже непросто, хотя она горела бесшумно. Керосинка имела свойство разгораться, и тогда из нее летела черная копоть. У нас случалось такое не раз. Поставишь на керосинку что-либо вариться, уйдешь в комнату, а через какое-то время вернешься, и тебя встретит тьма: черные хлопья летают по всей кухне и ровным липким черным слоем опускаются на все столы, кастрюли, полки, пол. Здесь нужно было развить невиданное проворство, чтобы скорее все перемыть, пока не увидели соседи: скандала, увы, справедливого, не избежать. Нам с Люсей не раз приходилось поспешно ликвидировать следы катастроф. Горячей воды в те годы в кранах не было.
Когда уборка благополучно подходила к концу, и становилось ясно, что скандала на этот раз не будет, мы на радостях заканчивали уборку с пением. Массовые песни получались слаженно, но что-либо посложнее требовало разучивания. Поскольку над раковиной стена была выложена кафелем, то по кафельным плиткам я показывала Люсе движение мелодии вверх и вниз. В маленькой комнате при кухне по-прежнему жила Кирилловна. Она была очень терпелива, только иногда отпускала на наш счет ехидные замечания.
Весь наш дом, как и многие дома в Ленинграде, был перенаселен сверх всякой меры. Теснота, скученность в коммунальных квартирах привела к тому, что город заполонили клопы. Никаких химикатов в лавках тогда не бывало, приходилось изготавливать самим. Все авралы по истреблению клопов превращались во временное изгнание их из одной комнаты в другую, из одной квартиры в другую. Даже в моей скрипке поселился клопенок.
И еще было много мышей. Кошек в городе жило мало, бездомных не было видно и вовсе. Когда мы приехали с Вайгача, то в книжном шкафу, который служил для Ники и Люси буфетом, на одной из полок обнаружили мышиное семейство. Со временем мышки стали почти ручными, хотя из шкафа им, конечно, пришлось переселиться в другое убежище. Иногда одна из них забиралась на теплый чайник, который под ватным колпаком оставляли в комнате на столе. Другая мышка проявляла интерес к музыке: когда мама играла на рояле, она появлялась под роялем и слушала.
Летом 1937 года мама нас с Люсей отправила на Украину. Ниже Киева, на высоком берегу Днепра, располагалось большое село Стайки. Там обещали нам сдать комнату. Мама и Ника с Танечкой должны были приехать позже. Купить железнодорожные билеты стоило невероятных усилий. Множество людей хотело куда-то ехать. Около касс выстраивались многодневные очереди. Можно было завести знакомство с кассиршами, но у нас таких знакомств не было. В очередях составляли списки, приходилось несколько раз в сутки сменяя друг друга, отмечаться, чтобы не потерять очередь. Наконец и мы купили билеты.
До Киева доехали вполне комфортабельно, у нас были плацкарты. Когда подъезжали к Киеву, открылся живописный вид на город в свете утренних лучей солнца. Белые соборы, лавра на фоне голубого неба производили праздничный вид, город утопал в зелени. На вокзале нас встретил Володя, сын дяди Вили — высокий красивый молодой человек, студент биологического факультета Киевского университета. Мы приветливо были приняты тетей Ниной, женой папиного брата, Марго и Ирой — нашими двоюродными сестрами. Дядя Виля был на службе. Он руководил строительством акушерско-гинекологической клиники 2-го медицинского института, директором которой состоял. Клиника должна была соответствовать последним требованиям науки и оснащена новейшей аппаратурой.
Нас поселили в отдельном домике, стоявшем в саду, оборудованном специально для гостей. Мы не предполагали оставаться в Киеве долго, но нам предложили такую интересную программу, что отказаться было невозможно. Кроме того, в саду так прекрасно, фруктовые деревья уже приносили плоды, со старого высокого грушевого дерева при малейшем дуновении ветра падали
спелые груши. На кустах зрели ягоды. Все в изобилии, все ароматно, все доступно... Перед открытой террасой главного дома пестрели клумбы с цветами, благоухая по вечерам. Люсе поручили составлять букеты — у нее это хорошо получалось. Однажды нас попросили собрать лепестки роз, чтобы сварить из них варенье. Сердце сжималось, когда приходилось ощипывать цветы, наполняя ароматными лепестками корзинки.
В саду и дома царил порядок. Прислуга была прежняя, что и пять лет тому назад, — монахиня Дуняша, садовник, он же дворник.
Родственный круг дяди Вили увеличился: во флигеле жила Ира с мужем и дочкой Ниночкой. Наши дни состояли из одних удовольствий. Просыпаешься и выходишь в огромный сад, идешь мимо деревьев и цветов на террасу, где подают вкуснейшие яства, как, например, вареники с вишнями и со сметанной подливкой. (Они запомнились на всю жизнь, больше таких никогда есть не приходилось). В определенное время приглашают обедать, а затем и ужинать.
Тетя Нина показывала нам Киев, водила в Ботанический сад, на Владимирскую горку, на кладбище, где похоронена наша бабушка, Мария Ивановна. В один из выходных дней дядя Виля пригласил нас принять участие в пикнике в устье Десны на собственной моторной лодке. Мы были, конечно, в восторге. На довольно большую белую моторную лодку, именовавшуюся «Владимир», поместилось девять человек. Кроме дяди Вилиной семьи, были и их друзья — профессор с женой, прислуга Дуняша и механик — он же водитель. Лодка спокойно шла вверх по Днепру, а потом по Десне мимо красивых зеленых берегов. На корме развевался флаг. День прошел весело. Купались, играли в разные игры. К обеду накрыт был импровизированный стол. Вечером благополучно вернулись домой.
Поскольку Люся с Володей были почти одного возраста, они с удовольствием болтали о разном. Володя в университете ставил опыты по наблюдению за земноводными. Над ним подшучивали, что он скрещивает тритона с нимфой. Люся, чтобы соответствовать общему стилю, стала красить губы (что в дальнейшей жизни никогда больше не делала).
Мы прожили в этом раю десять дней. Пора было ехать в Стайки. На палубе небольшого пароходика пустились вниз по Днепру. Под впечатлением описаний Гоголя, нам представлялся Днепр широкой полноводной рекой, а он оказался сильно обмелевшим, пароход с трудом находил фарватер. Уже в полной темноте причалили к маленькой пристани у края села. Нас никто не встречал. Когда мы назвали адрес будущего нашего жилища, то оказалось, что это дальний конец села. У нас с собой были большие фанерные чемоданы, изготовленные на Вайгаче, портплед и какие-то сумки. Никакого транспорта не было, единственная возможность добраться — нанять лодку.
Большой багаж объяснялся тем, что в то время при поездке на отдых приходилось брать с собой помимо личных вещей еще и постельное белье, кое-какую посуду и в дорогу чайник. Проводники в железнодорожных вагонах тогда чай не предлагали, нужно было самим бежать на остановках со своим чайником за кипятком, который набирали из кранов на вокзалах.
Погрузили все в лодку, уселись и двинулись вниз по течению. Плыли довольно долго, наконец пристали к берегу. Перед нами возвышалась гора, никакого признака жилища, кромешная тьма. Упросили лодочника помочь поднять наверх вещи и найти нужную хату. Перед нашим приездом несколько дней шли проливные дожди, глинистый склон берега, почти отвесный, стал труднопреодолимым. Нагрузив на себя вещи, едва ли не на четвереньках, по скользкой глине поползли наверх. Глубокой ночью постучали в дом. Нас ждали, так как были предупреждены телеграммой.
Молодая черноглазая хозяйка встретила приветливо, показала предназначенные нам две маленькие комнаты с белеными стенами и глиняным полом, покрытым травой. Белая хата с соломенной крышей, где нам предстояло жить, была словно с полотен Куинджи. Но что оказалось ужасным — это отхожее место: оно возвышалось у самого забора, граничившего с улицей. Посетитель тем самым до половины был виден с улицы. Ночью это еще куда ни шло, а днем? Люся упросила хозяйку перенести его в другое место.
Хозяйка, миловидная и живая, ее звали Марусей, вызывала к себе симпатию, скоро мы подружились. Ее муж Степан работал на кирпичном заводе, был тоже молод и хорош собой. По вечерам они любили петь на два голоса украинские народные песни, он басом, она — высоким сопрано. Очень красиво их голоса сходились и расходились. Наверное, заслушивалась вся округа.
После нашего приезда опять с неделю шли проливные дожди. Люсе и мне ничего не оставалось, как валяться на кроватях и читать книги, которые были у нас с собой. Вставали только по приглашению хозяйки к столу. Она, в прошлом, повар, работала раньше на речном флоте и умела очень вкусно, хотя и просто, готовить.
В конце концов, выглянуло солнце, и мы осмотрелись вокруг. Наш домик стоял недалеко от обрыва, внизу течет спокойно Днепр, а за ним раскрываются необозримые дали. Столько воздуха, столько неба... Как-то на рассвете отправились на базар. Он был далеко от нас, в другой стороне села. Фрукты, овощи — все в изобилии и все дешево. Глаза разбегаются.
Спустя некоторое время приехали мама и Ника с Танечкой. Вместе мы предприняли поездку на лодке на другой берег Днепра, где соблазнительно белел песчаный пляж, совершенно пустынный, а за ним дубовый лесочек.
Сравнительно недалеко от нас находилась пристань кирпичного завода, там и попросили лодку. Взяли с собой еду и отправились пораньше. Целый день загорали, купались, занимались гимнастическими упражнениями, делали шпагат, мостик, стойку на голове. Мама не потеряла своей гибкости — могла ногой почесать ухо. В молодом дубнячке нашли грибы, на костре вскипятили чайник. С собой взяли фотоаппарат — остались снимки на память. К вечеру собираемся в обратный путь, упустив из виду, что на юге быстро темнеет. Пока догребли до середины реки, стало совсем темно. Откуда-то вдруг появился грузовой колесный пароход, который двигался в непонятном для нас направлении. Он совершал какие-то маневры: то оказывался справа от нашей лодки, то слева. В темноте маленькую весельную лодочку, конечно, было не видно, а нам огромные колеса казались очень страшными. Мы порядочно струхнули, так как не имели возможности ни световым, ни звуковым сигналом дать о себе знать. В конце концов пароход пристал к пристани, а мы благополучно достигли берега.
Кончалось лето. Жаль было уезжать. На прощание сфотографировались с хозяйкой нашего дома в национальных украинских костюмах с венками из цветов.
Обратно путь лежал также через Киев. У мамы опять начиналось рожистое воспаление ноги, сопровождавшееся повышением температуры и плохим самочувствием. Поэтому в Киеве не задержались. Сохранилась общая фотография всех домочадцев вместе с нами на крыльце террасы главного дома. Хорошо помню прощание на Киевском вокзале. Провожали и тетя Нина, и дядя Виля. На перроне желали друг другу всего самого лучшего. Казалось, так оно и будет, но мне стало нестерпимо грустно, какая-то тоска овладела мной. Оказалось, не напрасно.
В марте 1938 года дядю арестовали, предъявив ему обвинение в контрреволюционной деятельности: шпионаже, диверсиях, организации штурмовых отрядов. Следствие велось в продолжение двух с половиной лет, политические обвинения менялись, так как он все категорически отрицал, а свидетелей не находилось. Унизительные допросы, угрозы и издевательства не сломали дядю Вилю, пока не пригрозили расправой с семьей. Тут дядя подписал нелепые обвинения. Тогда от него потребовали еще признания во вредительстве по отношению к своим больным. Этого кощунства он вынести не мог и в отчаянии попытался покончить с собой. Дело отправили в Москву. Там оно залежалось среди других многих дел. В сентябре, 1940 года постановлением Особого совещания при НКВД СССР ему дали срок 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Как выяснилось из
справки, полученной им по окончании срока, никакой статьи Уголовного кодекса в его деле не было указано2.
В самом начале следствия тетю Нину и Володю выселили из дома. Дом забрали, вещи вывезли без предъявления ордера на конфискацию имущества. Тетя Нина была выслана за 50 километров в город Остер. Она много хлопотала, писала в разные инстанции о беззаконных действиях властей. Когда дело дяди Вили было отправлено в Москву, киевский НКВД, видимо, желая скрыть от начальства свой произвол, вернул тете Нине дом и некоторые вещи.
В конце 1940 года дядю Вилю отправили этапом в Ухт-Ижемский исправительно-трудовой лагерь. Там он первое время тяжело болел. Затем его использовали по специальности, в качестве хирурга при поликлинике, а позже он заведовал женским отделением центральной больницы в Ветлосяне. Кроме того, он вел амбулаторный прием в поликлинике города Ухты. Сохранилась его докладная записка начальнику санотдела Ухтижемлага НКВД с требованием открыть в Ухте женскую консультацию, без которой удовлетворительная медицинская помощь невозможна. В подтверждение он приводил законы Советского Союза, нарушение которых считал недопустимым (!). В своем отделении больницы он ввел образцовый порядок, стремился внедрить новые методы работы, что видно из характеристики, выданной ему главврачом Ветлосяна Я.И. Каминским. Большая группа акушерок и медсестер была подготовлена им по специально разработанной программе. От руководства он неоднократно получал благодарности и почетные грамоты.
Одним из его учеников оказался любознательный юноша, заключенный, который не без участия дяди Вили увлекся медициной и в дальнейшем посвятил ей всю свою жизнь — это Виктор Александрович Самсонов, ныне доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России и Республики Карелия, член-корреспондент Российской академии естественных наук, заведующий кафедрой Петрозаводского университета. В.А. Самсонов написал и издал в Карелии пять автобиографических книг, где с теплотой вспоминает о первых своих шагах в медицине в качестве медбрата под руководством лагерных врачей, и в том числе дяди Вили:
«Вильгельм Владимирович <...> начал активно заниматься повышением моей квалификации по некоторым вопросам хирургии. <...> У меня созрело желание обратиться к профессору с просьбой помочь в овладении основами
2 Справка Главного управления ИТЛ, Ухт-Ижемские ИТЛ № 10891/35978 от 22.03.1946 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
акушерства и гинекологии. <...> Вильгельм Владимирович охотно дал свое согласие. Он пообещал даже составить программу подготовки и свое обещание выполнил. Я бережно храню эту программу, датированную первым марта 1941 года. На восьми страницах газетной и тетрадной бумаги, уже изрядно пожелтевшей, профессор убористым почерком перечисляет все разделы физиологического и патологического акушерства, которые следовало изучить.
— Заходите в отделение в любое время, присматривайтесь, присутствуйте при обследовании больных, операциях, родах. Ну и, конечно, читайте литературу.
Я был бесконечно рад такой неожиданной любезности профессора, горячо поблагодарил его за участие. Затем я набрался смелости спросить, не поможет ли мне шеф литературой по акушерству. Но не успел я раскрыть рта, как Вильгельм Владимирович пригласил зайти к нему «домой» за учебниками, предупредив при этом, что хранить книги можно только в его больничном корпусе.
Я знал, что профессор проживал в «кабине». Так назывались крохотные каморки, выделяемые лагпунктовским начальством особо привилегированным заключенным — комендантам, нарядчикам, некоторым руководителям производства и больницы. <...> Кабина, выделенная профессору В.В. Виттенбургу, представляла собой помещение площадью пять-шесть квадратных метров, отгороженное в тамбуре при входе в тот же барак. Койка, маленький столик, тумбочка. Кроме хозяина, в кабине находился неуклюжий высокий мужчина. Он взял котелок с миской и, ни слова не говоря, ушел за обедом. Как я потом выяснил, это был эстонец, инвалид по сердечному заболеванию (у него были всегда отечные стопы и голени). Он был прикреплен к профессору, неопытному и беспомощному в самообслуживании, в качестве ординарца. Вильгельм Владимирович достал с полки две довольно толстые книги. Это были учебники Гейгера и Бумма по акушерству. Я поблагодарил шефа, бережно спрятал книги под бушлат и доставил в женский корпус»3.
Далее автор пишет о своем первом приеме родов и оплошности, которую он допустил от волнения. Присутствовавший при этом дядя Виля высказал свое возмущение в бурном, присущем ему стиле.
«Однако на следующий день я был вызван к шефу. Он сидел за столом, уставив взгляд на медвежий чернильный прибор. В ответ на мое приветствие кивнул головой. Затем он предложил сесть, слегка поправил положение каких-то вещиц на столе, погладил белую бородку и тихо, ровным голосом заговорил:
— Вы извините, Витя, я вчера погорячился.
Далее он объяснил, что его сын, работавший на Украине в зоопарке, был отправлен на фронт. Вчера у него был день рождения. Известий же от него давно никаких нет. Это создавало мрачное настроение, которое и выплеснулось руганью.
3 Самсонов В.А. Жизнь продолжается: Записки лагерного лекпома. Петрозаводск, 1990. С. 180-182, 184.
— Так что не обижайтесь, пожалуйста, не падайте духом, продолжайте заниматься. В нашей работе еще не то случается»4.
Дядя Видя поощрял молодого человека в науках: «Надо стремиться не только выжить. Раз есть возможность, следует учиться, думая о будущем. У Вас есть способности, и еще не исключено, что поступите в институт, станете врачом, — наставлял профессор строгим тоном, не допускавшим возражений»5.
Забегу вперед и приведу письмо дяди Вили к папе из лагеря6, чтобы больше не возвращаться к этой печальной теме.
«Дорогой Павля!
Это письмо передаст тебе близкий мне человек, которого я очень хорошо знаю. Огромное горе, свалившееся на меня и на мою семью, продолжает еще давить до сих пор и одни удары сыплются за другими.
Нина, как ты уже знаешь, жива, но находится в очень тяжелом положении. Во время оккупации она очень мучилась. Немцы ее преследовали за то, что доносчики указали, что ее муж, т.е. я, служил в органах НКВД, а сын, Володя, находится в Красной армии. Предатели украинцы преследовали ее за то, что она русская. За несколько дней до своего отхода немцы приехали на грузовиках к нашему дому и вывезли все имущество, а то, что не могли вывезти, например, зеркала, посуду, книги безжалостно разбили и уничтожили. Нине разрешили взять чемоданчик в руки и выгнали ее из дома и увезли на вокзал, а в дом бросили зажигательную бомбу и сожгли дом дотла. Сгорели и соседние большие дома. Вскоре Нину высадили, и она ушла в деревню, попала как раз на фронтовую полосу. Сидела в подвалах и мучилась. Затем всех, как и ее отправили в Киев. В Киеве ее приютили друзья и дали ей угол. Вскоре она поступила на службу.
<...> Итак, мы совершенно разорены и остались буквально на старости лет нищими. Осталось у нас с Ниной только два места в Киеве на кладбище, закупленных заблаговременно рядом с нашей и Ниночкиной матерью. Вот и все, больше нет ничего!
Судьба Володи тоже, по-видимому, складывается неблагополучно. После начала войны он был освобожден от военной службы по состоянию здоровья, но когда его товарищи были мобилизованы, он уже через месяц пошел в военкомат и записался добровольцем в Красную армию. Его записали в кавалерию и послали в Днепропетровск на учебу. Но через два дня немцы подошли к Днепру, и его школа пошла в бой. Они долго задерживали фашистов и под
4 Самсонов В.А. Жизнь продолжается: Записки лагерного лекпома. Петрозаводск, 1990. С. 195-196.
5 Там же. С. 144-145.
6 Письмо В.В. Виттенбурга к П.В. Виттенбургу из Ухты от 25.05.1945 // Личный архив Е.П. Виггенбурт.
конец перешли за Днепр. Володя переплывал Днепр вплавь со своей лошадью, а там началось отступление холодной грязной осенью по чернозему: танки, автомобили, даже тракторы вязли в грязи, и одна только лошадь, как писал мне Володя, могла только проходить. В это время он был начальником снабжения боеприпасами дивизии. Несколько раз он едва не попадал в плен, но мужественно отбивался. Много раз был отмечен приказами за свою работу. Так рассказывали Нине его товарищи по полку. В то же время он был ранен в ногу, как он писал, легко, а на самом деле — тяжело, как рассказывал Нине мой товарищ профессор хирург, который был с Киевским военным госпиталем эвакуирован в Томск, и в клинику которого случайно попал Володя. Выздоровев, он оказался инвалидом и сам, по собственному выбору пошел для научных работ на какой-то рыбозавод в глухое место Нарымского края, хотя мой товарищ профессор и оставлял настойчиво Володю в Томске на хорошую работу. На этом рыбном заводе он попал в ужасающие условия и страшно бедствовал. Не выдержав там ужасных условий существования, он, в ноябре 44 г., выехал оттуда, по-видимому, самовольно, и с тех пор Нина не имеет о нем никаких известий.
<...> Иру и Марго увезли немцы с собой, и этой опоры лишилась Нина. Ирин муж умер от чахотки во время оккупации, а дочь поехала с ними.
Мое положение и состояние удовлетворительно, хотя и начинают сказываться годы. Я удивляюсь себе, что еще на ногах и работаю так много. Провел я жизнь, как ты знаешь, тяжелую, трудовую, всегда много работал и без отдыха, а затем и горе, свалившееся на меня, все это, конечно, отразилось на мне. Осталось мне еще 9 месяцев. Если будешь в здешних местах и захочешь меня видеть, то, мне кажется, это будет не трудно сделать, т.к. наше главное начальство относится и к тебе и ко мне неплохо.
О себе и наших делах я кончил. Напиши или передай, что у тебя. Как здоровье Зины и где она работает? Где твои девочки? Напиши подробно о них. Я их всех очень люблю. Где и как ты работаешь? Какие у тебя перспективы на дальнейшее? <...>
Крепко целую и обнимаю Тебя и Зину и душевно желаю всего Вам хорошего.
Твой В.В.
Р.S. Сердечно благодарю тебя за посылку. Это были, вероятно, Зинины произведения. Было вкусно, хорошо, как дома».
23 марта 1946 года закончился срок заключения дяди Вили. Его освободили, но оставили с «закреплением на работе по вольному найму в УИЛ НКВД с местом жительства в Ухте»7.
В конце лета 1947 года к нему приехала тетя Нина, и, видимо, она привезла ему приглашение вернуться работать на Украину. Они вместе
7 Справка Главного управления ИТЛ, Ухт-Ижемские ИТЛ № 10891/35978 от 22.03.1946 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
возвратились в Киев 4 октября 1947 года, а 6 октября в клинике он скоропостижно скончался от паралича сердца. Похоронили его на кладбище рядом с могилой матери, Марии Ивановны. За их могилами до сих пор ухаживает семья Лобут, движимая чувством благодарности за полученные в свое время участие и помощь.
В 1956 году во времена хрущевской оттепели тетя Нина начала хлопотать о реабилитации мужа. Она обратилась за поддержкой к хорошему знакомому, известному украинскому писателю Остапу Вишне (он тоже отбыл свой срок в Ухтижемлаге). Тетя Нина полагала, что его характеристика дяди Вили может способствовать этому доброму делу. Отзыв Остапа Вишни приводит в своей книге В.А. Самсонов:
«Профессора Вильгельма Владимировича Виттенбурга я знал в течение многих лет как крупнейшего специалиста, врача-гинеколога. При встречах, беседах с ним я никогда не слыхал, чтобы профессор Виттенбург высказывал что-либо враждебное по отношению к Советской власти и Компартии Союза.
Советский ученый (звание профессора получено им при Советской власти), крупнейший специалист, воспитатель и учитель многих студентов и молодых врачей, профессор В.В. Виттенбург был безупречным советским человеком и гражданином, полезнейшим для народа и Советского государства»8.
21 сентября 1956 года дядя Виля был реабилитирован.
Такова была советская реальность...
Возвращаюсь к описанию жизни нашей семьи.
По приезде с Украины в Ленинград маме пришлось лечь в больницу имени Мечникова на лечение рожи и осложнения от нее — заболевания сердца. В какой-то мере маму подлечили, и она снова включилась в свою любимую работу. Она очень уставала, возвращаясь домой вечером, ложилась на диван и дремала, пока жизнь в комнате продолжала идти своим порядком. Часто часов в 9—10 приходила Тамара Александровна с рукописью. Она готовила научную работу на основании своих лабораторных исследований. Ее специальностью была микробиология, и Тамара Александровна хотела, чтобы мама отредактировала написанный ею материал. Происходило это так: Тамара Александровна читала текст вслух, а мама, преодолевая дремоту, слушала и время от времени делала поправки. Иногда мама засыпала, тогда Тамара Александровна решительно ее будила без
8 Самсонов ДА В путах-дорогах студенческих: Воспоминания. Кондопога, 1997. С. 33—34.
всякого снисхождения. Было удивительно, как мама улавливала сквозь сон смысл читаемого и как Тамару Александровну удовлетворяла мамина правка.
Как только приходила Тамара Александровна, кто-нибудь из нас бежал в булочную на углу Карповского переулка покупать любимые ею пирожные-меренги.
В квартире несколько осложнилась обстановка в связи с образом жизни соседа Бориса Сергеевича. Он, видимо, переживал жестокий кризис: не ходил больше в Большой дом на работу и страшно запил. Его посещали собутыльники, дебоширили так, что однажды у нас со шкафа, стоявшего у его стены, свалилась вазочка. Справедливости ради надо сказать, что весь шум и гам происходил только в его комнате, в коридоре никто не появлялся. Сам же Борис Сергеевич, едва стоя на ногах, отправлялся мыть посуду в ванную комнату. Для этого наполнял до краев ванну и в ней мыл рюмки и прочее. В этот период его прежней жены и капитана не было.
Мы все учились. Ника продолжала заниматься в ЛИКСе. В противоположность Люсе, она не отличалась усердием, была склонна по той или другой причине брать академический отпуск, таким образом ее обучение растянулось на длительный срок. Люся, напротив, много занималась и в библиотеках и дома. Физика и математика были ей по душе, занятия шли успешно. Она любила рисовать и в частности делать зарисовки с натуры бытовых сцен. У нее они хорошо получались. К сожалению, все они пропали.
В 1937 году я закончила семилетку. Шефы нашей школы с завода «Вулкан» нескольких учеников наградили подарками. Я получила том из академического собрания сочинений Пушкина и два билета в театр оперетты. Его спектакли в тот сезон шли в помещении летнего театра сада Народного дома. Оперетту я смотрела впервые вместе с мамой, да и мама, пожалуй, впервые была на оперетте. Чудесный летний вечер, сад Госнардома на берегу Невы у Петропавловской крепости, веселый музыкальный спектакль (шел тогда «Нищий студент») — все создавало приподнятое настроение. Папин подарок — прогулка по городу на открытой машине, о чем я уже писала, еще одно из радостных событий этого лета.
Новый, 1938 учебный год начался в только что отстроенной школе-десятилетке № 4 на Новопроложенной улице (ныне Левашовский пр.) напротив Дома культуры Промкооперации (дворца культуры имени Ленсовета, как впоследствии величали это здание). Занятия в школе сперва шли не особенно успешно. В этом возрасте я была предрасположена к лени, к раздумьям, попыткам разрешения философских вопросов. Случалось, я пропускала занятия, чему, как ни странно, мама не препятствовала, а писала объяснительные записки в школу. Иногда перед не выученным
уроком я получала освобождение от школьного врача — научилась путем самовнушения повышать себе температуру. Когда в домашних заданиях не удавалось решить задачи по математике или физике, на маминой подушке я оставляла записочку с условиями задачи и с просьбой ее решить. Мама возвращалась с работы поздно, мы уже спали. Утром мама рано уходила из дома, и я находила на столе решенную задачу. Удивительно, сколько лет прошло после окончания мамой гимназии, а она не забыла не только иностранные языки — немецкий и французский, — но физику и математику и прекрасно справлялась с трудными задачами.
Мои школьные подруги — Лида Рыкушина (будущий врач), Соня Никитина (впоследствии журналист), Тая Гвоздюкова (ее след потерялся) и я, ученицы восьмого класса, далеко уже не дети, после уроков отправлялись «открывать Северный полюс» — лазать по огромным снежным сугробам, наваленным против нашей школы. Туда свозили снег при очистке города. Снег в те годы почему-то был чистым и белые сугробы нам представлялись арктическим ландшафтом.
Однажды меня исключили из школы на неделю: в коридоре школы несколько учеников, и я в том числе, устроили игру в снежки. На разбирательство к директору школы пришлось отправиться Люсе.
В старших классах школы активно велась военная подготовка. Помимо специальной дисциплины в учебной программе, предлагались разные военизированные кружки — 11 О, ГСО, Ворошиловских стрелков и прочее. Я выбрала последний, ходила в тир тренироваться, научилась Метко стрелять из настоящей винтовки и участвовала даже в соревнованиях. Помимо школ военная подготовка велась и в институтах, а для населения и соответствующих служб города с осени 1938 года устраивали «воздушные тревоги», иногда по несколько раз в день. Сирена выла по радио, во дворе сирену крутил дворник, заводы гудели во всю мощь своих гудков. Жутко...
Как-то совершенно случайно, еще до поездки в Киев, мама в трамвае прочла объявление, в котором музыкальные курсы предлагали желающим обучение игре на разных музыкальных инструментах, в том числе и на скрипке. Мама подумала, что дедушкина скрипка по-прежнему лежит, но уже на другом шкафу, почему бы мне не поучиться на ней играть? Курсы находились в то время в одном из домов по 1-й Красноармейской улице. Начинать учиться на скрипке в 15 лет, конечно, поздно. Но почему бы не попробовать? Я отправилась, не без трепета, узнать, каковы условия приема. В небольшом зале проверили мой слух и чувство ритма, оказалось, что того и другого достаточно. В начале сентября предложили прийти на первое занятие. И здесь Судьба вмешалась в мою жизнь и повела меня своими путями...
Взяв дедушкину скрипку в старинном футляре, я приехала на урок. Меня направили в класс к молодому педагогу и, как мне показалось, очень строгому. Он осмотрел скрипку, одобрил ее, настроил и показал, как нужно ее держать. Когда он поправлял мою руку, то удивился и спросил — почему у меня сырой рукав кофточки. Мне стало страшно стыдно, и я пролепетала, что кофточка не успела высохнуть — так это и было. С нарядами у нас обстояло дело весьма скромно, единственную приличную кофточку выстирала, да поздно.
Не буду описывать мои занятия на скрипке, поначалу малоувлекательные, но упомяну уроки сольфеджио и музыкальной литературы, которые мне сразу очень понравились. Об этом я писала папе, он в ответных письмах радовался за меня, что я учусь музыке, которую он очень любил, особенно Бетховена и русскую музыку. С занятий музыкой моя жизнь стала постепенно меняться, приобретать новый смысл и интерес. Беда была в том, что негде было упражняться. В одной комнате, где проходила жизнь целой семьи, это было просто невозможно.
Лето 1938 года мы провели в Сиверской (Южное Дружноселье). Мама сняла две комнаты в славном домике с садом. В выходные дни она приезжала подышать свежим воздухом, отдохнуть в гамаке. Нашими соседями по даче была немолодая интеллигентная пара, хозяев не было видно совсем. Тишину нарушали только звуки моей скрипки, что меня очень смущало.
В конце октября 1938 года приехал папа. Он приступал к камеральной обработке материалов Таймырской экспедиции в Арктическом научно-исследовательском институте, так как экспедиция за время своей работы была передана из горного управления ГУСМП в Арктический институт, о чем я уже упоминала.
Но сначала надо было отдохнуть. Шел уже ноябрь месяц. Лучшим возможным местом отдыха были Сочи. Папа и мама остановились в санатории «.Ривьера». Санаторий, только что построенный, считался хорошим. Маме все очень нравилось, особенно балкон, выходивший на море. Во время бури до него долетали брызги. Папа, как обычно, много фотографировал.
С 1 января 1939 года папу зачислили в штат института на должность старшего геолога и руководителя камеральной обработки материалов. Ведь в конце 1920-х годов папа принимал участие в создании этого института, а теперь, спустя 10 лет, ему надлежало там работать. Но жизнь кардинально изменилась за эти годы, и институт предстал перед ним совсем иным учреждением.
Папе предстояло жить с нами вместе в одной 20-метровой комнате, не имея своего письменного стола, так как в тесноте все становилось общим.
Маме тоже было трудно, но по другой причине. За последние годы она привыкла к независимости, самостоятельности, привыкла сама заботиться обо всех и о себе, а здесь рядом оказался внимательный, заботливый, готовый услужить человек. Папа истосковался по семейной жизни: «Будет ли мне дано счастье жить вместе с вами, голубки родные, дружно и нераздельно?..» — запрашивал он судьбу в письмах с Таймыра.
Несмотря на все неудобства домашней жизни, папа много работал и преуспел в этот год. Параллельно с обработкой материалов последней экспедиции и написанием научного отчета, папа готовил к печати итог своих работ по Вайгачу в виде монографии «Рудные месторождения Вайгача и Амдермы», которая была сдана в набор в мае 1939 года. Кроме того, его продолжали интересовать особенности рудничных вод в условиях Крайнего Севера. Журнал «Проблемы Арктики» поместил его большую статью «Термический режим и рудничные воды в зоне вечной мерзлоту острова Вайгача и Амдермы»9. На протяжении многих лет папу не оставляла мысль написать монографию о выдающемся полярном исследователе Эдуарде Васильевиче Толле, с трудами, работами и участниками экспедиций которого папе посчастливилось встречаться. Он постоянно собирал о Толле материалы, а теперь в Ленинграде мог работать в архиве Академии наук, где находился архив экспедиции.
Когда в 1936 году папа добивался снятия судимости, тогда же он ходатайствовал и о возвращении конфискованной во время ареста полярной библиотеки. В мае 1939 года его уведомили, что он может получить свою библиотеку, которая с 1934 года хранилась в Москве, запакованная в ящики после переезда Академии из Ленинграда в Москву. Согласно акту, составленному заведующим библиотекой геолого-географического отделения Академии 14 августа 1939 года, папа принял библиотеку, состоящую из 4350 экземпляров книг, 29 карт и 21 папки с рукописями10. В этом же акте фигурирует список 138 книг и 25 переводов, взятых папиным ассистентом М.А. Лавровой 21 января 1931 года (это еще в процессе следствия, до вынесения приговора). Библиотеку привезли в Ленинград, но разместить ее теперь оказалось совершенно негде. Она хранилась где-то, наверное, в Академии наук, до отъезда папы в Архангельск.
С приездом папы произошло упорядочение нашей жизни. Папа требовал, чтобы мы утром завтракали. Надо сказать, что все дочери восприняли
9 Виттенбург П. В. Термический режим и рудничные воды в зоне вечной мерзлоты острова Вайгача и Амдермы // Проблемы Арктики. 1939, № 9. С. 5—29.
10 Письмо зав. библиотекой от 27.05.1939 // Личный архив Е..П. Виттенбург.
от мамы ее недостаток — неумение рассчитывать время и потому, обычно стараясь не опаздывать, страшно торопились и все же опаздывали. Папе, человеку аккуратному и умеющему рассчитывать время, никак не удавалось приучить нас к тому же. Чтобы я не ушла в школу голодной, сколько раз папа с сосиской на вилке просил меня откусить кусочек, тогда как я металась впопыхах между зеркалом и туалетным столиком, завершая свои сборы в школу. Удивительное было у него терпение.
Для того чтобы обеспечить быт, чтобы вовремя был обед, убрана в очередное дежурство коммунальная квартира, выстирано белье и прочие домашние дела сделаны, маме пришлось нанять домработницу. Кто-то из знакомых порекомендовал молодую деревенскую девушку. Ей удалось каким-то чудом открепиться из колхоза и получить паспорт. Это была редкая удача, так как колхозники были по существу государственными крепостными — они не имели права выезжать из своих колхозов и были лишены паспортов. Жить ей в Ленинграде оказалось негде, в результате, когда она поступила к нам, ей ничего не оставалось, как расстилать свой тюфячок в той же комнате под роялем. В жаркие дни кто-то из нас спал на письменном столе или на рояле. Вот в такой тесноте мы жили, работали и учились.
Интересно было ходить с папой по городу, к примеру, во время ледохода на Неве. Он обращал мое внимание на особенность структуры льдин, зависящую от места их замерзания: одни в озере, другие в реке; по форме облаков и направлению ветра — предвидеть предстоящую погоду и многое другое. Мы по-прежнему ходили на каток, только без мамы. Папа плавно и красиво выписывал коньками восьмерки и тройки, вместе скользили «голландским шагом».
Весной Люсе предстояли государственные экзамены, а за ними обязательное распределение на работу куда-нибудь в глушь в качестве учительницы. Как я уже писала, Люся не имела никакой склонности к преподаванию. Ее страшила перспектива учительствования в далекой деревне, одной, среди чужих людей. В связи с этим или независимо от этого, она стала плохо себя чувствовать — появилась слабость, субфибрильная температура и кашель. Мама очень беспокоилась, так как по папиной линии была плохая наследственность — туберкулез. Люсе посоветовали взять академический отпуск и в этом году государственные экзамены не сдавать. Она так и сделала. Начался «диванный период» ее жизни: большую часть времени она проводила на диване с книжкой в руках или разучивала урок на рояле. Ей давала уроки фортепиано концертмейстер Кировского театра, прекрасная пианистка.
В начале мая умер Николай Борисович Полынов — муж Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник. Он долго болел, не выходил из дома. Не раз
просил меня зайти к нему. Его интересовало, во что превратилась маленькая девочка, которой он симпатизировал еще в Ольгино. Я все собиралась, да по легкомыслию юности думала — успею и... опоздала. Через несколько дней после его смерти получила письмо от Татьяны Львовны, в котором прочла: «Как жаль, что ты не побывала у Николая Борисовича во время его болезни — он так этого ждал. Вот лишний урок — никогда не откладывать того, что может доставить радость другому человеку —
Но час ударит роковой,
И станешь с поздним сожаленьем
Ты у могилы дорогой...»
И дальше в письме стояло: «Хорошо бы 11-го, если бы вы зашли ко мне»11. Мы посетили Татьяну Львовну. Она уезжала на лето в Тарусу. Мама думала, что и нам хорошо бы там провести лето. Из Тарусы пришло письмо Татьяны Львовны:
«Дорогая Зинаида Ивановна, прежде всего хочется сказать Вам, как дороги мне были наши последние встречи с Вами и девочками, как я живо почувствовала, что никакие дни и годы нас не разделят и что в обоих нас живет прежнее теплое чувство и симпатия. И Вы это должны были почувствовать. И как бы мне хотелось это лето побыть с Вами... Но боюсь, что это невыполнимо». Затем Татьяна Львовна пишет о дороговизне помещения и многих неудобствах, в том числе отсутствии продуктов. И далее: «Я решаю загнать массу денег, чтобы еще взглянуть на те места, которые так любил он... Мне здесь хорошо — но и невыразимо больно. Вы это поймете. Все бередит свежую рану, все напоминает о нем. Я обещала ему прошлое лето показать этой весной яблони в цвету... Это единственное обещание в жизни, которое я ему дала и не исполнила... Ну, дорогие, целую вас всех, если позволите. Маргарита Николаевна шлет привет»12.
Я отправилась навестить могилу Николая Борисовича на Волковом кладбище. Нашла, Ее накрывала гранитная плита. Я постояла, думая о человеке, которого так мало знала, но который интересовался моим внутренним миром и, вероятно, хотел мне что-то сказать... Неожиданно для себя, поддавшись какой-то силе, я упала перед могилой на колени и дала клятву никогда никого без любви не целовать. (Клятву сдержала.)
Этим летом впервые всей семьей мы поехали отдыхать. Одна из маминых сослуживиц сняла нам избу в деревне Миронеги на Валдае. Ехать
11 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к Е.П. Виттенбург от 10.05.1939 // РО ИРЛИ РАН, Р-1, оп. 37, ед. хр. 23-27.
12 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к З.И. Виттенбург от 05.07.1939 // Там же.
надо было поездом до Бологого, затем несколько часов ждать другого поезда, прибывающего из Боровичей. С огромным количеством поклажи мы благополучно высадились и в ожидании пересадки устроились завтракать. С собой у нас были бутерброды, а кипяток можно было получить на станции. Все заметили, что у бутербродов какой-то странный привкус олифы. Мама решительно заявила, что сочетание масла и ветчины в бутербродах всегда придает такой привкус. Вскоре выяснилось, что разлилась олифа, которую я взяла вместе с красками, чтобы на Валдайских высотах заниматься живописью. Мы потом много смеялись.
Деревня Миронеги находилась в 10-12 километрах от города Валдая. Немного побродив по городу, полюбовавшись прекрасным озером, нашли возницу с телегой, который взялся нас доставить в нужное место. То пешком, то на возу, мы прибыли в маленькую деревню. Она раскинула свои домики по обе стороны шоссе Москва—Ленинград. (В то время по шоссе движения было мало, тем более автомобильного).
Нас встретила хозяйка — старушка Анна Ивановна и ввела в избу. Мы увидели почти пустую большую комнату с низким потолком и довольно закопченную. Анна Ивановна повела нас в сад, который оказался запущенным огородом, поросшим густой травой. Этот зеленый луг поднимался вверх и заканчивался высоким холмом, на вершине которого росла раскидистая рябина. Отсюда, сверху, открывался чудесный вид на холмы, поля, дали, где-то зеленел лес. Все небо, казалось, в нашей власти. Мы были в восторге! Папа нашел плотника, который поставил скамеечку под рябиной. Можно было любоваться и восходом солнца, и закатом, и «боем облаков», случавшимся как и на картине Николая Рериха «Небесный бой». Под старыми яблонями папа заказал плотнику две скамейки и столик. Здесь мы завтракали, обедали и ужинали. В саду-лужайке стоял еще полуразвалившийся сарай, наполовину занятый сеном. Он стал местом моих упражнений на скрипке. Вездесущие мальчишки как-то заинтересовались странными звуками, раздававшимися из сарая, в паузу я услышала приглушенный голос: « Что это там пыщит?»
Все казалось прекрасным, но ночью трудно было заснуть от шелеста и «топанья» тараканов. Их было неисчислимое множество. Спали мы прямо на полу на сенниках. Немного оглядевшись, решили для ночлега снять другую избу. Нашлась совершенно новая пустая, хозяева в ней пока не жили, так что мы заняли ее целиком. Ника с Танечкой захотела поселиться в другой деревне. Там было больше удобств, так как деревня была зажиточной, полная противоположность нашей, и называлась она соответственно — Борцы. Возможность купить тут же свежие молочные продукты,
овощи и фрукты — все это соблазнило Нику. Кроме того, там жила мамина приятельница Валентина Сергеевна Полякова, веселый и общительный человек. В нашей деревне было тихо, спокойно, народа не видно, жизнь замирала, ей вполне соответствовало название Миронеги.
Вскоре к нам приехала из Москвы старинная наша знакомая художница Анна Алексеевна Геннерт. Папа продолжал работать над рукописью о Толле, я исправно упражнялась в сарае, мама и Люся нежились на солнце, гуляли, читали. Дети местных и бойцовских крестьян приносили нам тазами малину, корзинами грибы и прочие дары леса. Однажды предложили живого гуся. Он оказался необыкновенно понятливым и симпатичным. Особенно он любил папу и сопровождал его, куда бы тот ни шел. Конечно, никому не могло прийти в голову его съесть. Он остался у хозяйки. Из живности она держала только кур. Они тоже паслись около нас, предпочитали клевать горошки на платьях и пуговки на туфлях. Папа любил вечером .разводить самовар. За этим занятием его запечатлела в своей акварели Анна Алексеевна. Папа, как всегда, много фотографировал.
Между Миронегами и Борцами протекала небольшая речка Гремячка. Хороший спортсмен мог бы ее перепрыгнуть. Вода текла в ней быстро, местами образуя заводи, где только и можно было окунуться.
На Валдае в этом году лето стояло превосходное, но часто бывали грозы. Потому ли, что деревня Миронеги раскинулась на высоком месте, или, может быть, под ней таилась какая-нибудь магнитная аномалия, но ни одна гроза не обходила ее стороной. Однажды в конце дня разразилась жестокая гроза, которая напугала даже папу и маму. В течение двух часов молния долбила асфальт шоссе напротив нашей избы. Мы сидели посреди избы на сенниках, сгрудившись в кучу с зажатыми ушами. Гром гремел с каким-то ожесточением, непрестанно блистали молнии, ливень дополнял эту картину «конца света». Электрическая лампочка, висевшая под потолком, то и дело вспыхивала, в воздухе пахло озоном. Когда гроза, наконец, выдохлась, вышли в сад и увидели, что нашу любимую рябину разбило молнией. Сгорел от удара молнии электрический столб у избы, где мы ночевали. Эта гроза, как дикая могучая сила природы, запомнилась нам на всю жизнь.
Лето кончалось. Предстоял отъезд. Найти лошадь и возницу, готового доставить нас на Валдай, оказалось нелегко, так как в Миронегах лошадей не было, а в Борцах все колхозные лошади были заняты на уборке урожая. К счастью, подвернулся цыган с лошадью и телегой, который согласился нас с вещами отвезти к поезду. Что это было за путешествие! Жаль, что никому из нас не пришло в голову его зарисовать или хотя бы сфотографировать. Времени до отправления поезда оставалось в обрез. Лошаденка
у цыгана была тощая, везти телегу в гору ей было не под силу. Мы, конечно, подымались пешком, иногда кто-то садился при спуске. Цыган бегал вокруг лошади то справа, то слева подхлестывал ее и понукал на своем языке. Переволновавшись, жалея лошадь, в конце концов достигли желанного вокзала. Здесь наша группа разделилась: папа, Люся, Ника с Танечкой поехали в Ленинград, а Анна Алексеевна и мама со мной отправились в Москву. Анна Алексеевна уговорила маму посмотреть только что открывшуюся великолепную сельскохозяйственную выставку, Музей нового западного искусства, а также выставку советского искусства под названием «Индустрия социализма».
В Москве мы остановились у Анны Алексеевны. Она жила в мезонине маленького деревянного домика, стоявшего во дворе по Успенскому переулку. Дворик зеленый, тихий — совсем поленовский. В тесной комнатке Анны Алексеевны мы едва разместились.
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в первые годы ее устройства была чрезвычайно интересна: каждая национальная республика — союзная или автономная — построила свой павильон в традициях национальной архитектуры. Внутри павильонов экспонаты представляли хозяйственную и культурную жизнь республики. Переходя от одного павильона к другому, словно путешествуешь по стране, видишь разнообразную природу, условия жизни и вкусы. Общим был, насколько мне помнится, только павильон Механизации сельского хозяйства, построенный в виде большого ангара. ВДНХ, что была устроена впоследствии на этом же месте с использованием национальных павильонов, но по отраслям хозяйства, выглядела уже лубочно, а иногда даже нелепо. Так, павильон сельского хозяйства Союза был сооружен в ложноклассическом стиле с «разорванным» антаблементом и с громоздкими волютами, словно иллюстрировал развал сельского хозяйства. Вызывал досаду аляповатый неуклюжий многофигурный фонтан «Дружба народов» и группа В.Мухиной «.Рабочий и колхозница-», поставленная на низкий пьедестал. Эта замечательная группа, венчавшая советский павильон на Международной парижской выставке 1937 года, была перенесена на ВДНХ без всякого учета ее размеров. Низко поставленная, она смотрелась плохо и раздражала своей громоздкостью. Как это у главного архитектора Москвы не хватило чувства соразмерности?
С большим интересом мы осмотрели выставку со странным названием «Индустрия социализма», где была представлена живопись, графика и скульптура художников всей страны. Настрой выставки был оптимистичен. Многие талантливые художники показали свои работы. Были и подлинные произведения искусства… Жюри смотрело строго: выставка тоже была одним из способов пропаганды социализма, иллюстрирующая процветание общества нового типа.
Нам очень повезло, что удалось посмотреть Музей нового западного искусства до его закрытия. Он занимал особняк Щукина на Кропоткинской улице, где после разместился Президиум Академии художеств СССР. В основном там были представлены французские импрессионисты и некоторые постимпрессионисты. Затем этот музей как не соответствующий идеям социалистического реализма был расформирован. Его картины поступили в Эрмитаж и Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.
Около недели мы провели в Москве. Вдруг мама почувствовала, что заболевает, и мы поехали покупать билеты. Они тогда продавались в железнодорожной кассе на площади Революции. В то время, когда мы стояли в очереди, неожиданно по радио зазвучал голос диктора, наверное, Левитана: Советский Союз и Германия заключили пакт о ненападении, в Москву приехал Риббентроп. Помню, как нас буквально ошарашило это сообщение. Стало страшно, словно повис над нами «дамоклов меч». Ведь в Европе уже почти все страны захвачены Германией!..
Кроме билетов в так называемый международный вагон (был такой в составе поездов, производства пульмановских заводов), других билетов не оказалось. Поскольку мама чувствовала себя плохо, пришлось взять эти дорогие билеты. Когда вошли в вагон, то ахнули: просторные купе на два человека, мягкие диваны, все отделано полированным красным деревом, а когда поезд двинулся, то можно было и не заметить этого — так плавно он шел.
В старших классах школы меня начала мучить мысль о выборе профессии. Во мне боролись противоречивые чувства: долг перед государством и собственные личные устремления, надлежало ли приобрести специальность, которая более всего нужна государству, или я имею право отдаться собственным наклонностям? Со временем во мне стало крепнуть желание стать музыкантом. Раздумья на эту тему занимали немало страниц в моем дневнике тех лет. «Учитель требует абсолютной тщательности в исполнении — это трудно, но зато интересно. В этом труде столько счастья! Когда этой работой занято все время — жизни не жалко. Нужно огромное напряжение — хватит ли воли? Эта работа требует времени и сил, что неизбежно уводит от жизни в семейном кругу, отрыву от семьи, а ведь семья самое важное — фундамент», — так рассуждала я. С другой стороны — нужны ли музыканты государству? Мама говорила, что нужны. Она советовала спокойно разобраться в себе самой, взвесить свои возможности, удостовериться в своих способностях. Папины суждения более определенны: лучше музыку оставить для души, а профессией избрать медицину.
Со своими сомнениями я обращалась и к учителю музыки. Он полагал, что через год упорной работы можно будет определеннее судить, могу ли я стать профессиональным музыкантом.
Еще одна проблема волновала меня и моих ближайших подруг — это вступление в комсомол. Казалось, и нам надо строить светлое будущее. Ведь мы должны без колебаний все силы отдать на процветание нашей родины. Жить надо для будущего. Сейчас живем как бы вчерне, а потом будет настоящая счастливая жизнь. Так нам внушала всеми средствами наша самая передовая в мире партия. Я низко оценивала свои возможности по самоотречению ради такой далекой цели. Бесконечно наивная, полагала, чтобы стать комсомольцем, нужно быть человеком, лишенным каких бы то ни было слабостей, обладать железной волей и неуклонно стремиться к цели. Пока я не видела в себе этих качеств.
Осенью началась война с Финляндией. Ленинград погрузился в темноту. Окна, улицы, транспорт — темные. Всюду синие лампочки. Люди приобрели маленькие фонарики в виде светлячков, прикалывали их к одежде, чтобы не наткнуться друг на друга на улице. Так закончился 1939 год.
В феврале 1940 года папа завершил камеральную обработку материалов Таймырской экспедиции и составление научного отчета.
Монографию «Геология и полезные ископаемые северо-западной части Таймырского полуострова» дали на рецензию доктору геолого-минералогических наук, профессору М. Тетяеву. В заключении своей рецензии он отметил:
«П.В. Виттенбург дает чрезвычайно интересные сведения об этом мало известном районе, освещающие этот район не только в геологическом, но и в отношении его промышленного использования. Эти сведения автор связал в цельное общее представление об этой части Арктики, которое несомненно ляжет в основу дальнейших работ в соседних областях.
Необходимо, чтобы эта работа, выполнение которой можно оценить на отлично, была опубликована в течение ближайшего времени, так как она освещает одну из наиболее интересных частей Арктики, остававшихся до сих пор «белым пятном», сильно затруднявшим анализ геологического строения прилегающих соседних районов»13.
Монография была издана в 1941 году в 12-м томе « Трудов» горногеологического управления.
В камеральной обработке материалов экспедиции по изучению петрографии изверженных и метаморфических пород принимали участие научные сотрудники Арктического института Н.П. Аникиев и Б.И. Тест. Результаты их исследований также помещены в 12-м томе «Трудов».
13 Тетяев М. Рецензия // Личный архив Е.П. Виттенбург.
К тому приложена геологическая карта берега Харитона Лаптева, составленная папой при участии Н.П. Аникиева и Б.И. Теста.
Кроме научных итогов по Таймырской экспедиции, папа написал книгу в популярной форме о своем любимом полярном исследователе Э.В. Толле «В поисках земля Санникова. Очерк о жизни и деятельности Э.В. Толля». Издательство Главсевморпути готовилось ее напечатать. Книгу направили на редакцию известному ученому С.Я. Миттельману. Редактор подготовил рукопись к печати, в качестве приложения дополнил ее воспоминаниями участников экспедиции Толля, составил примечания и добавил иллюстрации. В конце 1940 года или в начале 1941 года она поступила в издательство. Началась война. Рукопись осталась в Ленинграде и пропала. Это выяснилось уже после войны, в 1946 году. С.Я. Миттельман в письме к папе сокрушался, что труд автора и редактора исчез бесследно и что «действительно, до сих пор почти нет ничего не только о Толле, но даже о его экспедиции на "Заре" (не говоря уже о его экспедициях), до сих пор она остается незаслуженно и несправедливо забытой».14
14 Письмо С.Я. Миттельмана к П.В. Виттенбургу от 09.01.1946 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
Глава VIII Снова Вайгач. Блокада Ленинграда. 1940—1942
Глава VIII
Снова Вайгач. Блокада Ленинграда.
1940—1942
Арктический институт в марте 1940 года подвергся очередной реорганизации, геологический отдел был сокращен, а экспедиции передали в Горно-геологическое управление в Москву. Папу уволили 4 февраля «за окончанием камеральных работ», и снова надо было искать место для применения своих сил и знаний. Папа написал письмо начальнику Геологического управления Северного края: «Работая в течение многих лет по геологии европейской и азиатской частей Севера, в частности по стратиграфии (триаса) и изучению угольных месторождении Шпицбергена, а также по полиметаллическим месторождениям о. Вайгача и плавиковому шпату Амдермы, я желал бы и в дальнейшем вести геологические работы в Северном крае и исследовать его полезные ископаемые»1.
Одновременно папа выдвинул ряд условий: предоставление ему квартиры или комнаты, желательно в доме специалистов, возможности разрабатывать научные темы, помимо выполнения работ по штатной должности, участие в полевых работах, получение научных командировок в Москву и Ленинград, оплату перевозки из Ленинграда специальной библиотеки по Северу и Полярным странам и получение подъемных для переезда из Ленинграда в Архангельск.
Папины условия Северным геологическим управлением были приняты, и с 5 апреля 1940 года он был зачислен в штат на должность инспектора геологического контроля. Папа переехал в Архангельск, получил в доме
1 Письмо П.В. Виттенбурга к начальнику Геологического управления Северного края от 14.04.1940 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
специалистов большую комнату в двухкомнатной квартире со всеми удобствами (проспект Сталинских ударников, д.98, кв.47). Самым трудным была перевозка пяти тысяч книг его библиотеки, так как таскать ящики приходилось самим. Папа устроился, организовал удобное место для работы. Стены заставил сплошь стеллажами, на них разместил книги, среди стеллажей — матрац-постель, у окна письменный стол, большое кожаное кресло. Много цветов. Папа познакомился с двумя девушками-школьницами, Ниной и Алей, которые с удовольствием взялись поливать цветы во время его отсутствия. Эти девушки так привязались к нему, что впоследствии, окончив институты и обзаведясь семьями, часто писали письма, делились своими проблемами, просили совета.
В Северном геологическом управлении папа работал с большим интересом, выезжал в командировки на север Республики Коми в Воркуту, Ухту, Удорский район. В августе Комитет по делам геологии при СНК СССР издал распоряжение по Севгеоуправлению об организации геологоразведочных работ на острове Вайгач. Папе поручили как старшему геологу предстоящей экспедиции проектирование геологических работ. Таким образом он получил возможность продолжить изучение геологии Вайгача, в чем был чрезвычайно заинтересован.
Предстоящую геологическую разведку полезных ископаемых целесообразно было дополнить новыми методами, такими как геофизические. В связи с этим папа предложил принять участие в экспедиции Люсе. Надо было пройти небольшую подготовку и в качестве техника приступить к работе. Госэкзамены в институте она так и не сдавала. Папа и мама считали, что для Люси это выход из положения, раз ее душа не лежит к педагогике. Так Люсин «диванный период» закончился, и перед ней открылось интересное поле деятельности.
Как видно из приказа по Севгеоуправлению2, экспедиция состояла из 95 человек вольнонаемных и заключенных. В вольнонаемной части кроме Люси было еще шесть женщин. Это жены геологов и геофизиков, и одна девочка семи лет — дочка одного из геофизиков. Экспедиция планировалась на два года. Базироваться она должна была на севере острова в бухте Дыроватой. В начале октября первая партия экспедиции в количестве 11 человек отбыла на Вайгач с пароходом «Сорока». Начальник экспедиции Г. Раков издал приказ, по которому «руководящим и ответственным как за имущественно-материальные ценности, отгруженные с этим пароходом,
2 Приказ № 150 начальника СП У П.К. Кузьмина от 03.10.1940 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
так и за весь состав экспедиции до моего приезда и главного инженера назначается ст. геолог Виттенбург Павел Владимирович»3.
Люсю по возможности снарядили для суровых условий Севера. Она очень волновалась — справится ли с работой, как сложатся отношения с незнакомыми людьми? Опорой, конечно, был папа. Помню, как мы ее провожали на Московский вокзал в открытой машине. От волнения ее всю дорогу тошнило. И, действительно, этот шаг — поездка на Вайгач — оказался решающим, он сформировал всю дальнейшую ее жизнь.
О том, как проходила эта экспедиция, можно узнать только из нескольких сохранившихся папиных писем.
Вольнонаемный состав экспедиции и лагерь заключенных находились рядом. Помещения для всех не хватало, люди жили в палатках. Первым делом занялись строительством. Разделили обязанности. Папа ведал постройкой амбулатории, стационара, электростанции и собачника. Вначале специалистов поселили по две семьи в одной маленькой комнате, спальные места — в два яруса. Папа и Люся оказались вместе с молодой супружеской парой Сапрыкиных: Николаем Михайловичем — геофизиком и его женой Лидией Александровной, которая считалась его помощником. Теснота, разность характеров и близость молодой незамужней женщины привели к осложнениям. Этому способствовала и возникшая взаимная симпатия Николая Михайловича и Люси. Обстановка накалилась настолько, что Сапрыкиным предоставили другое помещение.
В этот предвоенный год как в экспедиции, так и по всей стране начальство «закручивало гайки»: устанавливало железную трудовую дисциплину: за опоздание на работу — строгий выговор или административная высылка. В Дыроватой был установлен рабочий день с 8 часов утра до 4-х часов дня, введены индивидуальные номерки, которые каждый работник на это время вывешивал на табельную доску, отсутствие номерка являлось свидетельством прогула. Всему научному персоналу надлежало работать вместе в одной общей комнате. Из письма папы: «Приходится работать в тяжелых условиях с нелепым хождением в общую комнату, где тесно, сыро и душно. На дому не разрешается работать. Дома у меня тепло, тихо и уютно — приходится работать непродуктивно и плохо в создаваемых начальством условиях. Неподчинение карается отдачей под суд».4
3 Приказ № 7 Начальника Вайгачской экспедиции СГГУ Г. Ракова от 08.10.1940 //Личный архив Е.П. Виттенбург.
4 Письмо П.В. Виттенбурга к З.И. Виттенбург от 01.04.1941 // Там же.
Доходило до того, что в Арктику для разбора конфликтов среди зимовщиков прилетал на самолете профессиональный судья. В феврале 1941 года суд рассматривал на Дыроватой два дела: топографа из вольнонаемных и коллектора из заключенных. Из зимовщиков были выбраны два заседателя. Суд присудил топографу, побившему врача, штраф в 150 рублей, а коллектора-заключенного, дебоширившего по пьянке, — оправдал. Папа писал:
«Если бы судья мог совершить круговую поездку по полярным станциям и точкам, то, наверное, вся Арктика работала бы бесплатно5. Так, например, был суд на Вайгачской [радиостанции. Во время пьянки метеоролог ударил начальника станции, который требовал материал наблюдений для передачи. Не получил его или получил вымышленные цифры — подрались. Метеоролог получил один год. Таких случаев бесчисленное множество, но виноватых и пострадавших вывозят на самолетах. Одним словом, Арктику очищают от всякого балласта, но легче протекала бы работа, если бы не ввозили спирт — это зло порождает много бед. А у нас, как правило, дается 100 г 98° спирта в дни праздников, и результат — опьянение и драки. Странно уживаются — попойки и суд»6.
Праздники отмечались не только пьянством, но и танцами. Без Люси они не обходились, и она пользовалась большим успехом. К огорчению папы танцы продолжались всю ночь, а на следующее утро в 8 часов надо было находиться уже на рабочем месте. Но без танцев в те годы уже не обходился ни один праздник, и папа писал домой, что нужно девочек учить танцевать, купить патефон и пластинки с танцевальной музыкой.
Ко дню рождения семилетней дочки геофизика Тархова папа задумал приготовить для нее подарок — кукольный домик, состоящий из кухни, ванной, столовой, гостиной и спальни, наподобие того, который был у нас в Ольгино. Изготовлением домика и его убранством увлеклись и взрослые. В результате получился прелестный домик, девочка была в восторге, а взрослые сожалели, что он только кукольный: на материке все жили в коммунальных квартирах.
Люсе поручили оформление экспедиционной стенгазеты «Полярныйразведчик», с чем она успешно справлялась. Кроме того, она обучала русскому языку и арифметике группу охранников. Больше ни одна из женщин, однако, не находила нужным делать что-либо общественно полезное.
5 Осужденным денег не платили.
6 Письмо П.В. Виттенбурга к З.И. Виттенбург от 27.02.1941 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
В этой экспедиции с папой случились два происшествия, едва не стоивших ему жизни. Однажды он угорел в плохо вытопленной бане — потерял сознание, пульс пропал. Едва его отходили. Другой случай связан с поездкой в полярную ночь.
«Я на днях ездил на собаках с главным инженером Лебединцевым на место наших будущих работ — гору Медную. Поездка была организована помимо моего желания не так солидно, как я того хотел и без опытных каюров. Поручение было выполнено, но чуть оно мне не обошлось жизни или увечья. Мы были уже в видимости огней нашего дома, стояла темная ночь, видимости не было никакой, и собаки резко свернули к дому, а я вместе с повозкой и собаками полетел под откос. Сани разбились, а я, управляя собаками, летел через их головы и сани вперед, что оградило меня от удара. Я хлопнулся лишь правым плечом и боком. Встряска была весьма внушительная, но без членовредительства. Умный передовик вырвался и первым прибежал домой, где немало напугал Люсеньку. Через некоторое время привел я собак — свою упряжку, но без саней. Невольно утешаешь себя пословицей: хорошо то, что хорошо кончается»7.
В январе 1941 года по поручению экспедиции папа поехал на двух упряжках с ненцем Иванком Валейским на Амдерму. Надлежало получить картографический материал для полевых работ. 22 января только-только встал Югорский Шар, но по тонкому льду в 10—12 сантиметров они благополучно пересекли пролив. В Хабарове, на полярной станции Югорский Шар и в Амдерме произошли приятные встречи со старыми знакомыми — в Амдерме оказался В.М. Махоткин, который чинил самолет после аварии. К счастью, жертв не бьио, так как благодаря мягкой посадке бензин в баках не взорвался.
В Амдерме папа еще раз убедился в том, что оценка месторождения флюорита (плавикового шпата), сделанная им и К.Д. Клыковым, с самого начала была правильна, также как и правильно определено направление разработок. Добыча шла успешно, теперь возникла необходимость в обогатительной фабрике.
Отдел пропаганды и агитации райкома ВКП(б) (такой уже был там) предложил папе прочесть лекцию. В местной газете «.Полярная звезда» была помещена заметка под названием «Интересная лекция»: «В воскресенье 26 января, в переполненном Амдерминском клубе состоялась интересная лекция. Профессор-геолог, исследователь крайнего Севера тов. Виттенбург
7 Письмо П.В. Виттенбурга домой от 09.12.1940 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
рассказал о полезных ископаемых побережья Карского моря, об истории развития промышленности на Севере и истории Амдермы»8.
На базе экспедиции, в Дыроватой, папа также прочел лекции по геологии и истории завоевания Арктики. Там же были организованы курсы для коллекторов. Но, как выяснилось, никто бесплатно преподавать на курсах не пожелал. Вел занятия один только папа.
В Севгеоуправлении предстояли перемены в связи с последствиями проводимой там ревизии. Обнаружились хищения имущества, в том числе и Вайгачской экспедиции. Действительно, экспедиция многое не дополучила: запчасти для вездехода, обувь, спецодежду и многое другое. Оказался замешенным весь хозяйственный аппарат. «Удивляюсь, — писал папа, — как люди, и главным образом партийцы, не усвоили себе метода бережного хранения государственного имущества. Как только доберутся до хороших вещей — сразу воруют»9.
Зимние работы шли своим чередом. Иногда удавалось папе покататься на коньках по заливу, особенно хорошо бывало в лунную ночь. Люся предпочитала в компании бегать на лыжах. Неожиданно получили известие из центра, что ассигнования на экспедицию сокращены наполовину, а по геофизике на 2/3. Там решили, что в условиях Арктики геофизические методы мало эффективны, с удивлением писал папа домой10.
Когда только сошел снежный покров, все выехали в поле. Папа в одном из писем писал:
«Будучи летом на полевых работах в тундре, я был отрезан от мира и ничего не подозревал. Когда же война уже была в полном разгаре, я узнал об этом ужасном действии извергов-фашистов, которые как никто и никогда нарушили договор о ненападении и дружбе. Меч поднят — будем биться до тех пор, пока ни одного фашиста не останется на нашей территории. <...> Полевые исследовательские работы развернулись по плану в первой декаде июня месяца. На работу выехали на оленях. Олени были очень слабы, и их пало пять штук, так они были истощены суровой зимой. Это первый случай в моей многолетней практике. Возможно, это произошло потому, что были у меня не островные, а олени, доставленные нам с материка. Оставшиеся мною береглись, и я все лето работал на них вполне успешно. Мы должны были работать до
8 Вырезка из газеты в письме от 06.02.1941 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
9 Письмо П.В. Виттенбурга домой от 27.02.1941 // Там же.
10 Письмо П.В. Виттенбурга к З.И. Виттенбург от 04.04.1941 // Там же
1-го октября, а затем в зависимости от результатов продлить работу и в будущем году, оставаясь на вторую зимовку. В связи с войной срок был сокращен на один месяц, при этом план и объем остались те же. Напрягая все силы, работая по 12 часов, а часто и по 14 часов, я выполнил план на 180%. 26 августа было получено сообщение о свертывании работ и возвращении на материк. Работа кончилась, 6-го октября погрузились на пароход. Путь был сложный»11.
В Баренцевом, а затем и в Карском море появились немецкие подводные лодки. Они нападали на транспортные суда и на военные корабли, сопровождавшие их, а также на полярные радиостанции. Станции должны были давать сводки погоды — без них мореходство невозможно, а экспедиции надо было вывозить на Большую землю. 17 октября Вайгачскую экспедицию благополучно доставили в Архангельск на пароходе «Охта» под конвоем трех военных кораблей. В письме от 7 ноября папа со скорбью вспоминает о гибели ледокольных пароходов «Малыгин» и «Садко». «Малыгин» затонул в восточном секторе Арктики от перегрузки во время шторма. На нем все погибли, в том числе и любимый папин ученик по университету гидролог Георгий Ефимович Ратманов, выдающийся молодой ученый.
В Архангельске папу назначили начальником Госгеоконтроля и редактором печатных изданий СГГУ. Члены экспедиции приступили к составлению предварительных отчетов, папа подготовил сводный отчет по научным результатам экспедиции «Геология острова Вайгача и структура рудных полей», представлявший первый том общего отчета, который сразу же попал под гриф «секретно»12.
За стахановскую работу папу премировали отрезом на костюм. Соответственно порядку, установленному для полярников, по возвращении из зимовки у них отбирали все казенные теплые вещи, выкупать их за собственные деньги не разрешалось. В результате папа и Люся остались без зимних вещей, так как их теплые пальто и обувь находились в Ленинграде. Сапоги папа позже получил на Воркуте в качестве вознаграждения за прочитанную лекцию. В экспедиции не хватало витаминов, острая потребность в них заставила папу несколько раз ездить в деревню за овощами — капустой, брюквой и картофелем. В городе их купить было уже невозможно.
11 Письмо П.В. Виттенбурга к З.И. Виттенбург от 19.10.1941 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
12 Виттенбург П.В. Рудный пояс берегов Карского моря. Л., 1947. Рукопись. С. 3 //Там же.
В ленинградской жизни 1940 год имел свои приметы. В марте финская война закончилась и был подписан мирный договор. Шура Алешко, в прошлом воспитанник Лахтинской экскурсионной станции, был призван в Красную армию. Его часть принимала участие в «освобождении» Белоруссии после известного сговора между Сталиным и Гитлером. Шура вернулся в Ленинград горячим патриотом, воодушевленный успехами и распропагандированный политработниками армии. Он уверял нас, что теперь западная граница Советского Союза укреплена куда лучше, чем линия Мажино (оборонительный рубеж между Францией и Германией, вскоре взятый немецкой армией). Шура говорил, что видел своими глазами неприступные заградительные укрепления. Ни одна техника в мире преодолеть их не сможет. Как-то верилось и не верилось... Несмотря на тревожное настроение, повторяющиеся учебные воздушные тревоги, хотелось надеяться, что жизнь идет вперед, а впереди — счастье.
Я оканчивала десятилетку13. Главное, меня увлекала музыка, и в ней я видела свое будущее. Мой учитель Соломон Яковлевич Дубилет, не полагаясь только на свое суждение, показал меня профессору В.И. Шеру в Консерватории. По мнению профессора, поступить в Консерваторию я смогу года через два, несмотря на то что так поздно начала учиться. Таким образом, мой путь определился.
В нашу, и особенно в мою жизнь, вошел новый человек — это мой учитель музыки Соломон Яковлевич. Он был яркой артистической личностью, широкообразованным человеком, тонким музыкантом. Будучи концертмейстером симфонического оркестра Кировского театра (теперь Мариинского), выступал в квартетах по радио, имел класс в музыкальной школе и еще был прекрасным пловцом. Он очень нравился маме, стал часто у нас бывать и еще чаще приглашать нас на спектакли Кировского театра. Сначала я ходила с Люсей, после ее отъезда — с Никой или мамой, а то и одна. Благодаря Соломону Яковлевичу мы посмотрели все балеты с Галиной Улановой и многие оперы. В то время в Театре оперы и балета не существовало контролеров-билетерш при входе в театр. Вы раздевались и свободно входили в зрительный зал, где вас встречал капельдинер, который, глядя на билет, показывал ваше место. Капельдинером в партере был седой степенный человек в черном костюме, полный собственного достоинства и вместе с тем любезный. Только после войны появились билетерши.
13 Эту школу я не любила — класс наш был сборный, разнородный, учителя тоже были случайные. Выпускные балы тогда не устраивались. Мы просто собрались дома у одного из одноклассников, сфотографировались. Договорились встретиться все вместе на следующий год 1 сентября. Эта встреча не состоялась — почти все мальчики погибли на войне.
В ту пору Кировский театр находился в расцвете своих творческих сил. Его художественным руководителем был А.М. Пазовский. Он добился замечательного музыкального совершенства от звучания вокалистов и оркестра. Помимо основной сцены действовал филиал театра в помещении Народного дома. Им руководил Н.К. Печковский. В те годы созданы шедевры балетных и оперных спектаклей. 18 января 1940 года состоялась премьера балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Л. Лавровского, художник П. Вильяме. Красота, трогательность этого балета, его художественное совершенство известны. Танец и игра Галины Улановой вместе с Константином Сергеевым запали глубоко в душу на всю жизнь. Я была на премьере, даже помню место, где сидела.
Как тогда было принято, в Москву приглашались с показом своих достижений в области искусства разные республики, а также большие города. В мае 1940 года ленинградские театры и Филармония демонстрировали москвичам лучшие спектакли и концерты. Театр имени Кирова показал три оперы и четыре балета на сцене Большого театра. На многих спектаклях присутствовали члены правительства. Успех был огромный. Наш театр затмил Большой. 29 мая в Большой кремлевский дворец были приглашены участники показа театрального и музыкального искусства Ленинграда. Георгиевский зал, заставленный столами с яствами, принимал артистов. Присутствовало все правительство во главе со Сталиным. Среди приглашенных был и Соломон Яковлевич. Позже он рассказывал о необычайном подъеме, царившем на этом вечере. Кстати сказать, Соломон Яковлевич, так же как и Тамара Александровна, прекрасно понимал жестокую сущность советской власти и оставался при мнении, что Октябрьский переворот — огромная трагедия для России. Однажды у Соломона Яковлевича был со мной разговор на эту тему, и он просил, чтобы я никогда никому не высказывала подобных суждений.
У нас в квартире произошли изменения: Б.С. Лысенко, энкавэдэшник, перестал пьянствовать и уходил днем на работу. Он предложил нам пользоваться его телефоном и даже заниматься в его комнате. Ключ оставлял в условленном месте в коридоре. Это нас очень устраивало, так как вносило разрядку в наши стесненные условия жизни. А как был нужен телефон!.. Зато сосед с другой стороны стал нещадно пить. В пьяном виде он отличался воинственностью, стремился что-либо сокрушить, затем засыпал, стоя среди коридора, опершись спиной об одну стену, а голову склонял на руки, упиравшиеся в старинную дубовую вешалку с перекладиной для зонтов, стоявшую у противоположной стены коридора. Таким образом, в кухню, ванную или уборную можно было проникнуть только подлезая под ним, как под мостом.
Нам удалось прописать в квартире нашу домработницу Маню. Она была очень довольна и писала Люсе на Вайгач, что любит нашу семью и готова всем помочь. Приближалось лето. Мама получила премию от ЦК профсоюзов — детскую путевку на Кавказ по Сталинским местам. Мне вместе с детской туристической группой предстояло посетить Баку, Тбилиси, Гори, Батуми и Зеленый мыс, познакомиться с революционной деятельностью великого вождя. Путешествие оказалось очень интересным, так как заданная тема утонула во впечатлениях от замечательной кавказской природы, красоты южных городов, национальных особенностей жизни.
На это лето мама нашла чудесное место для отдыха у истоков реки Луги. Там представилась возможность снять домик пасечника среди лугов и в окружении леса. Мама пригласила поехать и Соломона Яковлевича. Сложилась приятная компания — мама, Ника с Танечкой, Люся и Соломон Яковлевич. Место называлось Теребони — в прошлом имение какого-то князя, по-французски Terre bonne — «хорошее поместье». Находилось оно далеко от железнодорожной станции, километров десять. Все было бы прекрасно, если бы в конце августа, когда я уже вернулась с Кавказа, а Соломон Яковлевич приступил к работе в театре, не заболела бы Танечка. У нее открылась дизентерия. Ее положили в сельскую больницу, но лечить оказалось нечем, так как бактерицид еще не изобрели. Танечке становилось все хуже и хуже. Она умерла. Отчаяние охватило всех. Как вернуться в Ленинград? Меня послали за помощью к Соломону Яковлевичу. Рано утром, едва рассвело, я побежала на станцию, успела на поезд и явилась к Соломону Яковлевичу до его ухода в театр. Он нашел машину, выбрал место на Шуваловском кладбище на горе над озером, и мы на специальной машине выехали в Теребони. Танечку похоронили в красивом месте среди сосен. Ника осталась с разбитым сердцем, потеряв смысл жизни. Она жила с нами, пыталась готовиться к экзаменам, но могла только плакать.
Папа чувствовал, что занятия в институте у Ники не ладятся. Его это очень беспокоило. В письме с Вайгача он писал маме: «Неужели ни одну нашу дочку мы не сможем вытянуть в люди с дипломом, а должны остаться посредственностями-дилетантами», и далее: «Цель жизни и работы должна стоять четко и определенно перед каждым из нас. Для наших детей это: получить высшее образование и защитить диплом, дальнейшее определится само собой и будет следовать из диплома и суммы знаний».14
14 Письмо П.В. Виттенбурга к З.И. Виттенбург от 04.04.1941 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
Оставаться дальше у Екатерины Михайловны Лежоевой, матери бывшего мужа, Ника не могла — слишком тяжело все напоминало об утрате. Уже в 1941 году благодаря Тамаре Александровне нашли ей временно комнатку в коммунальной квартире в том же доме на Карповке, где жила Тамара Александровна, только на 6 этаже15. Бывшие хозяева квартиры, инженер Никольский и два его сына — студенты, были арестованы и расстреляны, жена выслана в Боровичи. О младшем сыне, десятилетнем мальчике, заботилась няня Елена Дмитриевна. Квартиру ЖАКТ заселил разными людьми, а шестиметровая комната при кухне осталась свободной. Но пока Ника жила с нами.
В 1941 году врачей готовили к предстоящей войне. Маму дважды направляли на специальные курсы в Травматологический институт и в I медицинский институт, где обучали современным методам борьбы с химическими отравляющими веществами.
Готовясь к поступлению в Консерваторию, я много занималась. Иногда удавалось поиграть с мамой разные пьесы и концерты. Мама хорошо чувствовала ансамбль и охотно аккомпанировала. Мы обе очень любили подобное музицирование. Когда Соломон Яковлевич был свободен, то приходил к нам. В такие вечера читали с удовольствием вслух «Анну Каренину». Читали он и мама попеременно — у них хорошо получалось.
Как-то в ясный морозный день мы вместе поехали в недавно отвоеванную Куокколу (теперь поселок Репино) посмотреть Пенаты, домик Ильи Ефимовича Репина. Художник там провел последние годы своей жизни. Перед нашими глазами возникли даже не развалины, а пустое место. Среди снега нашли лишь куски спекшегося стекла: во время военных действий дом с мастерской сгорели дотла.
Жизнь в ту первую половину 1941 года была самой счастливой для меня. Соломон Яковлевич попросил согласия у мамы на наш брак. Мама немного растерялась, так как считала меня слишком молодой и еще не получившей специальности, и тем самым самостоятельности, но согласие дала, предложив немного повременить. Я имела друга, с которым могла обо всем поговорить, посоветоваться, разрешить мои сомнения. Благодаря тому, что он был старше меня, то во многом понимал меня лучше, чем я сама себя. Мне нравилось, что он требовал на уроках тщательного исполнения, был очень строг и взыскателен. В это время у меня сложилось убеждение, что первым свидетельством порядочности человека является его добросовестность в работе.
Однажды весною среди дня Соломон Яковлевич пригласил меня в ресторан на «крышу» Европейской гостиницы. На «крыше» под стеклянным
15 Набережная р. Карповки, 19, кв. 52.
навесом, среди вьющихся растений, отделяющих столики друг от друга, было очень уютно. Днем публики было мало. Звучала музыка. Играл небольшой струнный оркестр. Соломон Яковлевич попросил оркестр сыграть «Очи черные». Музыканты извинились, сказав, что это невозможно, вернее, запрещено, так как этот романс считался гимном белой эмиграции.
В начале 1941 года Кировский театр начал работу над постановкой оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин». Дружба с Германией подтверждалась у нас демонстрацией уважения к немецкой музыке, а у них к русской: берлинская опера готовила премьеру оперы П. Чайковского «Чародейка».
Работа над «Лоэнгрином» велась с увлечением. А.М. Лазовский тщательно следил за всем. Соломон Яковлевич, будучи концертмейстером, много отдельно репетировал со своей группой скрипок. Постановку осуществлял В.А. Лосский, дирижировал О.М. Брон. Художник С.Б. Вирсаладзе превзошел себя — так великолепна была изобразительная сторона спектакля. Некоторые роскошные костюмы были взяты из гардеробных Зимнего дворца. К середине июня репетиции были закончены. 17 и 20 июня — премьеры. Мне посчастливилось присутствовать на 2-й генеральной репетиции 14 июня. Успех был огромный. Опера предстала как единое художественное целое: звучание оркестра, вокалистов, декораций и костюмов сливались воедино. Передо мной в партере сидел дирижер Д.И. Похитонов. Он и его окружение восхищались спектаклем. В антракте Похитонов воскликнул: «Я готов встать на колени перед этой красотой!» Действительно, все вместе взятое вызывало молитвенное чувство восторга. (Во время войны костюмы и декорации сгорели.)
20 июня прошла вторая премьера также с выдающимся успехом. Казалось, спектаклю предстоит долгая жизнь на сцене — огромный труд всего коллектива принес театру славу.
Через день — выходной. Мы все вместе собрались поехать погулять в пригородных парках, погода прекрасная, солнце сияло! Вдруг по радио слышим голос Левитана — Германия напала на Советский Союз. Война!.. Страшное смятение... В одно мгновение жизнь перевернулась. Я побежала к Соломону Яковлевичу узнать, что же делать?
Сразу на всех углах включили громкоговорители. Оттуда неслись военные призывы, песни и сводки. Каждому жителю выдали противогаз, обучили им пользоваться. Запрещалось выходить из дома без противогаза. С первых же дней ждали нападения на город с воздуха. И, действительно, налеты авиации не заставили себя ждать. Сигналы воздушной тревоги — завывание сирен как по радио, так и во дворах домов — звучали по
нескольку раз в день. Во время тревоги по радио громко и часто тикал метроном. Отбой возвещали звуки горна, метроном стучал реже. В первое время воздушные бои велись за пределами города, в сам город бомбардировщики не прорывались.
На следующий день после объявления войны Соломон Яковлевич был вызван в военкомат. Как имеющего бронь, его отпустили. Тревожное настроение и повышенное чувство личной ответственности побудили Соломона Яковлевича не посчитать себя в праве пользоваться броней, и он решил вступить в народное ополчение. 2 июля я пришла проводить его до военкомата. На прощанье он взял в руки скрипку, и Чакона Баха зазвучала во всей трагичности своих аккордов и созвучий. Его зачислили в артиллерийский полк и направили на подготовку в распоряжение части, расположенной в здании Лесотехнической академии.
Маму перевели на казарменное положение как члена группы усиления по противовоздушной обороне Выборгского района. Ника вскоре поступила на курсы шоферов. Я пошла работать в мамину поликлинику счетоводом с параллельным обучением в кабинете рентгенологии. О поступлении в Консерваторию нечего было и думать. Продолжать заниматься музыкой стало невозможно.
Всех свободных от воинской обязанности, и нас с Никой в том числе, включили в группу местной самозащиты. Надлежало нести круглосуточное дежурство около дома, следить за порядком, светомаскировкой, а в случае налета авиации — быть готовым тушить зажигательные бомбы. Время от времени направляли нас на какие-либо срочные работы, например, «добывать» уголь со старых платформ Финляндской товарной.
Оконные стекла в домах города запестрели наклеенными крест-накрест полосками бумаги. Считалось, что это предохранит их во время бомбежки от удара воздушной волны. Золоченые шпили Петропавловской крепости, Адмиралтейства покрыли специальными чехлами, а может быть, шпиль Петропавловского собора, как и купол Исаакиевского собора, покрасили? Во всяком случае над городом ничто не блестело. Здания Смольного и площади около них накрыли маскировочной сеткой. Мостовые некоторых площадей города окрасили в яркие цвета, переходящие на стены домов. Ночью над городом повисали аэростаты, похожие на дирижабли. Отряды новобранцев строем проходили по городу.
1-й медицинский институт набирал студентов на первый курс. Чтобы не терять времени, я стала готовиться к вступительным экзаменам. Этого хотел Соломон Яковлевич. Он видел во мне задатки врача. Впоследствии я поняла, как он был прав. Пройдя коллоквиум, успешно сдала все экзамены
и была принята. Читая списки зачисленных — плакала, так как узнала, что с этого дня консерватория объявила прием на теоретическое отделение. Но для меня путь туда был уже закрыт.
Едва нас зачислили студентами, как тотчас же отправили на рытье противотанковых рвов, как потом выяснилось, под Ораниенбаум. На площади перед Балтийским вокзалом набралось много народа — это те, кто ехал на работы, и те, кто семьями с домашним скарбом бежали из западных областей. Оказывается, туда уже подступили немцы. Нас долго везли в темном поезде, затем строем шли по темной дороге... Что, где, куда — неизвестно: кругом сплошной мрак. Привели нас в деревню, разместили на чердаках разных домов. Утром увидели поле, залитое солнцем, полосы спелой ржи, луга — тихая мирная картина конца лета. С утра до вечера мы рыли рвы лопатами. Не скажу, что было тяжело физически — все мы молоды, но ужасная тоска сжимала сердце — крушение всей прежней жизни. Временами в небе появлялись немецкие бомбардировщики. Они летели бомбить аэродром, расположенный недалеко от нас. Тогда мы ложились на траву, прикрывая голову лопатой. Страшно не было. Недели через две нас вернули в город. А следующая смена едва спаслась бегством от быстрого наступления немцев.
В Ленинграде нас поразило скопище беженцев. На вокзале, на площадях города сидели с узлами люди. Горько было на них смотреть. Город приобрел новый вид, он как бы ощетинился. На перекрестках улиц окна первых этажей угловых домов закладывали кирпичами, оставалось лишь отверстие для дула пулемета — это доты. Памятники обкладывали мешками с песком и зашивали досками, также как витрины магазинов. Статуи Летнего сада закопали в землю. Продолжался набор в народное ополчение. Люди наскоро обучались и отправлялись на фронт. Они шли по улицам города, их сопровождала, создавая ощущение неотвратимости, тяжелая поступь песни Александрова «Вставай, страна, огромная, вставай на смертный бой...», а со стен домов и с газетных киосков смотрели им вслед плакаты: «Что ты сделал для фронта?» «Защитим Ленинград своей грудью!»
Тревоги стали чаще. В одну из ночей фашистские самолеты засыпали город зажигательными бомбами. Бомбы были небольшие, набросали их множество. Мы, охрана дома, знали, что делать — бежать на чердак. С крыши зажигалки надо сбросить щипцами вниз на асфальт и засыпать песком, который припасен в больших количествах на чердаках и внизу около дома. Крышу быстро обезопасили, и тогда увидели, что загорелись сараи рядом с домом. Кинулись туда. Выбежав на Вологодскую улицу (теперь улицу Чапыгина), я увидела, что напротив нашего дома под деревьями сада
у бывшего ресторана «Эрнест» горят зажигалки. Красота увиденного поразила: золотые деревья (та осень была золотой), черные стволы, около них золотой пламень догорающих зажигалок! Промелькнуло в голове — вот декорации к опере Вагнера «Золото Рейна»...
В нашем районе зажигалки особого вреда не принесли. В саду Госнардома эффектно горели «Американские горы». На следующий день удивлялись грандиозному облаку в перспективе Кировского проспекта, говорили, что это горят Бадаевские склады и именно этот пожар стал причиной голода.
Занятия в институте начались обычным образом. Лекции. Анатомичка. Вот здесь я почувствовала, что не смогу переступить через чувство жалости, смешанного с отвращением к препарированному телу человека. Вскоре выяснилось, что институт эвакуируется в Пятигорск. Я попросила меня отчислить: мы не хотели уезжать из Ленинграда, были уверены, что город не будет отдан врагу. Здесь наш дом — зачем ехать куда-то? Мама считала своим долгом работать в Ленинграде, да как врача ее и не отпустили бы. Ника училась на курсах, а я и подавно не могла думать об отъезде.
8 сентября замкнулось кольцо блокады. Но мы этого еще не знали.
В ярких красках осени в парке Лесотехнической академии Соломон Яковлевич простился со мной. Меня не покидало неуместное чувство уверенности, что он вернется здоровым и невредимым, с ним ничто не может случиться. Наутро следующего дня полк уже сражался на одной из передовых линий обороны города — на Пулковских высотах. Взвод, которым командовал Соломон Яковлевич в звании младшего лейтенанта, занимал наблюдательный пункт на переднем крае обороны. По почте пришло несколько открыток и в том числе с просьбой прислать для взвода суррогатный кофе и малиновый чай. Не прошло и трех недель, как во время одного из жестоких обстрелов утром 3 октября Соломон Яковлевич был ранен осколком снаряда в брюшную полость. На открытой телеге его привезли в госпиталь 2222 (больница имени Мечникова), где он 4-го октября к вечеру умер, находясь в полном сознании. О его ранении мы узнали на следующий день от старшины взвода, который с опозданием выполнил его последнюю просьбу. Начальник госпиталя разрешил похоронить его индивидуально на Шуваловском кладбище. За год до этого Соломон Яковлевич сам там выбирал место для Танечки, не подозревая, что и ему суждено вскоре здесь покоиться. Над озером по-прежнему царили красота и спокойствие...
Тревоги звучали почти беспрестанно днем и ночью. К бомбежкам присоединились артиллерийские обстрелы. Они были еще хуже бомбежек, так как об их начале невозможно было предупредить.
Мы вся еще обитали на Кировском. Жильцов в коммунальной квартире поубавилось: кто на казарменном положении, кто эвакуировался. Две бомбы упали перед нашим домом посередине улиц — на Кировском проспекте и на Вологодской улице. Мы, как и многие, перестали спускаться в бомбоубежище, стали фаталистами. Как-то раз во время одной особенно сильной бомбежки, спустившись на первый этаж нашей парадной лестницы, чтобы не прислушиваться ни к выстрелам зениток, ни к разрыву бомб, мы бодро играли в «буковку».
Многочасовой бомбежкой была отмечена ночь на 7 ноября. Мы все в маминой поликлинике. Разрывы слышались после пронзительного свиста летящих бомб. Значит попадание близко... Сидели в оцепенении. Мама, как всегда, не теряла присутствия духа. Вспоминали ужасную грозу на Валдае. Тогда было даже страшнее. Отбой. На этот раз пронесло.
Очень беспокоились о папе и Люсе. Надо было узнать, где они, что с ними? Известий не было. Почтальоны писем уже не разносили. Однажды мама зашла на наше 22 почтовое отделение. Там иногда сваливали в кучу всякую корреспонденцию. В сумерках угасающего дня несколько женщин рылись в письмах. Случайно в руках одной из женщин маме бросился в глаза знакомый почерк — это была открытка от папы. Он писал, что они с Люсей благополучно вернулись в Архангельск и ждут нас.
Зима наступала быстро. На Кировском в нашей большой комнате жить становилось невозможно. Центральное отопление не действовало, электричества не было, водопровод, канализация замерзли. Нам на помощь пришла Наташа Парманина, хорошая знакомая Соломона Яковлевича, дочь альтиста оркестра Кировского театра. Мы встречались еще до войны. Она жила на Васильевском острове, в доме на углу Первой линии и проспекта Пролетарской победы (Большого проспекта) в комнате с печным отоплением. Ее отца поместили в больницу из-за тяжелого заболевания ног. Наташа пригласила нас к себе. Перебрались мы втроем, так как мамина поликлиника уже не могла никого держать на казарменном положении. Никины курсы шоферов прекратили существование, так как в городе кончилось горючее. Жизнь в городе в пределах нашей видимости замирала.
Борьба за существование невольно стала содержанием нашего бытия. Как и везде, ни водопровода, ни канализации, ни электричества не было. Для освещения обзавелись коптилкой — мисочкой с каким-то маслом или керосином и фитильком. Добывать воду здесь оказалось сравнительно легко: в красном кирпичном маленьком домике на Съездовской линии в коридоре был кран. Этот домик принадлежал воинской части. Мы не без робости туда входили и наполняли чайник и какое-то ведерко. У Наташи был
запас дров, благодаря чему в комнате было более или менее тепло. Сложнее оказалось с отправлением естественной нужды. Приходилось направляться в сугробы напротив дома на проспект. Но, главное, нас мучил голод.
В свое время мама отнеслась с полным доверием к призыву Молотова, прозвучавшему в июне по радио: сохранять порядок и спокойствие, не создавать запасов продуктов. Поэтому вначале мы даже не все продукты выкупали по карточкам. Запасов у нас никаких не было. Как-то при тщательном поиске в шкафу на Кировском нашлась коробочка с сухим зеленым горошком, оставшаяся еще, наверное, со времен НЭПа. В каждой горошинке была червоточина и сидел червяк. Я все горошины перебрала, червяков вынула, и мы сварили суп. Это было начало ноября. Позже такой расточительности мы бы себе не позволили — с червяками наваристее. По карточкам продуктов отпускалось все меньше и меньше. Вначале, пока еще был картофель, пекли из шелухи лепешки с кофейной гущей. Оказались они вполне съедобными. Подогревали ломтики хлеба, запивая их кипятком из прелестного Наташиного самовара. Самоварчик был маленький, как раз хватало принесенной воды.
В начале декабря находили еще силы музицировать — это отвлекало от мучительного чувства голода. Мама играла на рояле, аккомпанировала мне, с Наташей играла в четыре руки, а мы с Наташей, сидя за столом перед коптилкой, разыгрывали дуэты на двух скрипках. В один из декабрьских дней, по-моему, 19-го, была последняя бомбежка. Из-за сильных морозов фашистские самолеты не могли летать, но артобстрелы продолжались. Не обращая внимания на воздушную тревогу, мы с мамой иногда музицировали. В один из таких дней раздался страшный грохот, дом содрогнулся и все замолкло. Мы продолжали играть. Когда кончилась тревога, вышли встречать Нику. Утром она отправилась на Сытный рынок менять вещи на что-либо съестное. Выйдя во двор, увидели, что оба крыла нашего дома лежат в руинах. Та часть дома, где мы жили, была между ними посередине, за церковью Св. Екатерины, построенной Фельтеном в XVIII веке.
Мы очень волновались за Нику, так как встречавшиеся люди сказали, что Сытный рынок бомбили. Ведь в то время, расставаясь даже ненадолго, невольно думалось, а может быть и навсегда! В волнении идем к Тучкову мосту, и, о счастье, навстречу — Ника! Она была потрясена происшедшим на рынке и долго не могла прийти в себя.
Морозы крепчали... Как-то маме удалось купить или выменять на рынке валенки для всех нас троих. Это было делом первостепенной важности.
Несколько раз в неделю мама должна была ходить на работу. Зима была необычайно снежная — сугробы в рост человека. Морозы лютые. Чистить снег, собственно, было некому да и не для чего — транспорта в
городе не было. Заиндевевшие трамваи стояли словно привидения. Они остались там, где их застали обстрел, бомбежка или отключение электричества. Благодаря солнечным дням и чистому воздуху город, опушенный снегом и в инее деревьев, был необычайно красив — ведь не было ни дыма заводских труб, ни домовых котельных. Захватывало дыхание от этой фантастической красоты, но тут же встрепенешься, становилось как-то жутко: зачем эта красота теперь, когда люди уже не нуждаются в красоте природы!
Нева застыла. Весь город был испещрен тропинками, сокращавшими путь пешеходам хотя бы на несколько шагов. По городу двигались закутанные во что придется тени, подпоясанные кушаками или веревочками, к ним большей частью привязывались детские саночки, к которым, в свою очередь, был привязан бидон или пакетик. Многие брели, опираясь на палку — так все-таки легче сохранить равновесие. А терять равновесие непозволительно, упадешь — это смерть. Нет никаких сил подняться, а главное, уже и не хочется — воля к жизни сразу исчезала. Сколько раз доводилось видеть ленинградцев, встретивших свою смерть сидя на ступеньке или распростершись на снегу.
Мы с мамой пускались в путь, повязанные платком или шарфом поверх шапок, чтобы голова не клонилась на сторону — шея от слабости не держалась прямо. Пальто на исхудалых фигурах болталось, приходилось его чем-либо подпоясывать. На мне были валенки большие и от разных пар, но в них было спасение. С Васильевского на Выборгскую путь лежал через Неву, мимо горевшего много дней общежития университета на Мытнинской набережной, мимо зоосада. Здесь обычно маме мучительно хотелось присесть отдохнуть, а этого никак нельзя было допустить. В таких случаях мне приходилось заводить разговор на какую-либо интересную тему — переключить ее внимание и увлечь дальше. А дальше присесть было уже негде. Так тащились мы до поликлиники на проспекте Карла Маркса, дом 4. Некоторое время поликлиники имели возможность поддерживать медицинский персонал, выдавая своим сотрудникам небольшое количество белкового молока. Эту непонятного происхождения жидкость мы бережно несли домой, возвращаясь тем же путем. Однажды на улице Льва Толстого услышали свист снарядов, пролетавших над нашими головами. Мы, как и люди, идущие рядом, решили, что стреляют наши, значит бояться нечего. И вообще отмечу, что мы не видели за всю блокаду никакой паники. Когда мы в другой раз шли тем же путем, то увидели глубокую воронку посреди улицы у 1-го медицинского института, оставленную немецким, а вовсе не нашим снарядом, который угодил в водопроводную трубу. Этой пробоиной воспользовались люди и спокойно по очереди набирали воду. Другая
воронка была у Сампсониевского моста на Большой Невке, к ней трудно было спускаться, но и здесь тоже черпали воду подручными средствами. Нести воду по обледенелому берегу непросто, каждый приспосабливался как мог. Мне запомнился человек, несущий на лыжине, как на коромысле, разной величины кухонную посуду в виде пирамиды, связанной веревочкой — видимо, дома не нашлось более вместительных сосудов. Запомнила эту фигуру, потому что, придя домой, зарисовала ее — настолько она была колоритна.
Во второй половине декабря мы перебрались в дом на набережной Карповки, № 19, где за Никой оставалась маленькая комната. Наташа к тому времени должна была взять из больницы домой своего отца. Начался новый, неимоверно тяжелый период нашей жизни. Все более и более охватывала слабость. Требовалась воля, для того чтобы заставить себя продолжать жить. Сейчас, вспоминая то время, я удивляюсь, как экономно, если можно так выразиться, распорядилась природа: эмоции она полностью приглушила — энергии на них не оставалось. Полная бесчувственность и никакого страха...
Мама где-то раздобыла небольшую железную печурку — буржуйку. Трубу вывели в дымоход ванной комнаты, находившейся за нашей стеной. В комнате кроме буржуйки поместилась узенькая кровать, на которой спала мама, диван, где спали мы с Никой, и маленький столик. Ложась в постель, снимали только валенки и верхнюю одежду.
В то время главными проблемами, как и у всех были: добывать тепло, воду и какую-то еду (продуктов по карточкам почти совсем не выдавалось). Неистребимой жаждой жизни обладала Ника. Если бы не ее энергия по добыванию дров или чего-либо, чем можно топить буржуйку, мы бы с мамой закоченели, у нас явно не хватало сил бороться. Ника разглядела, что через два дома от нас, на улице Литераторов, около школы, свалены в кучу парты. Счастливая находка! Рядом часовой. Вряд ли он охранял парты. Незаметно подкрадываясь, вытаскивали парту и волокли ее по снегу, как сани. Деликатность часового была исключительна — он обычно отворачивался, будто нас не замечал. Свою добычу мы распиливали надвое внизу у парадной лестницы, а затем тащили на шестой этаж с огромным трудом. На кухне ее превращали в маленькие брусочки. Так обеспечивали себя теплом дня на два.
Воду приходилось вытапливать из снега. Проруби или крана нигде поблизости не было. Снег в городе оставался белоснежным, но очень много его надо было натаскать, чтобы получить воду для питья и хотя бы как-то умыть руки и лицо. Суп варить было не из чего. Кто-то подарил нам однажды несколько лавровых листиков. Два дня ели «навар» от них. Спасал нас табак «Золотой якорь», оставшийся от папиного полярного пайка.
На пачку табака иногда удавалось выменять дрова или дуранду (прессованный жмых), варить ее приходилось очень долго. Тяжелым камнем ложилась она в желудок, но все-таки хоть что-то...
К сожалению, я не помню, сколько точно хлеба мы получали по карточкам16. Это был небольшой кусочек на всех, сантиметров 12 в длину и 8 — в ширину. Размер его несколько менялся в зависимости от того, из чего он был изготовлен. Он мог быть очень рыхлым — «пустым» или плотным и тяжелым. Хлеб делили поровну. Этим занималась я. Мама обычно разрезала свой кусок на несколько порций, а мы с Никой чаще съедали весь сразу.
Посещение булочной бывало похоже на посещение клуба: в очереди всегда находился кто-то, кто сообщал радостную весть, например: к Ленинграду движется армия генерала Федюнинского прорывать кольцо блокады. Сведения «совершенно достоверные». Люди приободряются, ждут, но Федюнинского все нет и нет... Другой раз какая-нибудь другая обнадеживающая весть. С жадностью ее ловим. Верили... Надеялись... Интересно, кто-то специально пускал эти слухи, или народ создавал их сам, чтобы подольше продержаться? Среди встречавшихся нам людей не было ни паникеров, ни отчаявшихся.
Конец декабря. Январь 1942 года. Самым страшным был день, кажется, в конце января, 30 или 31, когда в булочных не оказалось хлеба. Очереди в двадцатиградусный мороз стояли целый день у булочных, ожидая, когда они откроются. А булочные так и не открылись. Для многих этот день стал последним в жизни. Умирали тут же в очереди, не дождавшись кусочка суррогатного хлеба. Как-то, когда мы шли на Выборгскую сторону мимо больницы Эрисмана, наткнулись на обнаженный труп с отрезанной ягодицей. К больницам родственники стаскивали умерших — хоронить не было сил. Чаще стали встречаться люди, везущие на саночках покойника, завернутого в простыню.
Помню, в день моего рождения, 15 января, мы были в маминой поликлинике. Кто-то сказал, что в столовой на проспекте Карла Маркса дают без карточек хряпу — горячие пустые щи из зеленых мороженых листьев капусты. По пути мы иногда заходили в эту столовую, когда оказывались там эти щи, и с удовольствием их ели. Но идти туда специально — спускаться с лестницы и опять подыматься (столовая на втором этаже), а затем идти обратно — сил не было. Так и оставались сидеть около печки, лишь бы не шевелиться.
16 Постановлением Военного совета Ленфронта о снижении норм хлеба за № 00409 от 19.11.1941 рабочим и ИТР была установлена норма в 250 г, служащим, иждивенцам и детям — 125 г.
Голод и сон можно как-то научиться преодолевать, но одно обстоятельство оставалось для нас трудно разрешимым. Об этом, может быть, и неудобно писать, но обойти невозможно. Обстоятельство это — удовлетворение естественных потребностей. Канализация в доме давно замерзла. С шестого этажа бежать вниз, а потом подыматься наверх — нет сил. Тогда решили вопрос так: жидкость — в горшок, а густое — в бумажку, а главное, научиться это разделять. Горшок выплескивали с балкона черной лестницы, а пакетик в бумажке выкидывали по пути на помойку. Поразительно его было много, удивлялись, откуда? Ведь ничего почти не ели. Организм, видимо, поедал сам себя.
Мы жили очень дружно, мама не теряла присущего ей чувства юмора. Мы частенько подтрунивали и над собой, и над обстоятельствами. Трудно было утром вставать и вылезать из постели в холод комнаты. Вспоминались казавшиеся удивительно жестокими гетевские слова: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!» Буквально за жизнь нужно было бороться не только каждый день, но и каждый час. Весь день проходил в этой борьбе, так как двигаться стали медленнее, а для обеспечения жизни нужны были огромные усилия. Наше спасение было в том, что нас было трое, — мы помогали друг другу. Частенько кто-то из нас обессиливал. Тогда двое других брали на себя его долю нагрузки, выделяли ему чуть-чуть чего-нибудь побольше, подбадривали, и, смотришь, на следующий день ему становилось лучше. Часто мы думали, как хорошо, что с нами нет папы. Он бы стремился поделиться своей порцией, мы бы отказывались, и неизвестно, чем все это кончилось — ведь мужчины тяжелее переносили голод.
В зимние месяцы военкоматы просили собирать посылки с теплыми вещами для солдат Ленинградского фронта. По учреждениям раздавалась шерстяная пряжа. Мама вязала специальные варежки с двумя пальцами, чтобы в них можно было нажимать на курок.
Так прошел январь. Февраль для ленинградцев был уже другим. Снабжение города по ледовой дороге — Дороге жизни — через Ладожское озеро наладилось настолько, что на февральские продуктовые карточки стали кое-что выдавать. Появился меланж (яйца в жидком виде на вес), лярд (разновидность жира), крупа и еще что-то. Главное, конечно, это увеличение нормы хлеба и улучшение его качества.
Как-то Ника отправилась в магазин на проспекте Карла Маркса. Он битком набит народом. В очереди, ближе к прилавку, она увидела мужа дочери Аннушки (Анны Власьевны Манн, моей Бабеньки — прислуги в Ольгинском доме). Ника обрадовалась возможности не мучиться в давке, тем более что он предложил отоварить наши карточки и принести полученные продукты нам домой. Полные надежд, мы ждем день, два,
три, неделю. Никто ничего не приносит. Теряемся в догадках. Тогда решили, что кому-то из нас необходимо узнать, что случилось, отправившись к ним домой, в Ольгино. Я пустилась в путь рано утром, естественно, пешком, мимо Новой и Старой Деревни, по шоссе вдоль моря. Наконец дошла до их дома на улице Коммунаров (Надеждинской) № 20, недалеко от нашего бывшего семейного гнезда. Войдя в дом, где было тепло и уютно, я застала за столом Анну Юрьевну, дочь Аннушки, и ее мужа, Павла Ивановича. В углу сидела Анна Власьевна. Они как будто удивились моему появлению. На мой вопрос, что случилось, получил ли Павел Иванович по нашим карточкам продукты, услышала в ответ: «Я ничего не знаю, Вероники не видел и не встречал-», с меня, мол, взятки гладки. Только Аннушка, наша дорогая старушка, горько плакала в своем углу... Так ни с чем я и ушла, пустилась в обратный путь в состоянии полной безнадежности. Стало смеркаться. На шоссе судьба послала мне попутный грузовик, и шофер подвез меня до города. Когда мама увидела меня в дверях, то и спрашивать ни о чем не стала — все было и так ясно.
Мы начали подумывать, как уехать к папе в Архангельск. Тем более что теперь маму, скорее всего, отпустят — настолько она ослабела. Нашли на почте письмо от папы. Он нас ждет, волнуется, копит продукты. В его комнате на проспекте Сталинских ударников тепло и уютно. Но как найти возможность эвакуироваться?.. Приходила Наташа прощаться. Она со своим больным отцом уезжала на Большую землю с семьями артистов Кировского театра. Как узнали позже, отец Наташи не перенес дороги, умер на пути к Ладожскому озеру. Его тело сбросили около берега.
Администрация города была заинтересована в том, чтобы слабое нетрудоспособное население покинуло город: оставшихся будет легче прокормить. И здесь свершилось чудо!.. Радио, бездействовавшее у нас все блокадные зимние месяцы, вдруг заговорило. И словно по волшебству прозвучал голос диктора: Арктический институт предлагает семьям полярников эвакуироваться. Справки по телефону такому-то. Я снимаю трубку безмолвствовавшего до этого времени телефона. Станция отвечает, номер абонента отвечает!!! Мне говорят, что да, пожалуйста, мы вас можем эвакуировать, приходите оформлять документы.
Я отправилась в Арктический институт. Путь лежал вдоль Кировского проспекта, через Неву, по тропинке прямо к Фонтанке. Спуск с Петроградской на Неву удобный, а на набережную Фонтанки забраться трудно — по сугробу еле вскарабкалась. На Прачечном мосту увидела, как несколько мужчин внимательно разглядывали ворону, гулявшую по льду. Потом я поняла: они приноравливались, как бы ее поймать.
В полутемных комнатах первого этажа дворца Шереметевых, где помещался Арктический институт, разыскала уполномоченного по эвакуации. При свете коптилки он быстро оформил наши эвакодокументы. Через три дня нужно было прибыть в институт с вещами. Маме как врачу необходимо получить специальное разрешение от райздрава на выезд из города. Разрешение получили. Надо собираться. Когда мы дошли к нашему дому на Кировском проспекте, 61, то из ворот навстречу выехал грузовик. Над кузовом возвышалась гора закоченелых человеческих трупов. Город готовился к весне. В квартире полное запустение: трубы центрального отопления, водопровода и канализации лопнули, все разлилось по квартире и замерзло. Двери не открыть, не закрыть, с трудом отбили лед. Надо подумать, что взять с собой? Главное — самовар, источник тепла и горячего питья, шкуру белого медведя — также источник тепла, любимые картины Альберта Бенуа (вынутыми из рам), Никин портрет, мамину вышитую картину, любимые ноты, скрипку, что-то из носильных вещей. Кое-что отнесли к Тамаре Александровне, которая всю блокаду работала в госпитале, и уже многие знакомые оставляли у нее свои вещи. Приведу, кстати, выдержку из дневника Остроумовой-Лебедевой от 15 февраля 1942 года о посещении ее Тамарой Александровной: «Т.А. Колпакова — серьезный ученый врач — всегда приносила с собой большой заряд жизненной энергии, неистраченных сил и неисчерпаемой бодрости. Ее посещения всегда подымали во мне тонус жизни и способность к сопротивлению»17.
Кое-какую посуду и книги попросили сохранить Лиду Рыкушину, мою школьную подругу. Те вещи, что брали с собой, упаковали в три тюка — на каждого по ноше. Получилось два мягких места и один небольшой мешок, куда вошел самовар, обложенный со всех сторон нотами. Неожиданно появился муж Никиной подруги Гали Гефнер, готовый нам помочь. (Сама же Галя оказалась в оккупации и впоследствии погибла в советских лагерях). Одолжили у кого-то детские саночки, привязали к ним наш груз и с помощью этого мужчины поплелись по Кировскому проспекту. Это было 28 февраля. Солнечный день, морозный. Горсовет призвал всех, кто еще может двигаться, выйти на улицы убирать снег. Необходимо было очистить город от сугробов и нечистот, пока не начались оттепели. Народ вышел, а мы уезжали... Признаюсь, на душе было нехорошо.
Потихоньку добрались до Шереметевского дворца. Во дворе уже несколько человек ожидали отъезда. Вечером, когда стало смеркаться, подошла машина — обычный открытый грузовик. В одно мгновение истощенные
17 Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. Т. 3. М., 1951. С. 163.
слабые ленинградцы — откуда только силы взялись? — закинули свои вещи через борт. Мы едва поспели за остальными, тоже перекинули свою поклажу и забрались в кузов. Все расселись на вещах. Маме достался самовар с нотами, на нем она и ехала всю дорогу. Когда совсем стемнело, машина тронулась.
С тяжелым сердцем миновали развалины госпиталя на Суворовском проспекте. Поздней осенью в него попала большая фугасная зажигательная бомба, в мгновение здание вспыхнуло и рухнуло. Никто из раненых и медперсонала не спасся. Выезжая из города, мы накрылись с головой полостью медведя, к лапам которого мама предусмотрительно пришила тесемки. Мороз ниже двадцати градусов. Ночью в лесу машина остановилась. Оказалось, что на узкой дороге сцепились колесом с танком. Расцепились. Едем дальше. Просим шофера остановиться — нужно вылезти. Странно, никто кроме нас не вылезает. Потом выяснилось, что остальные пассажиры справляли нужду под себя, а затем просто пересаживались на другое место. На одной из остановок перед Ладожским озером Ника вылезла и уселась тут же у дороги. Вдруг слышит голос: «Гражданочка, простите, тут наблюдательный пункт».
Утром 1 марта мы достигли небольшого поселка на берегу Ладожского озера. Шофер заявил: «Как хотите, я дальше не поеду»... В ответ на все просьбы он твердил одно: «Не поеду и все!» Как только наши попутчики узнали, что в одном из домиков поселка есть комната, в которой можно обогреться — там постоянно топилась печь, — всех как ветром сдуло. Оставив вещи, все кинулись к теплу — видимо, думать больше ни о чем не могли. Мы втроем размышляли, что же делать дальше? Ника разузнала, что в одном из трех домиков, стоявших в отдалении, есть начальство Ледовой дороги. Мама осталась на машине, а мы с Никой отправились по глубокому снегу искать начальство. Сугробы выше валенок, сил никаких нет, а идти надо... Если бы не Ника, что бы было со всеми нами?..
Добрались до нужного домика, разыскали начальника, объяснили, кто мы, откуда и куда, показали документы. Начальник быстро решил наш вопрос — предложил собрать пассажиров и перегрузить вещи в другую машину, которую сейчас же нам дадут. Мы поспешили в домик, где грелись наши попутчики. В полутемной комнате, обступив со всех сторон круглую железную печку, стояли люди. Некоторые в стороне что-то жевали. Рассказали всем, в чем дело и что необходимо торопиться. Никто и не подумал пошевельнуться. В отчаянии стали их убеждать, что надо ехать дальше, здесь оставаться нельзя, негде. С трудом удалось уговорить. Действительно, другая машина стояла борт к борту с нашей, так что вещи
перекидать было нетрудно. Шофер торопил, так как хотел засветло доставить нас до железнодорожного эшелона на Большой земле. Расселись и поехали по льду Ладожского озера.
Дорога была ровная, накатанная. Мартовское солнце нежно грело. Благополучно достигли противоположного берега, кажется, около Кобоны, и направились на станцию Жихарево. Не доезжая до самой станции, увидели перевернутые паровозы и полный разгром вокруг. Оказалось, накануне немецкие самолеты разбомбили станцию. Тогда машина направилась в другое место, где стоял уже сформированный для эвакуированных из Ленинграда товарный состав. Товарные вагоны — теплушки — были оборудованы буржуйками и нарами в один ряд. Состав шел до Вологды. Теперь я думаю, что в каждом вагоне, наверное, был кто-то ответственный, так как во всем присутствовал порядок. Предложили занимать места. Мы трое разместились на нарах напротив двери. Рядом с нами оказались артисты Театра комедии. Артистический темперамент, вероятно, вследствие голода и всех бед, выпавших на их долю, проявлялся в возбуждении и непрерывных пререканиях, доходивших до ссор. Надо сказать, что это нас весьма удивило, так как казалось, ничего в мире не осталось, что могло бы вызывать такие эмоции.
Через какое-то время поезд тронулся в путь. К ночи достигли станции Волхов. По вагонам объявили, чтобы все шли в столовую, где можно получить горячую еду. Пришли в большой залитый электрическим светом зал. Выстроилась очередь к окошечку раздачи. Оттуда каждому в руки подавали железную мисочку с дымящейся желтой кашей, кукурузной, а может быть, пшенной. И тут открылось душераздирающее зрелище: закопченные, закутанные фигуры с трясущимися руками, вцепившись в мисочку, словно боясь, что ее вырвут, судорожно с жадностью поедали пищу. Этого забыть невозможно... Помню, как к горлу подступил комок, и есть было трудно.
Питание эвакуированных было организовано на каждой станции, где останавливался поезд. Что-нибудь горячее и кусок хлеба выдавался каждому ленинградцу18. Следствием, увы, явились тяжелые поносы. Организм не мог справиться даже с самой скромной пищей. Поскольку эшелон часто останавливался (может быть специально?), то сразу же из теплушек спускались сходни и пассажиры присаживались тут же вдоль длинного состава поезда, не обращая внимания, кто рядом устроился — мужчина или женщина. Так нас доставили в Вологду. Здесь же на вокзале некоторые наши попутчики умерли.
18 Как теперь выяснилось, эвакуацией ленинградцев руководил А.Н. Косыгин.
В Вологде, узнав, когда можно будет выехать в Архангельск, послали папе телеграмму. Мы погрузились в большой пульмановский товарный вагон с печкой посередине и устроились в уголке на нарах. Так же как и раньше, в вагоне освещения не было. Не помню, кормили ли нас на станциях горячим или мы получали сухой паек, так как в памяти не осталось радости от горячей пищи, а остался ужас от мучавшего всех поноса. Поезд останавливался реже. На местных жителей вероятно наводили страх цепочки фигур, присевших около вагона, так как в этом направлении эвакуированных было меньше.
Дней через пять мы подъехали к Архангельску. Вагон остановился. Раздвинулась широкая дверь, и вдруг в ярком свете дня увидели папу. Увидели и заплакали... Папа был необычайно худ. Искали глазами Люсю, но ее нигде не было видно. Оказалось, что Люся уехала к Николаю Михайловичу Сапрыкину в республику Коми, где тот работал на разведке нефти.
Из вагона, однако, надо было выходить, а сил на это не было. Особенно ослабела я, идти совсем не могла. Кое-как меня вытащили. Вокзал в то время находился на левом берегу Северной Двины напротив города. Как добраться до дома? Собрались везти меня на саночках. К великому счастью, папа нашел легковую машину, и мы скоро прибыли в сказочный мир тепла и уюта. В квартире светло, чисто, горячая вода в кранах...
Первым делом скинули с себя все и вымылись впервые за много месяцев. Поскольку мы в Ленинграде не раздевались и не видели себя, то и не подозревали, что собой представляем. Когда мама взглянула на меня, стоящую в ванной, то заплакала. Второй раз в жизни я видела маму плачущей. (Первый — в 1931 году, когда папе был объявлен приговор.) Перед мамой стоял скелет, обтянутый кожей. Никаких намеков на мягкие места — висели лишь пустые мешочки кожи. Такое жалкое зрелище представляла каждая из нас. Через несколько дней нас осмотрел врач, установил алиментарную дистрофию с безбелковыми отеками и признаки цинги.
Глава IX В Республике Коми. 1942–1945
Глава IX
В Республике Коми. 1942-1945
Наш приезд в Архангельск в середине марта наполнил папину жизнь новыми заботами. Прежде всего, накормить и обиходить нас. Папа варил какую-нибудь кашу на завтрак: первое время мы и на это не были способны. Позавтракав, он уходил на работу, а мы не спеша вставали, ели и впадали в какое-то оцепенение. Возвратившись из геологического управления, папа находил нас сидящими на тех же местах и в тех же позах — такая слабость одолевала нас... По пути с работы он получал из архангельского эвакопункта ежедневный обед и ужин. Вместе с пайком научного работника, который папа сохранил за несколько месяцев, ожидая нас, было вполне достаточно. Но в течение нескольких недель приходилось есть понемногу, хотя так хотелось все и сразу! Организм не был еще готов к правильному функционированию. Папа окружил нас вниманием и заботой, и мы постепенно возрождались к жизни. Именно в это время, когда организм набирал силы, у меня и Ники появилась чрезвычайная раздражительность, которую не удавалось унять. Видно, блокадная заторможенность вырвалась наружу. Мама поправлялась медленнее.
Через два месяца папа захотел, чтобы все вместе сфотографировались. Глядя на эти фотографии, удивляешься, до чего мы были худы. Еще через месяц папа пригласил фотографа домой. Здесь, в интерьере папиной комнаты, мы выглядели получше.
Папа рассказал, как среди зимы, в трескучие морозы, Люся уехала из Архангельска в Коми в глухую деревню Усть-Куломского района, куда звал ее Николай Михайлович Сапрыкин. После расторжения своего первого брака Николай Михайлович с нетерпением ждал Люсю, чтобы начать новую жизнь. Ему, геофизику, поручили искать нефть в Республике Коми, возглавив поисковую партию. По важности задания он получил бронь.
Люся ехала к нему, как мы потом узнали, целый месяц, большей частью на лошадях, лишь санным путем можно было к нему добраться, ночевала в чужих избах, ждала попутного транспорта. Среди попутчиков встречались заключенные. Один из них, старый интеллигент, никак не мог понять, зачем она добровольно хоронит себя в непроходимых лесах, будучи молодой и красивой, отговаривал ее от этого, на его взгляд, неразумного шага. Люся мужественно перенесла все испытания и достигла желаемой цели. Таким образом, папа остался в Архангельске один. Его часто навещали школьницы Нина и Аля. Они несли с собой жизнерадостность юности, веселый смех и оживление. Папа помогал им в науках и материально.
Архангельские власти готовили население города к противовоздушной обороне. Папа тоже был привлечен к этим занятиям, в результате которых получил удостоверение: «Выдано тов. Виттенбургу П.В. в том, что он закончил обучение по ПВХО по 28 часовой программе с оценкой хорошо и имеет звание значкиста 1-й степени»1.
Папу не оставляла мысль, что обнаруженное на Таймыре месторождение полевого шпата и высокого качества слюды с бериллом могут быть полезны оборонной промышленности. В феврале 1942 года он направил развернутое письмо начальнику ГУСМП И.Д. Папанину и параллельно в промышленный отдел Архангельского обкома ВКП(б) с предложением использовать эти месторождения для добычи сырья, особенно необходимого стране в условиях войны2.
Налеты германской авиации и активность вражеских подводных лодок в северных морях вызвали необходимость эвакуации из Архангельска всех гражданских учреждений. Северное геологическое управление получило приказ эвакуироваться в Сыктывкар вместе со всем штатом сотрудников и членами их семей. В начале июля 1942 года для этой цели был предоставлен речной пароход с баржей.
Папину большую библиотеку в пять тысяч книг надо было упаковать так, чтобы они остались целы при предстоящих погрузках и перегрузках. Их уложили в ящики, едва подъемные, грузить же опять приходилось самим.
Поднимаясь вверх по Двине, с борта парохода любовались красотой северной природы. У Котласа (одно это название приводило в содрогание, так как известно было, что это место сортировки и пересылки политзаключенных) повернули на Вычегду, а затем Сысолой прибыли в Сыктывкар, столицу Коми Республики. Нас поместили в новое здание гостиницы, четырехэтажный корпус которой стоял на главной улице города.
1 Удостоверение // Личный архив Е.П. Виттенбург.
2 Письмо П.В. Виттенбурга к И.Д. Папанину от 27.02.1942 // Там же.
Первое впечатление от залитого солнцем Сыктывкара было чуть ли не праздничное. На главной улице — светлые оштукатуренные дома, разноязычный говор толпы... Кроме русской и коми, звучала польская, литовская речь, и люди какие-то другие. Здесь, в Коми, оказалось большое количество сосланных польских евреев. Это те, кто искал спасения в Советском Союзе при оккупации Западной Польши Германией, когда советское правительство им открыло границу. В основном это были интеллигенты. Они бежали второпях, кое-что прихватив с собой, совершенно не подготовленные к тому, что их ожидало. Их отправили на лесоразработки вглубь республики, они страдали от недоедания и холода. Многие не выдерживали тяжелых условии и умирали. Кроме поляков сюда сослали литовцев, «освобожденных» Красной армией в 1940 году. Наверное были и другие прибалты.
Сразу по переезде в Сыктывкар папа был направлен по линии геоконтроля в Ухту и Воркуту. В течение трех месяцев, вплоть до конца сентября, он проводил обследование месторождений нефти, газа и угля. Сохранились воспоминания, написанные его коллегой Е.А. Киреевой. Приведу здесь небольшой отрывок:
«С Павлом Владимировичем Виттенбургом я познакомилась в 1940 году в г. Архангельске, в Северном геологическом управлении, когда он в должности старшего геолога организовывал выезд экспедиции в Заполярье на о. Вайгач. В его внешности меня поразило тогда сочетание белых седых волос, увенчивающих голову, и молодых, несколько насмешливых карих глаз. <...> В его спокойной уверенности, кратких конкретных распоряжениях чувствовалось, что организация крупных полярных экспедиций для него дело не новое.
Позже, в 1943 году3, я работала вместе с Павлом Владимировичем в геологическом контроле Северного геологического управления по обследованию нефтяных и газовых месторождений Ухты. Здесь мне представилась возможность уже близко узнать его как человека очень энергичного, делового и к тому же чрезвычайно любознательного, отдающегося с увлечением познанию всего нового.
Известно, что тогда на Ухте было единственное в Советском Союзе месторождение густой окисленной нефти с шахтным способом разработки. Хотя Павлу Владимировичу было уже под шестьдесят, он не ограничился тем, что мы детально ознакомились со всеми геологическими материалами по месторождениям, он предложил мне совместно с ним осмотреть нефтяную шахту, чтобы лучше понять особенности этого месторождения и уникальный способ его эксплуатации. Спустившись в шахту, мы имели возможность рассмотреть «живой» нефтяной пласт, который на наших глазах на одном из участков разрабатывался
3 Автор воспоминаний ошибся, это был 1942 год.
гидромониторами. Надо было в это время видеть довольное лицо Павла Владимировича с восторженно блестящими глазами, когда мощные струи воды под большим давлением размывали нефтяной пласт, вмещающая порода которого оседала главным образом почти здесь же поблизости, а вода с нефтью на поверхности устремлялась по канавам в нефтесборники и нефтеотстойники»4.
В Ухте и на Воркуте папа встретил многих заключенных геологов, отбывавших там свои сроки. Там познакомился и с художником А.С. Кузнецовым, о картинах которого, связанных с экспедицией на мыс Стерлегова, я уже писала.
Мамино здоровье восстанавливалось медленно, ее мучили одышка и отеки. Ей хотелось работать, но сил не было. Не помню, каким образом маме предложили путевку в местный санаторий Серегово. Мама обрадовалась возможности подлечиться, тем более что в Сыктывкаре с продуктами было трудно, и она искала пути облегчить нам жизнь.
В начале августа она отправилась пароходом по Сысоле (затем предстояло еще 24 километра пешком или на попутной машине). С парохода вышла группа в одиннадцать человек, в их числе были и бывшие фронтовики, направлявшиеся на лечение в Серегово. Решили держаться вместе. Через четыре часа дозвонились до санатория. Просили прислать машину. Пришел грузовик, погрузил мешки с овсом для свиней, сверху расселись курортники. Мама писала, что шофер необыкновенно ловко вел перегруженную машину по рискованным мостам, переброшенными над глубокими оврагами. На плоскодонной лодчонке, также перегруженной, переправились на другой берег реки Вымь. Дул сильный ветер — волна перехлестывала через борт.
Мама и две попутчицы получили койки в комнате с незакрывающейся дверью, лишенной и стульев, и стола. В доме, кроме санатория, расположился пионерский лагерь. Шум, беготня, постоянно орущее радио не давали покоя. Потом дети уехали, и как-то все наладилось. Лечение — сероводородные ванны — приносили маме пользу. В санатории развлечений никаких не было. Библиотека в растерзанном состоянии, но все же мама читала вслух своим соседкам книги, которые удавалось разыскать. В столовой стояло пианино, иногда мама на нем играла. Среди больных обнаружился скрипач — преподаватель пединститута, они музицировали вместе. В плохую погоду, случавшуюся часто, хотелось за разговором заняться вышиванием, но негде было взять ни ниток, ни ткани, а без дела сидеть мама не умела.
4 Киреева Е.А. О Павле Владимировиче Виттенбурге. 25.Х.79. Машинопись. С. 1 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
Нике предложили какую-то сметную работу в Госплане Совнаркома Коми. Как и другим служащим, в летние месяцы ей через день приходилось работать на лесосплаве. Перед отъездом в командировку папа устроил меня лаборантом при геологическом факультете Карело-финского университета, эвакуированного из Петрозаводска в Сыктывкар. В мои обязанности входило чертить по указанию декана факультета профессора В.С. Сладкевича разные схемы, геологические разрезы и тому подобное к предстоящему учебному году.
Геологическое управление получило участок земли для разведения огородов. Все сотрудники должны были на нем работать. Что-то окучивали и пололи. Потом делили скудные плоды урожая. В последующие годы выделялись индивидуальные участки, это оказалось удобнее.
Мы с Никой с этого лета стали систематически сдавать кровь. Хотелось хоть чем-то помочь раненым, да и получали небольшую разовую помощь продуктами.
Люсиного мужа призвали в армию. Люся осталась в глуши лесов одна с несколькими рабочими партии. Потом она рассказывала, что когда возвращалась, проводив Колю до дальнего военкомата (дорога шла лесной просекой), она увидела впереди себя идущего медведя. Делать было нечего, помощи ждать не от кого, и она пошла дальше, положась на судьбу. К счастью, медведь с дороги свернул в лес и скрылся. Николая Михайловича на фронт не отправили, вернули в партию: государству нужна была нефть.
На краю города для персонала Северного геологического управления достраивали два бревенчатых дома. Совнаркомовская улица, на которой шла стройка, была крайняя, за нею простиралось вспаханное поле. Мы получили маленькую двухкомнатную квартирку в первом этаже. Между комнатами большая кирпичная оштукатуренная печь, в кухне — дровяная плита. Водопровода не было, воду носили ведрами из колодца. Повесили занавески, развесили по стенам картины, цветы в горшках, прибывшие из Архангельска.
Полярную библиотеку папы разместить оказалось негде. Он подумал, что книги могут принести пользу научному фонду Республики Коми, и предложил их в дар. Но у научного фонда то ли не было интереса, то ли места, в результате библиотека осталась лежать в ящиках на складе Севгеоуправления.
Папе предстояла обработка материалов по геоконтролю и написание научных отчетов, редактирование изданий СГГУ, что требовало определенных условий для работы. Е.А. Киреева вспоминает:
«Имея большой опыт в крупных стационарных экспедициях, Павел Владимирович стремился обосноваться прочно и удобно на каждом новом месте.
Так было и в годы войны и при эвакуации Северного геологического управления из Архангельска в Сыктывкар (Коми АССР). В большой общей комнате для камеральных работ он, используя шкафы, сделал очень удобный уютный кабинет с картами и схемами на стенках шкафов, с подвесными полочками для рулонов разных чертежей, с небольшими приставными полками для папок и книг. При этом Павел Владимирович убежденно говорил, что ведь и думается, работается лучше, когда все необходимое находится на своих местах, расположено в порядке, удобно и по возможности даже красиво. Стоит только протянуть руку, чтобы взять каталог образцов или проб, полевой дневник, какой-либо чертеж, таблицы анализов или нужную для справки книгу. Это составляло правило его работы, этому он учил молодежь! <...> Павел Владимирович очень любил цветы и вообще стремился вносить в жизнь что-то красивое. Знакомясь с городом по приезде в Сыктывкар, он узнал, что в нем имеются теплицы, в которых выращиваются цветы и некоторые кустарниковые растения. Он разыскал эти теплицы, бывал в них и установил связь с их сотрудниками. Помню, каким приятным событием для всех нас, эвакуированных геологов, в этом северном городе была веточка сирени, которую Павел Владимирович принес как-то из теплицы в общую столовую, где все мы обедали»5.
Руководство Севгеоуправления предложило папе организовать курсы коллекторов, заведовать ими и преподавать там геологию. В декабре 1942 года СГГУ проводило в Сыктывкаре геологическую конференцию. Папа на ней выступил с докладом «.Полиметаллы западного склона Северного Урала, Пай-Хоя и Вайгача»6. К большой радости папы, его пригласили читать лекции на Геологическом факультете Карело-финского университета. Спустя 12 лет он снова получил возможность преподавать. В течение двух лет, пока университет находился в Сыктывкаре, он читал курсы Динамической геологии, Геологии СССР, Полезных ископаемых (рудных месторождений), Геологического картирования (полевой геологии). Кроме того, в 1943/44 учебном году он прочитал курс геологии для студентов педагогического и учительского институтов Республики Коми.
Уже теперь, во второй половине 1990-х годов, меня навестила геолог, бывшая папина студентка, Розалия Павловна Сливкова. Вот что она воспоминает о тех годах:
«Нас было тогда на геологическом факультете Карело-финского университета, эвакуированного из Петрозаводска в Сыктывкар, около 50 студентов. В основном — девочки. Разные... Из разных городов и сел, ведь была война, которая привела в Коми Республику многие семьи эвакуированных, но
5 Киреева Е.А. О Павле Владимировиче Виттенбурге. 25.Х.79. Машинопись. С. 2—3.
6 Материалы I геологической конференции Коми АССР. Сыктывкар, 1944. С. 234—238.
были и семьи спецпереселенцев, как их тогда называли, и дети семей погибших в страшные годы репрессий. Были среди нас и местные, сыктывкарцы, и не только городские. Хочется сказать о том, что некоторые из нас даже думали на своем родном коми языке. На первом курсе мы были именно такие — разные... Может быть, именно поэтому курс наш был очень дружным. Нас сближала общая судьба — беда страны.
Сейчас, когда мы иногда встречаемся, мы вспоминаем наш первый курс, потому что первое всегда в памяти по силе его влияния на души. Кроме того — была юность...
Зимой 1942 года, морозной и чрезвычайно суровой, к нам пришел профессор Павел Владимирович Виттенбург. Он начал читать лекции по общей геологии. Утро было холодное, холодно было и в аудитории. Павел Владимирович, как и все преподаватели, не говоря уже о студентах, был в пальто, на плечах на шнурке висели рукавицы. Как видно, в перерывах он их надевал и так согревался. Высокий, красивый, очень интересный человек, сумевший оставить в нас память. Все мы, еще поддерживающие связи геологи, помним, как часто Павел Владимирович начинал занятия с бодрой ноты, которая часто поддерживала и наши силы. Это были строчки:
И тернии и розы,
И радость и слезы
Посеяны вместе
И вместе растут.
Мы все вспоминаем эту строфу, так четко характеризующую всю (да! всю!) жизнь. С таким философским подходом к жизни, очевидно, прожил свою нелегкую жизнь наш профессор. И этому он учил нас. Конечно, все вспоминаем и курс общей геологии. "Синклинали... геосинклинали..." — слышим и сейчас четкий голос Павла Владимировича.
Кроме курса общей геологии, Павел Владимирович вел практику в селе Иб (в Коми Республике). Там мы исследовали юрские отложения. Были вырыты шурфы. Нашлось много отложений юрской фауны — аммонитов. Как ярко еще блестели перламутром раковины юрского периода! В юрских отложениях были горючие сланцы — предмет нашего исследования»7.
Эта практика в районе села Иб совмещалась папой с плановыми полевыми работами Севгеоуправления. Он проводил там геологическую съемку и обнаружил месторождение горючих сланцев.
В 1944 году выдалась папе очень тяжелая экспедиция на Полярный Урал — Вангырская экспедиция. Катастрофически не хватало продуктов питания, обед — ржаная болтушка. Члены экспедиции с трудом довели до конца геологическую съемку, предусмотренную планом. Вернулись в Сыктывкар истощенными, с признаками дистрофии.
7 Сливкова Р.П. Вспоминая 42 и 43 годы. Запись В.С. Сухановой. 1998. Машинопись. С. 1—2 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
Е.А. Киреевой приходилось участвовать в некоторых экспедициях вместе с папой. Она вспоминает:
«Будучи по натуре человеком деятельным и к тому же внимательным к другим, особенно геологам-женщинам, Павел Владимирович проявлял эти качества и в быту. Так, при приготовлении пищи в экспедиционных условиях он стремился максимально разгрузить женщин, взяв на себя всю черновую работу: подготовку дров и воды, разжигание костра, чистку рыбы, картофеля и других овощей. Эти прозаические дела он умел чередовать с приятным отдыхом. В вечерние часы Павел Владимирович любил посидеть у костра, любуясь причудливыми языками пламени, охватывающими новую порцию подброшенных веток, любил поговорить при этом о поэзии, музыке или, отойдя от костра, полюбоваться уже темным звездным небом, отыскивая в нем красавицу Венеру, Полярную звезду или ковш Большой Медведицы»8.
Параллельно с камеральной обработкой материалов Вангырской экспедиции, Северное геологическое управление назначило папу заведующим Геологическим музеем. Музея фактически не существовало, надо было его организовать. Для этого следовало использовать экспонаты сильно пострадавшего при эвакуации архангельского музея и укомплектовать его новыми образцами, полученными в результате геологических исследований по Северу и Республике Коми. Комитет по делам геологии СНК СССР обязал все Геологические управления иметь при себе региональные геологические музеи научно-просветительского характера и популяризировать знания о строении и развитии земной коры и сведения о полезных ископаемых данного региона9.
Папе музейное дело было хорошо знакомо, и ему не представляло труда создать экспозицию. Геологические и палеонтологические карты, различные разрезы, дающие представление о строении земной коры всего Северного края от Балтийского щита через Тиман, хребет Чернышева и Урал до Западно-Сибирской низменности, геологические образцы от кембрия до палеозоя, все типы и виды полезных ископаемых составляли содержание музея. Особо выделялись Ухта, Инга и Воркута. На стендах — портреты исследователей Северного края: А.П. Карпинского, Ф.Н. Чернышева, В.П. Амалицкого, Е.С. Федорова и других, а также полотна, написанные жившими в Сыктывкаре художниками В.Г. Постниковым, Н.А. Жилиным и некоторыми другими, представляющие ландшафты этих мест.
8 Киреева Е.А. О Павле Владимировиче Витгенбурге. 25.Х.79. Машинопись. С. 2.
9 Виттенбург П.В. Музей Северного геологического управления. Машинопись// Личный архив Е.П. Виттенбург.
Сохранилось несколько фотоснимков экспозиции. В январе 1946 года музей был открыт. Папа составил объяснительную записку к смете на 1946 год по музею с подробным описанием его содержания10.
В Карело-финском университете папины занятия шли хорошо, но он так и не имел советской степени доктора наук. В 1932 году, когда ученые имели право перерегистрировать ученую степень прежнего времени и получить новую, папа находился в лагере. В 1944 году Ученый совет Карело-финского университета обратился с ходатайством в Высшую аттестационную комиссию с просьбой о присуждении папе ученой степени доктора геологических наук без защиты диссертации. Это ходатайство, поддержанное всеми 17 членами Ученого совета университета, а также три изданные работы (« Термический режим и рудные воды в зоне вечной мерзлоты острова Вайгача и Амдермы», «Рудные месторождения о. Вайгача и Амдермы», «Геология и полезные ископаемые Северо-Западной части Таймырского полуострова») ВАК направил на рассмотрение Ученого совета Московского геологоразведочного института. Совет просил своих членов ознакомиться с монографией «Рудные месторождения о. Вайгача и Амдермы» и наметил в качестве оппонентов докторов геологических наук Е.А. Кузнецова, В.М. Крейтера и Д.И. Щеголева. Это был один из первых случаев, когда вместо диссертации на защиту предлагалось вынести печатный труд.
Летом 1943 года мама более или менее восстановила свое здоровье и рада была включиться в активную жизнь. Ее назначили заместителем главного врача по противоэпидемической работе Сыктывкарской поликлиники, членом ВТЭКа и председателем Санитарно-курортной комиссии. Маме приходилось выезжать по вызовам и вылетать на самолете в разные районы Республики Коми. В то время санитарная авиация пользовалась двухместными маленькими самолетами — впереди пилот, а за ним пассажир. Конечно, самолет без отопления, пассажир едва был защищен от ветра.
Люся и Коля по-прежнему искали нефть в лесах Коми. В середине зимы Люсе предстояло родить первенца. Она не решалась оставаться на геологической базе в деревне под названием Канава (именуемая так по остаткам канала Екатерининского времени), и решила направиться под мамину опеку в Сыктывкар. Добраться до районного центра Усть-Кулома стоило огромных усилий, так как в глухое зимнее время никакого транспорта найти не удавалось, да никто никуда и не ездил. Наконец сжалилась над ней одна женщина. Она на ночь глядя запрягла лошадь. Люся укуталась,
10 Виттенбург П. В. Объяснительная записка к смете на 1946 год по Геологическому музею и литотеке. Рукопись // Личный архив Е.П. Виттенбург.
уселась в сани. Поехали. Отъехав порядочно от деревни, среди заснеженного поля на одном из ухабов Люся вывалилась из саней. Снег глубокий, догнать лошадь невозможно, лежит она в сугробе, смотрит в небо — звезды мерцают, тишина... Наконец возница заметила, что пассажирка ей не отвечает, оглянулась — никого нет... Повернула обратно, подобрала Люсю, поехали дальше. Благополучно достигли аэродрома в Усть-Куломе. Выяснилось, что в ближайшие дни самолета не будет. Через несколько дней все же прилетел самолет, и Люся упросила летчика взять ее с собой.
В январский морозный солнечный день, возвращаясь из бани, я буквально наткнулась на Люсю. Узнать ее оказалось невозможно — так она была закутана. О ее приезде мы ничего не знали. Дома никого не было. Она пошла по единственной улице, ведущей от нас к центру, надеясь кого-нибудь встретить. 19 января 1943 года у нее родилась девочка, которую назвали Наташей. Два-три месяца Люся прожила с нами, а затем вернулась в чащу лесов и в «топи блат». Она не раз приезжала к нам с дочуркой. Едва Наташа научилась самостоятельно сидеть, как мы заметили, что окруженная диванными подушками девчушка внимательно рассматривает на них рисунок и водит пальчиком по одному цвету, по другому. Подумали, наверное станет художником. Так и случилось.
Хотя я работала в Карело-финском университете, хотелось как-то приблизиться к искусству, и я поступила на историко-филологический факультет, отделение филологии. Педагогический состав университета был очень сильным, по-видимому, благодаря довоенной близости Петрозаводска к Ленинграду. Достаточно сказать, что среди профессоров были Д.В. Бубрих (языкознание), В.Г. Базанов (русский фольклор и литература), Я.А. Балагуров (история СССР и марксизм-ленинизм). Античную литературу прекрасно читал В.Э. Дембовецкий, латинский и старославянский вел С.А. Шамахов. Дембовецкий писал стихи, два стихотворения посвятил маме и мне.
Однажды на занятиях латинского языка случился со мной ужасный казус: читая вслух текст, я заснула... Проснулась от наступившей тишины. Группа смотрела на меня с изумлением, а Шамахов растерялся. Объяснялось все это очень просто: лето, весну и осень нас постоянно направляли на «трудовые» работы. Сплошь и рядом перед занятиями корчевали лес или укладывали бревна в штабеля на лесозаводе. Питание было скудное, очень уставали. Приходилось и грузить мешки с картофелем на пароход, и загружать досками баржи. Самой тяжелой и изнурительной была работа летом по 12 часов в сутки в две смены на лесосплаве. Наша группа — все девочки, баграми подгоняли бревна с реки на движущиеся вверх цепи со штырями, подающими эти бревна на лесозавод. Мы стояли на деревянных
легких мостках над водой, проталкивая под собой бревна в нужном направлении, и старались не допускать заторов. Невыносимо трудно удержаться на ногах в 4 часа ночи — спать неудержимо хотелось, силы совсем исчезали. Сверху бригадир завода грубым низким голосом нам кричала: «Лесаа, лесаа даваитя!!!» Остановиться передохнуть нельзя. Одна девочка уснула с багром в руках и упала в воду. Общими усилиями ее вытащили. В обеденный перерыв в заводской столовой (сарае) получали какую-то бурду под видом супа на дне стеклянной банки. Пожалуй, это было физически самое тяжелое время в моей жизни. К концу лета мое тело покрылось фурункулами, наверное, от истощения. Меня перевели на работу счетоводом в контору.
Наша группа так же как и геологи 1-го курса, о чем рассказывала Р.П. Сливкова, была очень дружная и состояла из девушек, приехавших в Сыктывкар из разных мест страны. Было и несколько уроженцев Республики Коми. Для некоторых работ мы разбивались на бригады по четыре человека. Слаженно и быстро работалось с Мусей Мадьяновой (в Петрозаводске она вышла замуж за профессора истории И.И. Кяйвяряйнена), Ниной Кретневой (впоследствии — сотрудником газеты в Кронштадте) и Ритой Шемеловой (в дальнейшем — кандидатом филологических наук, преподавателем ЛГУ). Наш филфак имел свой гимн — это песня М. Глинки «Ходит ветер у ворот...» из музыкального сопровождения к трагедии Н. Кукольника «Князь Холмскиил.
Несмотря на занятия в университете и трудработы, все же я была свободнее остальных членов семьи и потому вела хозяйство — точнее, готовила обеды. По карточкам давали главным образом картошку и квашеную капусту, ни мяса, ни рыбы не было, иногда получали какое-то растительное масло или комбижир. Обычно на первое готовила щи, на второе — тушеную капусту. Запомнился один эпизод: в трех тазах, как обычно, промывала квашеную капусту (она заготавливалась рабочими в огромных чанах, утрамбовывали ее ногами). Вдруг заметила среди листьев капусты какой-то черный предмет. Смотрю — мышь. Засоленная. Вынула ее, а капусту промыла еще несколько раз и сварила. Никому ничего не сказала, обед прошел без последствий. Рассказала о случившемся спустя несколько дней.
Жизнь немного стабилизировалась, маму волновала судьба старых друзей. Она писала в Москву А.А. Геннерт, семье Безруких, Т.Л. Щепкиной-Куперник. Получила ответ только от Татьяны Львовны. Приведу выдержки из ее писем:
«Сколько раз за эти два года старалась узнать где-нибудь о вас, писала в Ленинград, на Ваш адрес, но, конечно, не получила ответа. И вот я знаю, где Вы далеко, но все вместе и в безопасности — счастлива за Вас.
Мы с Маргаритой Николаевной никуда не уезжали из Москвы, пережили все трудности первой зимы, теперь много легче. Но у нас непоправимая, тяжелая утрата: сын Марг[ариты] Ник[олаевны] скончался от крупозного воспаления легких. Он никуда не уезжал [из Ленинграда] и умер на своем посту. Мы с Марг[аритой] Ник[олаевной] остались совсем одиноки — без будущего. Пока мы есть друг у друга... Но все это так хрупко и непрочно, и трудно бывает выпутываться из физических сложностей одним. Хотя много кругом видим доброты: и как всегда — не от тех, от кого вправе были бы ожидать ее...
Я продолжаю работать, под бомбежку кончила книгу, перевела две пьесы в стихах с испанского и английского и пр. и пр. Вот только сердце очень сдало и устало, но все в общем выносимо и пока мы с Марг[аритой] Ник[олаевной] — жить можно. А хотелось еще сказать, что всегда помню и люблю вас всех и благодарна П[авлу] Владимировичу] за его ко мне отношение, и Вам за Вашу всегдашнюю ласку и доверие, и девочкам милым. <...> Увидимся ли? Кто знает?.. Но может быть и да? Теперь буду ждать подробного письма и всех целую (с разрешения и П[авла] Владимировича])»11.
«Дорогие мои друзья, получила Ваше поздравительное письмо12 и очень была им тронута, но во сколько же раз важнее и радостнее то событие, с которым могу Вас поздравить — освобождение нашего любимого Ленинграда! Это заслонило от меня все остальное. <...> Теперь наконец впервые за последние три года я получила возможность спать, есть, пить, читать и вообще — жить, без постоянной грызущей мысли, отравлявший мне каждый глоток, каждую секунду моей жизни — постоянной боли за Ленинградцев. Каким героем оказался наш город!
В тот же день, как я узнала о взятии Павловска и Пушкина, мне сообщили о награждении меня орденом Трудового Красного знамени. Я была глубоко тронута и особенно тронута тем откликом, который это имело. Все люди были так рады, словно их самих наградили. Товарищи это затеяли, и для меня было полной неожиданностью.
Трудовое знамя! Это хорошо. Я столько лет его держала и надеюсь не выпустить из рук до последней минуты жизни — так с ним и умереть на посту...»13.
Во все последующие годы между мамой и Татьяной Львовной продолжалась переписка. Татьяна Львовна осталась жить в Москве вместе со своей приятельницей М.Н. Зелениной, в квартире М.Н. Ермоловой. В переписку включилась и я. Меня волновали разные вопросы: жизненная
11 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к З.И. Виттенбург от 21.06.1943 // РО ИРЛИ
РАН, Р-1. оп. 37, ед. хр. 23-27.
12 Поздравление, о котором упоминает Т.Л., относилось к присвоению ей в 1943 звания заслуженного деятеля искусств. Орден Трудового Красного знамени она получила к своему семидесятилетию (1944).
13 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к З.И. Виттенбург от 09.02.1944 // РО ИРЛИ
РАН, Р-1, оп. 37, ед. хр. 23-27.
позиция, выбор узкой специальности, особенности художественного вкуса и тому подобное. Вот несколько строк из ее писем: «Меня огорчает твое смятение духа и нерешительность — вот свойство, которое мне чуждо, оно очень мешает в жизни. "Да" и "Нет" должны быть ярко выражены в наших чувствах, взглядах, желаниях — тогда нам легче жить»14. «Сердце должно иметь свой разум»15 — это о становлении характера. «Я считаю музыкой не только то, что имеет ритм и что можно слышать — но то, что в душе и в сердце будит волнение, чувство, без слов говорит с ней»16.
Позже, в 1949 году, во время моего пребывания в Москве, я посетила Татьяну Львовну. В небольшой, тесно заставленной комнате на Тверском бульваре меня встретила приветливая миниатюрная старушка, близорукие глаза светились проницательным умом. Она живо заинтересовалась мною, а я смущалась, тушевалась, не вполне могла ответить на ее пытливые вопросы. В то время у меня не было еще твердой жизненной позиции, и убежденности в своих пристрастиях. Позднее мне было досадно, что я не сумела перед ней раскрыться. Она подарила небольшую книгу своего перевода Лопе де Вега «Учитель танцев». В ту же зиму Всесоюзное театральное общество отмечало ее 75-летие. Татьяна Львовна пригласила меня на торжество. В уютном зале Театрального общества на улице Горького (Тверской) театральная и писательская общественность тепло приветствовала юбиляра. Запомнилась статная фигура Н.А. Обуховой, исполнявшей своим чарующим глубоким голосом романсы на русском и французском языках. Ее пение необычайно гармонировало с ее внешностью.
Возвращаюсь назад, в Коми Республику.
В Сыктывкаре среди высланных литовцев и поляков у нас появились интересные знакомые: С.Б. Швегждо, врач, высланный из Литвы вместе с семьей, работал в городской поликлинике. Милый интеллигентный человек. С ним поддерживали отношения и после окончания войны. Замечательное знакомство произошло у меня, когда мы жили еще в гостинице. Сбегая с лестницы, я увидела молодую пару со скрипичными футлярами в руках. Они у киоска покупали газеты. Я подлетела к ним и с восторгом воскликнула: «Разрешите с вами познакомиться?» Увидеть музыкантов, да еще скрипачей, была такая радость, что я забыла о всяких правилах приличия. Представилась им. Они в свою очередь мне, и мы сразу прониклись взаимной симпатией. Их историю надо рассказать.
14 Письмо Т.Д. Щепкиной-Куперник к Е.П. Виттенбург от 19.02.1948 // РО ИРЛИ РАН, Р-1, оп. 37, ед. хр. 23-27.
15 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к Е.П. Виттенбург от 18.11.1947 // Там же.
16 Письмо Т.Л. Щепкиной-Куперник к Е.П. Виттенбург от 09.10.1943 // Там же.
Эстер Ароновна, будучи ассистентом профессора Варшавской консерватории, вышла замуж за концертмейстера скрипок Варшавского симфонического оркестра Леонида Ароновича Спиро. Они жили на собственной вилле в пригороде Варшавы и работали с большим успехом, уверенно смотрели в будущее. 1939 год — раздел Польши. При подходе немецкой армии к Варшаве советское правительство открыло границу для желающих спастись в Советском Союзе от фашистов. Молодые музыканты, захватив только скрипки, в числе многих бежали. Едва пересекли границу, как всех погрузили в вагоны и отправили в дальние районы страны. Спиро попали на лесозаготовки в Коми. Через какое-то время местные власти решили, что лучше их использовать как музыкантов, и им разрешили переехать в столицу — Сыктывкар. В Сыктывкаре работал местный драматический театр, который не имел оркестра. Леонид Аронович собрал нескольких музыкантов и создал маленький оркестр, первой скрипкой стала его жена. Теперь стало возможным ставить и оперетты.
Леонид Аронович и Эстер Ароновна составляли прекрасную пару. Они обладали добрым сердцем, чуткостью и исключительным взаимопониманием, общение с ними всегда доставляло радость. Спиро снимали комнату у одной местной женщины, довольно нелюбезной и даже злобной, считавшей квартирантов третьесортными людьми. Быт их был крайне неустроен, питание скудно. В конце войны, когда польское правительство договорилось с советским о репатриации рассеянных по стране польских граждан и создании Войска польского, из Коми вывезли всех поляков на юг России. Из Сыктывкара их увозили пароходом в светлый тихий летний вечер 1944 года. Вдруг с удалявшегося парохода разнеслась песнь: «Прощай, любимый город...» Это пели поляки!.. Семья Спиро была отправлена в город Херсон. Леонид Аронович работал концертмейстером в Херсонском областном театре. Там у них родился сын Юрий.
Из последнего письма, полученного от Спиро:
«Мы уже почти забыли о всем плохом, которое перенесли в Коми, а помним только хорошее, а это связано исключительно с вами. Нет наверное такого дня, в котором мы бы вас не вспоминали. Мы любили вас, как только можно любить самых дорогих людей. Ваш дом был для нас каким-то дворцом, святыней, а каждый прием у вас — торжеством. Вам может быть трудно это понять, но это факт! Как жаль, что нам пришлось с вами расстаться... Но все же мы не теряем надежды, что еще с вами увидимся».17
17 Письмо Л.А. и Э.А. Спиро к Е.П. Виттенбург от 12.02.1946 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
К сожалению, наша переписка со Спиро прекратилась, так как через несколько месяцев их отправили на родину. Связь с заграницей в те годы, как известно, запрещалась и преследовалась. Во время «оттепели» и впоследствии попытки разыскать их не увенчались успехом.
Надо рассказать еще об одной встрече. В Сыктывкаре мама подружилась с врачом, эвакуированным из Ленинграда — Марией Дмитриевной. Ее состояние было отчаянным: она потеряла на фронте мужа, а во время эвакуации — двух малолетних дочек. Пароход с ленинградскими детьми затонул в Ладожском озере, обстрелянный фашистскими самолетами. Этой несчастной женщине, кроме мамы, оказывал помощь и поддержку один из врачей, вдовец Вахнин, уроженец Коми. Он проникся к Марии Дмитриевне глубоким сочувствием и полюбил ее. После долгих колебаний и при маминой поддержке она нашла в себе силы начать жизнь заново. Сыктывкар стал ее домом. Мама до конца жизни переписывалась с М.Д. Вахниной.
Успешное наступление Советской армии в 1944 году (освобождение Ленинграда от блокады 27 января, затем Новгорода, а в июне — Петрозаводска) привели в движение те учреждения и заведения, которые в начале войны были эвакуированы на восток. Карело-финский университет начал готовиться к реэвакуации. 30 июля на пароходе «Фрунзе» профессура и студенты, и я в их числе, выехали из Сыктывкара в Архангельск. Пароход комфортабелен, путешествие на этом отрезке пути представляло собою одно удовольствие. При прощании с мамой и Никой взгрустнулось, папы не было, он работал на Северном Урале. Из Архангельска путь лежал через Беломорск.
Прибыли в Петрозаводск среди дня. Город лежал в развалинах. С горы от вокзала виднелось блестевшее вдали Онежское озеро. Словно единственный зуб в голой челюсти торчало каменное здание, как потом выяснилось, гостиницы «Советской». Университет, построенный перед войной, — в руинах. Рядом более или менее сохранился небольшой четырехэтажный дом профессорско-преподавательского состава — видно, в нем жило финское командование. Теперь он был абсолютно пуст, лишь по углам валялся хлам. В этом здании распределили квартиры профессорам, и так как папа числился профессором университета, то для нашей семьи выделили квартиру на четвертом этаже, кажется, из двух комнат. Пока со мной поселились мои сокурсницы. Спали мы на полу, воды, уборной не было — все это общее на весь дом во дворе. Запоры на дверях также отсутствовали, но двери так плотно закрывались, что утром их можно было открыть только с разбега.
Студенты приступили к разбору развалин университета. Вперемешку с кирпичами и штукатуркой валялись книги университетской библиотеки.
Нескольких человек, в том числе и меня, отрядили на откапывание и сбор книг. В свободные вечерние часы мы ходили гулять к озеру, любоваться его простором. Однажды я зашла на старое кладбище. Среди деревьев и крестов стояла маленькая часовня. Открыла дверь... там пусто, но чисто и как-то особенно покойно...
Руководство университета надеялось все же начать учебный год. В связи с этим одному преподавателю и трем студенткам, в том числе и мне, поручили привезти из Ленинграда книги, выделенные для библиотек, пострадавших от войны. С командировочными удостоверениями и разными бумагами, адресованными в ряд библиотек и в государственный книжный фонд, кажется, так он назывался, мы отправились в Ленинград.
Солнечным сентябрьским днем вышли на площадь Восстания. Она была пустынна. Какое счастье — я в Ленинграде! На 31 маршруте трамвая поехала по Невскому проспекту, потом мимо Инженерного замка, по Кировскому проспекту, вышла на знакомой остановке — Песочной улице (ныне профессора Попова). Здесь меня охватило такое волнение и умиление, что я расплакалась. У дома № 55, где жила моя школьная подруга Лида Рыкушина, увидела ее маму, подметающую тротуар — она работала дворником.
Быстро и без всяких затруднений мы отобрали нужные книги. Преподаватель с двумя студентками уехал, а мне следовало книги доставить на Ленинградскую товарную станцию Московского вокзала и отправить. Получила вагон, погрузили книги, запечатали его, и железнодорожное начальство пообещало скоро отправить. Все происходило как по волшебству. Люди, к которым приходилось обращаться, проявляли удивительную благожелательность и готовность помочь.
Впечатление от Ленинграда того времени (сентябрь—октябрь 1944 года):
«Жизнь здесь все же легче сыктывкарской, т.к. есть столовые, по карточкам прилично кормят, есть коммерческие магазины (масло 60 р. 100 г, сахар, конфеты и всевозможные прочие вещи тоже в таком же роде), у любой булочной можно купить хлеб по 40—50 р. кг, устроены на каждом шагу чайные, где продается горячий подслащенный кофе и газированная вода, на улицах эскимо по 15 р. и 35 р. штука. <...> Денег здесь идет невероятно много, но иначе никак не обойдешься, т.к. голодное состояние у меня почему-то сопровождается упадком сил и энергичности, которые совершенно необходимы при всех моих хлопотах»18.
У меня осталось время навестить друзей, узнать, как они пережили тяжелые годы войны. Катя Ляхницкая уже вернулась со своим институтом —
18 Письмо Е.П. Виттенбург к родителям от 04.10.1944 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
кораблестроительным, Нина Бальсон тоже была в городе. Она никуда не уезжала, работала в воинской части. Узнав, что я еду обратно в Петрозаводск, а там голодно, нашла возможность дать мне немного крупы и фасоли. Их я упаковала в старый чемодан вместе с теплыми вещами, хранившимися у Тамары Александровны. Чемодан этот закрывался только на один запор с одной стороны, а с другой оставалась широкая щель, я сдала его в камеру хранения на вокзале. Уезжать-то совершенно не хотелось. Не оставляла мысль об образовании, связанном с искусством, раз профессиональное занятие музыкой для меня уже невозможно — время ушло, учиться игре на скрипке теперь буду только для себя. Узнав, что в Академии художеств объявлен прием, отправилась туда. Меня приветливо встретил профессор В.Ф. Твелькмейер — красивый седой высокий архитектор. Поговорил со мной и, несмотря на то что у меня не было никаких документов, кроме просроченного паспорта, принял на 1-й курс факультета теории и истории искусства. Окрыленная, направилась в отдел пропусков (наверное, как-то иначе он назывался), который находился на углу улицы Ракова (Итальянской) и канала Грибоедова. Комнаты этого здания ежедневно осаждали сотни ленинградцев в надежде получить право на прописку или вызов для семьи. Периодически там вывешивались разные распоряжения, то ужесточающие, то разрешающие прописку каким-либо категориям граждан. Много дней я туда ходила, но добиться мне ничего не удалось. В это время я узнала, что наша комната на Кировском проспекте занята семейной парой, переехавшей из дома, поврежденного снарядом.
Делать было нечего, срок командировки кончался, приходилось возвращаться в Петрозаводск. Мы с Лидой Рыкушиной сели в тот же 31-й трамвай и поехали на вокзал. Трамваи тогда хотя и ходили, но очень часто ломались прямо по пути следования. Запасных частей не было, да и чинили их женские руки. Мы едва не опоздали на поезд. Чемодан из камеры хранения, конечно, взять не успели. Вскочив на ходу, я увидела бегущую по платформе Катю Ляхницкую, которая кричала мне, что с сегодняшнего дня в Ленинграде прописывают. Поезд набирал ход, а я сидела в темном купе и горько вздыхала. В то время поезда не освещались не из-за светомаскировки, наверное, просто не было лампочек.
Ректорат Карело-финского университета предложил папе занять штатное место профессора с ведением полевых работ исключительно в Карелии19. По законам военного времени специалисты, заключившие договор с определенным учреждением, не имели права расторгнуть его до окончания войны, а
19 Письмо П.В. Вкттенбурга к Е.П. Виттенбург от 12.10.1944 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
Северное государственное геологическое управление папу не отпускало. Таким образом, предложение университета не могло быть принято, не говоря о том, что ограничивать свои научные интересы пределами одной Карелии для папы было неприемлемо, и папа с Карело-финским университетом расстался.
Многие профессора, эвакуированные из Ленинграда, стремились вернуться обратно, да и студенты постепенно разъезжались в свои родные города — кто в Москву, кто в Ленинград. Нас, оставшихся, разместили в студенческом общежитии, которое устроено было в небольшом деревянном доме неподалеку от университета. Теснота была ужасная. Я не была готова к жизни в густонаселенной комнате с общими интересами и общим весельем. В коридоре общежития нашла два крохотных помещения, занятых под кладовку. По-видимому, при строительстве они предназначались для уборной, но не были закончены для этой цели. Я получила разрешение занять их. В первой комнатке было окно, крошечный столик и табурет, во второй — лежак от стенки до стенки. Вымыв помещение, я его по возможности обустроила и стало даже уютно. На дворе стоял октябрь, ноябрь — становилось все холоднее, а у меня теплых вещей почти не было — надеялась получить их из Сыктывкара с приездом папы, а ленинградские остались в чемодане в камере хранения. Ночью покрывалась всем, что только было в моем распоряжении, даже носовыми платками.
Часто заходила к семье профессора Дмитрия Владимировича Бубриха. Они жили в первом этаже профессорского дома. Жена профессора, Мария Федоровна, Вера — студентка, моя подруга, Володя — их сын и сам Дмитрий Владимирович были не только интеллигентнейшими, но и исключительно добрыми, обладавшими неисчерпаемым чувством юмора людьми. Отличались они также крайней неприспособленностью к жизни. У них в квартире единственным источником тепла и местом приготовления пищи была кухонная плита. Однажды, когда я к ним зашла, увидела такую картину: в топку плиты был засунут конец бревна — оно как-то тлело, — а другой конец перегородил кухню и высовывался в прихожую. Дрова тогда достать было трудно, топора и пилы не нашлось. Хозяева шутили и посмеивались, но не унывали. Позже, уже в Ленинграде, симпатия между нашими семьями привела к тому, что мы размечтались вместе на паях построить в пригороде дом на две семьи. К сожалению, возможности для воплощения этого плана не представилось.
Я так мерзла, чувствовала себя такой несчастной, что попросила ректора университета К.Д. Митропольского дать мне перевод в Ленинградский университет. Перевода он не дал, но разрешил съездить в Ленинград за чемоданом. В конце ноября я уехала в Ленинград с горячим
желанием там остаться. Надеялась, что ректор не будет насильно держать меня в Петрозаводске. Таким образом я сама поставила себя вне закона. В военное время самовольный уход с работы или из института строго карался, вплоть до отправки на принудительные работы.
К тому времени в Ленинград уже вернулась Ника. Она получила вызов из Строительного института (ЛИСИ), в который влился ее довоенный институт ЛИКС. Я нашла Нику в пустой холодной комнате общежития за подготовкой к экзамену. Она была рада, что вырвалась из Сыктывкара, и тому, что мы опять вместе.
Повидались с Катей Ляхницкой и получили от нее приглашение поселиться в их сохранившейся квартире на улице Жуковского (дом 4, кв. 4). Это был один из первых кооперативных домов научных работников советского времени. Валериан Евгеньевич, отец Кати, приобрел в нем четырехкомнатную квартиру, которую на время эвакуации семьи забронировали. С Катей жила ее соученица Ксения, а родители еще оставались в Горьком. Мы с Никой с радостью приняли Катино предложение, тем более что этот дом, один из немногих в городе, отапливался. Мы поселились в кабинете Валериана Евгеньевича, спали вдвоем на широком диване, за большим письменным столом профессора Ника занималась. Чемодан мой был получен из камеры хранения в полном порядке, даже мыши ничем не поживились.
Итак, мы живем вчетвером. Ника, Катя, Ксения имеют прописку в городе, продовольственные карточки, какую-то стипендию, тем самым являются «гражданскими лицами», а я, кроме просроченного паспорта, ничего — лишь надежду получить перевод в ЛГУ. Время шло, Митропольский не реагировал на мои просьбы. Эта пора для меня была очень тяжелой, так как помимо неопределенного ожидания, постоянно хотелось есть. Не могла же я объедать Нику, прикидывалась, что нет аппетита. Иногда мы вместе ходили в ресторан «Интернационала» на Невском, где днем давали обед по карточным талонам на декаду вперед. В вестибюле этого ресторана однажды нам предложили ангорского кота. Поколебавшись, мы его купили, несмотря на высокую цену — 50 рублей. За годы блокады все кошки были съедены, Ленинград заполонили мыши и крысы. Как-то на набережной Карповки преградил мне путь огромный косяк крыс, направлявшийся на водопой. Берега речки еще не были «одеты камнем». Проезжавший транспорт был вынужден переждать это шествие. С одним из первых железнодорожных эшелонов в освобожденный город доставили именно кошек. Тамара Александровна тоже страдала от нашествия мышей. Вот этого кота она и получила от нас в подарок.
Нас поддерживали посылки из дома. Только для студентов по справке из института почта принимала посылки в Ленинград. В такие счастливые дни устраивался общий праздник, все делилось поровну. Папа и мама присылали нам ежемесячно определенную сумму денег, но нам ее все же не хватало. Я продавала кое-какие наши старые вещи. Рынок-толкучка находился где-то недалеко. В ряду торгующих стояла и я, предлагая то хлопчатобумажные кальсоны, то старое выношенное пальто и другие отслужившие вещи. Народ настолько обносился во время войны, что там распокупалось все. Еще мы торговали дрожжами. В кафетерии на углу Невского и улицы Рубинштейна иногда продавали бруски дрожжей в килограмм веса. Брусок разрезали на маленькие кусочки и несли их на рынок. Однажды Ника торговала этими кусочками. Какой-то мужчина посмотрел на Нику, на ее товар и воскликнул: «Тьфу, барыня, а торгует дрожжами!» — хотя Ника тогда мало походила на барыню.
По карточкам выдавали в месяц бутылку водки — пол-литру. Я и ее ходила продавать. По какому-то случаю мы откупорили бутылку, попробовали — фу, гадость, долили водой, запечатали, и я отправилась с нею на толкучку. Один мужчина приценился, посмотрел на меня и, не сомневаясь, сказал, что, наверное, водка хорошая, такая девушка не может обмануть. Вот и ошибся...
Булочные и кафе были оживленным местом торговли с рук хлебными карточками, главным образом, рейсовыми. Эти карточки выдавались тем гражданам, которые ехали в командировки. Наверное, существовала утечка этих карточек в местах их выдачи, так как частенько они попадались незаштампованными. Тогда сам покупатель штамповал их своими средствами. Рейсовые карточки можно было не только купить, но и продать в нужный момент, а на эти деньги купить самый дешевый билет на концерт в Филармонию.
На нас четырех был только один комплект более или менее приличной одежды. Костюмчик Кати я тщательно заштуковала, заштопала, и он вполне годился кому-либо из нас одному для выхода в свет. Приличные туфли тоже единственные. Нас это не смущало, мы не делали из этого трагедии.
Беспокоило, конечно, что милиция может проверить документы живущих в квартире. На этот случай я должна была прятаться в большом шкафу, стоявшем в коридоре за дверью. К счастью, таких ситуаций не случалось, но при неожиданном звонке я спешила залезть в шкаф.
Уже прошла зима, а мои дела не продвинулись ни на йоту. Многочисленные обращения к разным петрозаводским знакомым с просьбой похлопотать за меня перед Митропольским не имели успеха. Почему он не хотел меня отпустить? Скорее всего, он дорожил списочным числом студентов. Из письма
Татьяны Львовны я узнала, что в Ленинград приезжает Е.В. Тарле со своей сестрой Марией Викторовной Тарковской, старинной нашей знакомой. Татьяна Львовна рекомендовала обратиться к ней с просьбой, чтобы она через брата поспособствовала моему переводу. Но из этого тоже ничего не вышло. Несмотря на охватывавшее меня по временам отчаяние, я твердо решила учиться только в Ленинграде. В Академию художеств хотя и приняли меня условно, но без документов туда идти теперь было уже неудобно.
Мама нам сообщила, что в этом году Люся и Коля перевыполнили план по разведке, закончив ее на месяц раньше. Им объявили благодарность. Руководство обещало по окончании войны отпустить их в Ленинград. Коля надеялся приехать раньше, чтобы выхлопотать семье жилплощадь взамен имевшейся у него до войны маленькой комнаты.
Наступил новый 1945 год. Папа встречал его в одиночестве, так как мама накануне вылетела в район по вызову к тяжелому больному, вернулась домой лишь Ъ января. Маму нагружали работой все больше и больше. Помимо поликлинического приема, она консультировала больных в городской больнице, лечила ответработников (то есть членов правительства Коми) и часто вылетала в дальние районы республики. Редкие часы досуга проводила за чтением медицинской литературы, очень скудной и допотопной — другой достать не могла.
В начале года Коля приехал в Ленинград. Ему удалось в жилуправлении получить квартиру, но какую! — две полуразрушенные комнаты на верхнем этаже дома по Верейской улице. Крутая черная лестница вела на шестой этаж, где сквозь крышу виднелось небо, потолок обвалился, дощатый пол сгнил от многолетних дождей и снега. Город восстанавливал свою жилплощадь за счет горожан. Делать было нечего. Коля заключил договор с ремонтной конторой и уехал заканчивать работы в Коми. Присматривать за ремонтом взялась Ника.
Приближался День Победы. 9 мая мы отпраздновали вчетвером: пожарили на сковороде дрожжи — получился так называемый «пащет», сбегали в булочную за «кофе» — коричневым горячим сладким напитком, откупорили бутылку водки — состоялся пир. Трем студенткам надо было срочно готовить чертежи, они остались дома, а я пошла гулять. Весь город вышел на улицы. Я бродила среди толпы, радость мою теснила тоска и печаль, невозможно было забыть не вернувшихся с войны, погибших близких людей... Вечером в Филармонии слушала кантату Танеева «Иоанн Дамаскин».
Приведу выдержки из моего письма «домой» в Сыктывкар:
«8-го июня Ленинград встречал своих гвардейцев. В этот день действительно чувствовалась победа во всей своей глубине и счастии. Еще поздно ночью начала собираться гроза. (Ее я наблюдала с балкона — так красиво!) Все боялись, что
и день будет дождливый, но погода не могла оказаться бесчувственной к счастью людей, и весь город сиял умытый, праздничный в лучах солнца. Гвардейский корпус к 9 часам вступил в черту города и направился по трем маршрутам. Народ поодиночке и с организациями стоял на протяжении всех улиц, по которым они следовали. У многих в руках цветы, подарки... Мы встречали второй маршрут у Троицкого моста. Мы с Никой были вдвоем, Тамара Александровна со своими сослуживцами встречала у Травматологического института с букетом цветов, папиросами и пол-литрой. Наконец, после долгих ожиданий, завиднелись на хребте моста алые знамена. Впереди шли командиры. Усталые, волевые лица, совершенно бронзового цвета. Почти все имеют много орденов и нашивок на рукавах о ранениях. За ними следовала пехота. Эта колонна почему-то наиболее утомленная. Их молодые и даже юные лица совершенно черны от загара. Когда они остановились на время, мы узнали, что уже полтора месяца длится их путь пешком из Германии, но за это время они отдохнули от войны. Подумать, столько пройти, и это называется отдых, а что значит война...
Потом двинулась легкая артиллерия. Кони стройные и упитанные. А потом двинулись «Катюши». Они без чехлов приводили всех в недоумение простотой конструкции: на грузовой машине установлен наклонно ряд рельс, и на опущенном конце находятся снаряды в два ряда. Вот и все. Встретив вторую колонну, мы с Никушей решили еще не пропустить и третью, которая с Большого проспекта через площадь Льва Толстого шла по Кировскому через Карповский мостик. Вначале шла машина с командующими, превращенная ленинградцами в сплошной огромный букет цветов. Потом прошел генерал, все кричали "ура", хлопали в ладоши, он отдавал честь, как и все командиры. Затем проследовала еще машина, нагруженная подарками, среди которых можно было различить громадный крендель, пироги. Один рядовой нес огромную корзину с фруктами и вином, убранную цветами. Пехота здесь была более бодрая, улыбалась в ответ на приветствия, шутила. Многие несли полные каски подарков. Часто женщины и девушки узнавали в суровых чертах родные лица. Тогда они присоединялись к колоннам. Пушки, конечно, облеплены ребятишками. К сожалению, у нас с Никушей был денежный кризис и мы смогли только подарить по эскимо. Правда, этим заразили и других»20.
В Сыктывкаре, и особенно в глубинных районах Республики Коми, радость дня Победы не так непосредственно ощущалась. В геофизической партии не было даже радиоприемника, радостные вести доходили с опозданием. В конце июня маме пришлось вылететь на санитарном самолете к тяжелобольному в район поселка Жежим, где работали в то время Люся и Коля. Мама решила их навестить, так как болела Наташа. Ехать из Жежима в партию пришлось лесом и болотом по тяжелой дороге в течение целого дня. Приведу отрывок из маминого письма:
20 Письмо Е.П. Виттенбург к З.И. Виттенбург от 10.07.1945 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
«...У Наташи тяжелый язвенный стоматит с высокой температурой и она ничего не ела много дней. Похудела очень. Люсенька стала как щепочка. Они с Колей работают в разных концах за 16—20—30 км в лесу. Кладут все силы, чтобы выполнить планы до зимы, что очень трудно, так как нет полагающихся кадров техперсонала (вместе с ними всего три человека вместо семи) и потому им приходится работать с большим перенапряжением. Я прямо поражена, откуда у Люсеньки берутся физические силы и нравственная выдержка, чтобы справляться в течение пяти лет без передышки со всеми неимоверными трудностями. Недаром она потеряла всякую округлость, но в письмах нет никогда ни слова уныния, и потому единственная фраза из последнего люсиного письма: "как бы мне хотелось разочек пройти по широкой людной улице" говорит в моем понимании очень многое.
Мне думается, что зимою, утопая в снегах и ночуя в лесу в палатке, все же легче, чем работать в болотах летом, так как мириады комаров причиняют танталовы муки, от которых цепенеют мысли, теряется способность восприятия радости жизни, радости солнечного дня и красоты лунной ночи. В комнате гудит как от примуса и дымокуры не спасают, так как через короткое время комары вылезают из всех щелей, несмотря на закупоренные окна и завешенные двери, с тем чтобы с удвоенной силой отравить человеческое существование. Бедная Наташенька, несмотря на жару, ходит в длинном комбинезоне из плотной темной материи с укутанной в платок головой. Вполне понятно, что Люся и Коля мобилизуют все последние силы, чтобы скорее закончить экспедицию и вернуться в культурный центр. Их волнует только мысль о квартире. <...> С питанием очень трудно: няня и ребенок получают только по 200 гр. хлеба и больше абсолютно ничего, поэтому питание построено на одном супе утром и вечером. <...> Известия из внешнего мира приходят в Жежим с большим опозданием. Коля достал радиоприемник, натянул антенну, а он остался безгласен, так как лампы попортились в дороге, что, конечно, не удивительно»21.
Условия работы Люси и Коли достойны специального описания — настолько они колоритны, но к великому сожалению, Люся так и не собралась написать о своей походной жизни.
Поскольку целыми днями Люся находилась на маршруте, то ей пришлось взять в няни местную жительницу неопределенных лет, Аннушку Нестерову. (Тоже Аннушка, как и у нас в детстве, но в каких совершенно других обстоятельствах это происходило...) Аннушка — дитя природы, честная, добрая, но со своими устоявшимися представлениями о жизни. В полевых условиях, когда нужно быстро разжечь костер, сварить кашу, она соответственно себя экипировала: брюки, ватник, ремнем подпоясанный, за ремнем — топор и на ремне сзади висит ...ночной горшок. Этот предмет она использовала в качестве кастрюли: поместителен и всегда при себе.
21 Письмо З.И. Виттенбург к Е.П. Виттенбург в Ленинград от 04.07.1945 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
Вот в таких условиях проходило раннее детство Наташи, первой папиной внучки. Еще из письма мамы:
«Теперь перехожу к самой приятной и интересной теме — о Наташеньке. Молва, которая сложилась о ней, нисколько не преувеличена. Это очаровательный маленький человечек, очень сознательный и вдумчивый, несмотря на свои 2 1/2 года, только мало улыбается, редко смеется и выражение глаз у нее грустное. Личико очень умное, не по возрасту. Она очень наблюдательна, интересуется окружающим, разбирается в цветах, различает кошачьи лапки, кашку, одуванчик и т.д. Знает все краски и очень любит книжки с картинками. Твою "Считалочку" получает только в торжественные дни. Она очень разговорчивая и ласковая, так что пребывание в безлюдье, в лесных болотистых дебрях не отражается на ее характере»22.
В июле в качестве ссыльного поселенца прибыл в Сыктывкар папин старинный знакомый геолог-географ Михаил Михайлович Ермолаев. Еще молодым ученым он принимал участие в 1921 году в папиной экспедиции на Новую Землю. Его жена, Мария Эммануиловна, готовилась приехать к нему из Ленинграда на два года. Мы постоянно были с ними в контакте, так как выполняли разные поручения, полученные из Сыктывкара. Приезд Михаила Михайловича был радостью для мамы. Она писала, что он большой знаток серьезной музыки, и они до его отъезда в экспедицию отводили душу в разговорах.
Папа настолько был занят отчетами и организацией музея, что почувствовал необходимость в физической разрядке. Мама писала:
«Папа сдал на техническом совещании свои отчеты по Вайгачу и Ибу на хорошо и на другой день, вернее, вечером после возвращения с работы, принялся сооружать для всех многочисленных детей нашего дома игрушечный домик. Сам работал вдвоем со столяром каждый вечер дотемна и целые дни по воскресеньям, так что мне не остается времени и словом перекинуться. Сильно похудел, так как подкармливал своим обедом столяра, и наконец 15 июля закончил постройку домика, провел собрание детей, поднял красный флаг и подарил ребятам домик от лица месткома (а между прочим, кроме папы, никто из месткома и жильцов дома и родителей своего личного времени не расходовал, только Августа Ивановна [Зоричева] обещала в воскресенье спечь ребятам пирог на новоселье). Домик получился очень славный, вчера вечером я читала там ребятам детские книжки».23
Глава X Возвращение в Ленинград. Время обманутых надежд. 1945 — начало 1950‑х
Глава X
Возвращение в Ленинград. Время обманутых надежд.
1945 — начало 1950-х
В самом начале августа 1945 года папа получил командировку в Москву. Эта командировка, предусмотренная трудовым соглашением с СГГУ, была очень нужна ему как для выяснения возможности возвращения в Ленинград, так и для определения перспектив дальнейшей работы. После войны многие учреждения пытались всякими способами задержать специалистов, препятствовать их возвращению домой.
В Москве по ходатайству СГГУ через Комитет по делам геологии СССР Комиссариатом социального обеспечения РСФСР папе была назначена пенсия в связи с 35-летним стажем его научно-исследовательской работы. Эта пенсия называлась академической и составляла 300 рублей в месяц. Как пенсионер, он теперь имел право выбора места работы. В ВАКе папа узнал, что решение по его диссертации будет вынесено не ранее ноября месяца. Никакие хлопоты не помогли сократить этот срок.
Главное управление Северного морского пути предложило папе работу в издательстве по редактированию трудов экспедиции Э.В. Толля и, кроме того, написать о нем монографию. Отдел экспедиций пригласил принять участие в двухлетней экспедиции на Новую Землю в район Маточкина Шара. Все эти предложения папе предстояло обдумать.
Тогда же папа узнал о судьбе своего племянника, Володи Делакроа, сына сестры Эли. Делакроа жили на Лосинке под Москвой в собственном доме. Папа очень любил эту семью и, бывая в Москве, часто их навещал. До войны Володя занимался во Всесоюзном научно-исследовательском институте связи разработкой коротковолновой аппаратуры, передающей изображение на расстояние. Он и его семья — жена Нина Владимировна,
педагог, дочери Эля и Виолетта, сын Сергей — были эвакуированы в Уфу. В 1942 году Володю арестовали, осудили за «контрреволюционную деятельность», он умер в лагере под Свердловском от истощения в 1943 году на 51 году жизни. Нина Владимировна с детьми теперь вернулась домой.
На обратном пути папа заехал в Ленинград. К этому времени в Никиной и моей жизни произошли большие изменения. Поскольку из эвакуации вернулась семья Аяхницких, то мы покинули их квартиру. Нике удалось на время выхлопотать ту маленькую комнатку в доме на набережной реки Карповки, где мы жили во время блокады. Туда и переехали. Нашу буржуйку поставили на общей кухне, вся квартира с удовольствием на ней готовила.
Наконец закончились и мои мучения с нелегальным существованием в Ленинграде. Счастливый случаи тому помог: на улице встретила Нину Митропольскую, дочь ректора Петрозаводского университета. Она сказала, что на днях по пути из Петрозаводска в Москву ее отец будет в Ленинграде. Разговор с Митропольским, после некоторых увещеваний с его стороны, закончился выдачей мне справки о переводе в Ленинградский университет. Это случилось 23 июня. Я уже знала, что на историческом факультете открылось новое отделение — искусствоведческое и оно дает образование в направлении философии и истории искусства (изобразительного и архитектуры) в противоположность Академии художеств, где больше внимания обращалось на технологию искусства. Заместитель декана исторического факультета Семен Бенецианович Окунь согласился зачислить меня на второй курс искусствоведческого отделения при условии сдачи мною до начала учебного года экзаменов, возникших из-за разницы программ. Большую часть предметов мне зачли. В результате с третьего курса я поступила на второй.
Страшно было идти с просроченным паспортом к начальнику милиции. Начальник оказался очень симпатичным и добрым человеком. Действительно, с меня не взяли даже штрафа, паспорт продлили и прописали в общежитии университета.
В Бюро распределения рабочей силы — весьма грозном заведении — выдали мне наряд на учебу в университет, благодаря хорошим отметкам в зачетке, и право получить продовольственную карточку: я стала полноправной гражданкой.
Предстояло сдать три экзамена по истории Древнего Рима, Древней Греции и Древнего Востока. Усердно готовилась, но меня постигла почти что катастрофа: легко сдав первый экзамен на отлично, второй пошел туже — на хорошо, а к третьему экзамену я потеряла память. Ни даты, ни события в голове не удерживались. Экзамен сдала на «посредственно». Меня охватила паника... как же я буду учиться? К началу учебного года, к счастью, память восстановилась.
При первой же возможности я подала документы в музыкальную школу для взрослых имени Н.А. Римского-Корсакова и была туда принята по классу скрипки.
Еще весной в Ленинград приезжал Павел Ефимович Безруких, близкий друг нашей семьи, советчик в тяжелые времена папиного ареста и ссылки. Теперь он занимал пост председателя Всероссийского театрального общества (ВТО). Мы с Никой посетили его в номере гостиницы «Астория», где он остановился. Повзрослев, я уже могла в полной мере оценить его глубокую культуру и несравненное обаяние. Общение с ним вводило в совершенно другой мир, в мир высоких духовных ценностей.
Павел Ефимович пригласил меня на заседание ВТО, не помню, какие там обсуждались театральные проблемы, врезался же в память ужасный конфуз, виновницей которого явилась я. Возглавлял тогда Ленинградское отделение ВТО известный драматический актер Юрий Михайлович Юрьев. Павел Ефимович представил меня Юрьеву. Я ужасно смутилась и протянув ему руку, залепетала, что с детства знаю Маргариту Николаевну Зеленину. Большей бестактности совершить было невозможно — в молодости Юрьев просил ее руки и получил отказ ее матери М.Н. Ермоловой. Павел Ефимович перевел разговор, чтобы скрыть мою неловкость.
Теперь, с приездом папы, начались хлопоты по освобождению нашей комнаты на Кировском проспекте. Как нашу, так и соседнюю комнату в квартире занял некий Петров. Выселить его можно было только через суд. Папа, всю жизнь относившийся с доверием к советскому суду, так как сам был законопослушным человеком, подал соответствующее заявление в районный суд. Начались судебные разбирательства вначале в районном, затем в городском суде, так как решение первой инстанции в нашу пользу не устроило Петрова. Он подал кассацию, избегал судебного исполнителя. После долгих мытарств выселение состоялось. Судебный исполнитель по описи принял все наши вещи, остававшиеся в комнате. Они хорошо сохранились. Не хватало только настольной лампы на мраморной ножке с большим абажуром. Все это происходило уже без папы, так как в начале сентября он возвратился в Сыктывкар. Аналогичную ситуацию переживала и семья Бубрихов, но выселение у них осложнялось высокими связями въехавших в их квартиру жильцов.
Наконец в начале ноября я смогла поселиться в нашей комнате. Было большим счастьем почувствовать себя дома после состояния бездомности, которое пришлось пережить. Ноябрь в этом году был очень холодным, в доме же действовало центральное отопление, в кухне можно было пользоваться водопроводом, только в ванной комнате трубы еще не починили.
Приветливо встретил сосед Б.С. Лысенко. Он жил с другой женой, той, которую еще невестой оставил в молодости, пленившись в Гражданскую войну женой одного из атаманов, о чем я уже писала. Теперь, как бы вернувшись в свою молодость, они соединили свои судьбы. В комнате у кухни по-прежнему жила старушка Кирилловна.
Вскоре в Ленинград приехала Люся с семьей. В их квартире еще не был закончен ремонт. Они поселились здесь, на Кировском. Люся отводила душу игрой на рояле.
Шли занятия в университете. В те годы профессорско-преподавательский состав на искусствоведческом отделении был великолепный. Западное искусство было представлено профессорами Н. Луниным, М. Доброклонским, В. Левинсоном-Лессингом, В. Бродским, Н. Флитнер, русское — С. Исаковым, М. Каргером, Э. Гомберг, архитектура — В. Богословским, эстетику читал М. Каган. Лекции по политической экономии в конференц-зале университета для всего потока прекрасно читал ректор А. Вознесенский. Иногда нас отрывали на «трудовые работы» — грузить строительные материалы, каменный уголь — что придется. Шел восстановительный ремонт зданий университета.
Понемногу жизнь в городе налаживалась, однако более всего отставал транспорт. Трамваи, в первые послевоенные годы единственный вид городского транспорта, ходили редко, часто ломались, а влезть в вагон удавалось, лишь употребив немалые усилия и ловкость. Главным образом передвигались пешком. Шли восстановительные работы разрушенных и поврежденных зданий. Проломы в стенах домов закрывали листами фанеры, окрашивали ее в тон здания и даже рисовали на ней окна, наверное, чтобы приезжих не пугали разрушения, но все равно они были видны. Много молоденьких девушек в аккуратных комбинезонах и с косыночками на голове ремонтировали фасады домов, чинили мостовые. Отсутствие теплой одежды заменяли аккуратно сшитые ватники с воротничком и с простроченной кокеткой. Ни в Сыктывкаре, ни в Петрозаводске таких не было. 4 ноября при большом стечении публики торжественно открылся Эрмитаж. Речь держал Иосиф Абгарович Орбели. Нам с Катюшей Ляхницкой посчастливилось при этом присутствовать. Филармония выпустила абонементы на симфонические концерты текущего сезона. Два абонемента купили и мы.
В город возвращались из эвакуации и демобилизованные с фронта. Приехал друг нашей юности Шура Алешко. Он служил в зенитных войсках, сражался в Германии и ни разу не был ранен. Это казалось удивительным, ведь стольких жертв стоила война!.. Появился у нас и младший брат Николая Михайловича, Люсиного мужа, Дий Михайлович Сапрыкин. Познакомились. Он обратил внимание на Нику, и у них завязался роман.
Переход от фронтовой жизни к гражданской не всем давался легко. Некоторые привычки, бытовавшие в армии: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!» — долго не отпускали многих. Так было и с Дием. Он был добрым, отзывчивым и мягким человеком, но... Перед войной не успел закончить вуз, так что ему предстояло еще учиться и учиться. Ника не торопилась окончить институт — она по-прежнему была склонна брать академический отпуск по мало-мальски подходящему поводу. Так сложилась новая семья, состоявшая из двух студентов.
Папа спешил завершить все дела по Северному геологическому управлению. Его научные интересы тяготели к Ленинграду. Еще в августе он написал заявление на имя директора Арктического института В.Х. Буйницкого: «Ввиду того, что я занимаюсь исследованием Полярных стран, прошу зачислить меня в состав вверенного Вам Арктического института»[1]. Дальше следовал перечень полярных экспедиций, в которых он участвовал. Арктический институт предложил папе возглавить отдел общей географии.
Однако получить перевод из СГГУ в Арктический институт оказалось нелегко. Руководство СГГУ ставило разнообразные препятствия. Папе пришлось предоставлять юридические доказательства своих прав на перевод, в том числе Постановление СНК, по которому лица, ранее работавшие в Арктике и пожелавшие вновь вернуться в Заполярье, беспрепятственно возвращаются в систему Главсевморпути. Арктический институт относился именно к этой системе. В результате был подписан приказ о переводе. По папиной просьбе я поддерживала контакт с начальником отдела географии и истории Арктики А.Ф. Лактионовым, для того чтобы форсировать оформление вызова папе и маме на право въезда в Ленинград.
Мама к концу года сильно тяготилась жизнью и работой в Коми.
«Кроме признательного отношения со стороны больных, что, конечно, дает мне моральное удовлетворение, — читаем в ее письме, — я ничего хорошего не вижу. Отвести душу мне нечем — книг интересных нет, свои специальные книги, из которых две надо проштудировать, читать некогда, так как по-прежнему у нас гаснет электричество с наступлением темноты, преимущественно под выходные дни и в выходные, и обязательно в те редкие минуты, когда есть время и настроение чем-нибудь заняться для себя. <...> Не хочется вспоминать о мелочности, несправедливостях, на которые ежечасно наталкиваешься, с меня этот месяц сняли 100 гр. хлеба и таким образом провели полную уравниловку с фельдшерами выпуска 1944 и 45 года, а между тем ежедневно приходится
[1] Заявление П.В. Виттенбург от 23.08.1945 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
проводить консультации в больнице и на вызовах, в том числе и инфекционных больных, при том перерабатывая по 2—3—4 часа и за все получая в получку 260 р. Относясь по-философски к жизни, я стараюсь не обращать внимания на подобные превратности судьбы — "и это пройдет". Этот закон остается непреложен во все времена»2.
Готовясь к предстоящему отъезду, мама в сентябре 1945 года тоже вышла на пенсию по старости лет с обеспечением в 150 рублей в месяц. Обзаведясь множеством справок («без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек» — поговорка тех лет), 1 января она уволилась с работы «в связи с отъездом мужа на работу в Арктический институт в Ленинград». В середине января двинулись в дорогу. Переезд в Ленинград оказался сложным из-за множества вещей, в том числе и домашней утвари, которые пришлось взять с собой, так как ленинградские магазины встречали пустыми полками. Папина полярная библиотека пока осталась на складе в Сыктывкаре.
В двадцатых числах января произошла радостная встреча — мама и папа наконец приехали. После пятнадцатилетнего вынужденного отсутствия — и какого! — папа вернулся в Ленинград, окрыленный возможностью снова приняться за научную и педагогическую работу. Ему было уже 60 лет, но он чувствовал себя готовым к активной жизни, такой, какую вел в 1920-е годы.
Папа с удовольствием принял предложение Ленинградского университета вернуться к чтению лекций на географическом факультете, поскольку в Арктическом институте для него намеченной ранее работы не оказалось. В университете на кафедре Полярных стран, которую за время папиного длительного отсутствия возглавил профессор С.В. Калесник3, папа приступил к чтению трех курсов: «.История исследования Полярных стран», «Полезные ископаемые Полярных стран» и «Техника и методика полевых работ в Арктике».
Кроме того, его заинтересовала возможность получить профессуру в Высшем арктическом морском училище. После окончания войны руководство Главсевморпути в результате реорганизации Гидрографического института создало новое учебное заведение — Высшее арктическое морское училище (БАМУ) с тремя факультетами: судоводительским, гидрометеорологическим и гидрологическим. На гидрологическом факультете папе предложили читать курс лекций по физической географии Арктики.
2 Письмо З.И. Виттенбург к Е.П. Виттенбург. Почтовый штемпель — 18.10.1945// Личный архив Е.П. Виттенбург.
3 К этому времени уже сложилась официальная версия, что профессор Калесник является основателем Географического института, факультета и даже кафедры Полярных стран.
В том же феврале 1946 года, еще до принятия предложения БАМУ, папа подал заявление в Горно-геологическое управление Главсевморпути с просьбой зачислить его на работу4. Он хотел продолжить исследования в Арктике, чтобы проследить геологические закономерности рудопроявлений берегов Карского моря. Его назначили начальником спецэкспедиции № 7 и консультантом спецэкспедиции № 4 треста «Арктикразведка»5. Экспедиции работали на острове Вайгач и в Амдерме. Нужно было к концу мая 1947 года представить четыре главы для окончательного отчета по Вайгачу и Амдерме по разделам: геология, тектоника, рудопроявление, металлогения. Отчет в июле был принят на отлично, но на этом участие папы в работе треста «Арктикразведка» закончилось.
По вызову ГУСМП в последующие годы папе не раз приходилось ездить в Москву для обсуждения планов работ Таймырской экспедиции, обоснования геолого-поисковых работ в Западном секторе Арктики — Пай-Хое, Новой Земле, Таймырском полуострове. Кроме того, папа стремился издать результаты работ по геологии острова Вайгач под общим названием «Труды Вайгачской экспедиции». Первый том «Трудов», видимо, составлял отчет «Геология о. Вайгача и структура рудных полей», представленный папой в 1945 году и получивший гриф «секретно». Для 2-го тома «Трудов» он предложил издательству Главсевморпути сборник «Палеонтология острова Вайгача», куда входили, кроме его статьи «Стратиграфия о. Вайгача», работы Д.В. Наливкина, О.И. Никифоровой, Б.С. Соколова6.
Продолжая работу над монографией об Э.В. Толле и редактирование «Трудов» этой экспедиции, предложенные издательством Главсевморпути в 1945 году, папа часто ездил по издательским делам в Москву. Бывая в там, он не упускал возможности посетить свои любимые Сандуновские бани. Для него не было большего наслаждения, чем попариться там.
Успешной реализации всех начинаний способствовало счастливое обстоятельство: представилась возможность обмена нашей комнаты на Кировском проспекте на отдельную квартиру. Это произошло благодаря знакомству Тамары Александровны с Марией Алексеевной Лесгафт, весьма пожилой одинокой дамой, вдовой профессора Эмилия Францевича Лесгафта, дяди известного Петра Францевича Лесгафта. У Марии Алексеевны была квартира на шестом этаже того же дома, где жила Тамара Александровна. Квартира Лесгафт сильно пострадала во время блокады. Она в ней не
4 Заявление на имя начальника ГУСМП от 15.02.1946 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
5 Выписка из приказа № 684 по ГГУ ГУСМП от 18.06.1946 // Там же.
6 По-видимому, издание не состоялось.
жила и организовать ремонт уже не могла, а наша комната на Кировском проспекте ее вполне устраивала. Беспрепятственно оформили обмен. Смущала только крутая черная лестница, по которой трудно было подниматься, особенно маме. Если бы не обвалившаяся штукатурка потолка от протечек, сгнившие оконные рамы, испорченный паркет, квартира была бы превосходной: две комнаты по 23 метра, лоджия, кухня метров 15, отделенная от комнат двенадцатиметровым коридором. В годы уплотнения жилплощади большую удобную квартиру разделили на две. Эта часть осталась с большой кухней, но при черной лестнице. Еще одним недостатком оказалось то, что первая комната — проходная. Требовался огромный ремонт. Начинать пришлось с покрытия железом крыши мансарды, расположенной над квартирой. Мансарда постоянно давала протечки, папа чинил ее не единожды и даже на свои средства.
Весной, среди хлопот по организации ремонта, чтения лекций, написания многих отзывов на различные научные работы и выступлений при защите диссертаций, папа получил извещение из Геолого-разведочного института о назначенной на 10 апреля защите его собственной диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по книге «Рудные месторождения острова Вайгач и Амдермы». В результате тайного голосования 21 голосом Ученый совет института присудил папе степень (1 голос был подан против). 28 сентября того же года решением ВАК папа получил диплом доктора.
Летом папа уехал в экспедицию на Вайгач и в Амдерму по поручению Горно-геологического управления, одновременно взяв на полевую практику студентов университета. Он был удовлетворен тем, что увидел в Амдерме: «Амдерма выросла. Руда идет в изобилии, план перевыполнен. Числа 15 намерен полететь на Таймыр и не позднее 5 сентября в Москву, домой около 15 сентября»7. На Таймыре в этот раз побывать не удалось — не оказалось самолета. Перед сном, будучи в экспедиции, он читал переписку Чайковского с фон Мекк — его интересовали подробности творческого процесса композитора.
В письме к своей бывшей сослуживице Е.А. Киреевой папа подводит итог года:
«Вы хотите знать, как сложилась у меня работа и жизнь. Как выехал из Сыктывкара, то много пришлось потратить сил и времени по
7 Письмо П.В. Виттенбурга к З.И. Виттенбург от 04.08.1946 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
устройству дел: квартиры и работы. На это ушла вся весна. Лето прошло в экспедиции, а осенью вернулся домой. С квартирой устроились очень хорошо: имеем две солнечные теплые и сухие комнаты и прекрасную кухню, со всеми удобствами (с ванной и пр., имеем также телефон). Квартира отдельная. Работаю профессором <...> Кроме всего этого пишу труд (договорная работа) о Ново-Сибирских островах — экспедиция Э.В. Толля, редактирую переиздаваемые труды Толля. Работы больше чем достаточно, но настроение бодрое — полон сил и энергии. <...> Осенью пошла регулярная работа по чтению лекций — занимаюсь с юношами и девушками с большим удовольствием. Всегда, когда стою перед своей довольно многочисленной аудиторией, испытываю большое удовольствие, их юность передается мне, и чувствую с ними себя прекрасно! Читаю каждый день по четыре часа лекций. Вечером готовлюсь и прорабатываю литературу — нужно сделать так много, а времени так мало»8.
Если лекции по исследованию Арктики и ее полезным ископаемым, которые папа читал в университете, ему приходилось читать и прежде, то курс « Техника и методика полевых работ» он читал впервые и разработал новую программу, опираясь не только на собственную практику и опыт в этой области, но также учитывая богатый полярный опыт Амундсена, Нансена, Скотта, Толля и других исследователей.
Папа считал, что университет должен давать глубокое образование, готовя ученых по исследованию Арктики и Антарктики. Для этого при кафедре Полярных стран географического факультета должен быть расширен существующий кабинет и оснащен новыми приборами, оборудованием, экспонатами, образцами горных пород и полезных ископаемых. В написанной по этому поводу записке9 он прежде всего отмечал, что при кабинете необходима специальная библиотека, обслуживающая преподавателей, а также студентов, специализирующихся по дисциплинам, читаемым на кафедре. В связи с этим он решил передать кафедре свою полярную библиотеку. Папа обратился с письмом к ректору университета А.А. Вознесенскому:
«Располагая значительной научной библиотекой, специально подобранной по географии Арктики и Антарктики, прошу Ленинградский
8 Письмо П.В. Виттенбурга к Е.А. Киреевой от 09.12.1946 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
9 Виттенбург П.В. Кабинет географии Полярных стран географического факультета ЛГУ. [1946] 4 с. // Там же.
Государственный Ордена Ленина Университет принять ее от меня в дар для кабинета Географии Полярных стран.
Моя библиотека насчитывает около 5000 названий, среди которых имеется ряд уникальных трудов, как напр. первое издание плаваний Баренца на голландском языке, серия научных результатов экспедиции Нансена, Скотта, Шеклтона и других исследователей на английском языке, а также научные результаты по исследованию Шпицбергена на шведском и французском языках и т. д. Имеется инвентарная книга и карточный каталог. <...>
Я хотел бы видеть в стенах Ленинградского университета свои книги, которые я собирал на протяжении 40 лет своей научной деятельности, с тем чтобы моя библиотека хранилась в кабинете кафедры Географии Полярных стран, основоположником которой я был в свое время, где она сможет быть полноценно использована в учебных и научно-исследовательских целях»10.
Библиотека была принята, но поблагодарить за этот дар забыли. В настоящее время она хранится в составе библиотеки географического факультета.
Кроме того, папа считал целесообразным для успешного проведения практики по географии и океанографии Полярных стран иметь в распоряжении ЛГУ парусно-моторную шхуну с припиской в Архангельске. По этому поводу он стремился заручиться ходатайством ректора ЛГУ перед П.П. Ширшовым — министром морского флота — о выделении географическому факультету такого судна. Но с 1920-х годов, времени расцвета папиной научной деятельности, положение кардинально изменилось. Ученость теперь не котировалась. Партийные работники с самодовольством заявляли: «Мыуниверситетов не кончали». К полярному Северу правительство относилось потребительски — выкачивать недра и только. Предложения папы успеха не имели. Летние месяцы он продолжал проводить со студентами старших курсов в Арктике: район Хибин, Лапландия, Вайгач и Амдерма. В 1947 году они работали и в Коми.
В это время папа обобщил свои исследования по геологии Вайгача и Югорского полуострова, в том числе и Амдермы, в фундаментальном труде «Рудный пояс берегов Карского моря», том I11. По-видимому, эта работа предполагалась к изданию в университете, но так и осталась в
10 Письмо П.В. Виттенбурга к ректору ЛГУ от 23.04.1947 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
11 Виттенбург П.В. Рудный пояс берегов Карского моря. Рукопись. Л., 1947. 159 с.16 л. карт и разрезов // Там же.
машинописи. Второй том должен был быть посвящен геологии Карского побережья Таймырского полуострова. К университетской деятельности этих лет относится подготовка папой двух докладов: «Возникновение и развитие географического образования в Ленинграде» и «О проблеме Земли Санникова».
В 1948 году оказалось, что университету не хватает документа, подтверждающего папино звание профессора. Архивная справка об утверждении его штатным профессором ЛГУ в 1925 году — недействительна. Пришлось снова подавать документы на конкурс, и лишь 9 марта 1949 года ВАК выдал папе аттестат профессора нового образца по кафедре «География полярных стран».
В 1948/49 учебном году папе было поручено от Географического факультета ЛГУ курировать юношеское географическое общество при Дворце пионеров (Аничков дворец). Он познакомился с работой сектора географии отдела науки и отметил, что здесь предоставлена «возможность получать школьной молодежи не только всесторонние знания и расширять свой кругозор, но и специализироваться в той или иной области согласно индивидуальным склонностям и интересам»12. Он заслушал доклады, зачитанные на конференции, и отметил особенно два из них как наиболее глубокие и интересные, о чем сообщил свое мнение руководству сектора географии.
Как и все трудящиеся, профессора тоже были охвачены социалистическими обязательствами. Вот текст соцобязательства папы 1947—1948 учебного года: «1. Совершенствовать методы преподавания путем проработки со студентами IV курса образцов рудных пород. 2. Провести экскурсию со студентами в музей ВСЕГЕИ для ознакомления с коллекциями по полезным ископаемым СССР. 3. Повысить свой идейно-политический уровень путем проработки работ И.В. Сталина "О диалектическом и историческом материализме"»13.
Каждый учебный год папа должен был заниматься «повышением идейно-политического уровня», что было обязательным, особенно для лиц интеллектуального труда. Он и любознательная мама приобретали абонементы в лекторий горкома ВКП(б), в университет марксизма-ленинизма при ЛГУ, где читались лекции по философии и международным отношениям. Интересно, что папа при серьезном отношении к этим предметам, как и ко всему, чем занимался, никак не мог уразуметь некоторые положения диамата, например тезис о свободе как осознанной необходимости. Какое чувство свободы испытывает человек, подвергающийся незаслуженным репрессиям?.. Явно этот «закон» был весьма относителен.
12 Письмо П.В. Виттенбурга во Дворец пионеров от 02.02.1949 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
13 Соцобязательство П.В. Виттенбурга // Там же.
Не встречая поддержки на географическом факультете ЛГУ в расширении кабинета географии Полярных стран и углублении изучения природы Арктики, папу все более увлекала возможность поставить обучение дисциплин своего профиля на нужную высоту в новом учебном заведении — Высшем Арктическом морском училище им. С.О. Макарова.
Физическая география Арктики в БАМУ была слабо представлена, папа же считал, что без знания особенностей природы Арктики успешно работать в высоких широтах невозможно. Он сумел убедить в этом командование училища, в результате чего с 1 января 1947 года его перевели на полную педагогическую нагрузку, поручили создать кафедру физической географии Арктики и кабинет при ней.
Папа с увлечением принялся за организацию кабинета, его заветная мечта — на лекциях иметь иллюстративный материал (карты, разрезы, образцы и тому подобное). Вначале он читал не только на четвертом курсе, но и на пятых курсах гидрографического и гидрометеорологического факультетов, так как выпускались курсанты, слабо знающие географию Арктики. К концу 1940-х годов его педагогическая нагрузка составляла 688 часов в год: чтение лекций по физической географии Арктики на четвертом курсе двух факультетов и геоморфологии на первом и втором курсах. Кроме того, он читал на пятом курсе факультативный цикл лекций «.История исследований Арктики» по специально составленной им программе, руководил дипломными работами курсантов и аспирантами.
Кабинет быстро наполнялся нужным материалом, изготавливались витрины, на стенах вывешивались разные карты и разрезы. Нужны были и картины, которые, по мнению папы, лучше вводили в живой мир арктической природы. Папа вступил в контакт с известным полярным художником Игорем Павловичем Рубаном и заказал ему девять картин, сюжеты которых ими подробно обсуждались:
«Для сюжета "Властелин Арктики — медведь" шлю Вам ряд фотографий, снятых с картин Ф. Нансена — лучшего знатока и художника природы Арктики. Выберите по своему усмотрению. Я лично стою за картину, отмеченную знаком х. Мы, кажется, условились изобразить медведя в двух видах — "Гордый властелин безбрежных ледяных просторов" и в виде "угнетенного — жертва случайности". Первая картина, я думаю, выиграет, если она будет изображать медведя среди кромки льда — на просторе со слабым торошением, а вторая — медведь в торосах, но не таких мощных, как у Нансена. Хотелось бы, чтобы ясно выступал контраст — беспомощность. "Оберегай медведя" —
хочется сказать каждому, кто их бессмысленно уничтожает. <...> Прошу Вас, Игорь Павлович, написать картину на сюжет хорошо Вам знакомого мотива — бег собак. Собаки мерно бегут, на передней упряжке — каюр меланхолично погоняет хореем собак, за повозкой колесо одометра, за первой — вторая упряжка, но только одни собачата с ушками — все напряженные, все внимание. Освещение мутно, слегка порошит {подчеркнуто автором письма — Е.П.) — все однообразно, но даль зовет. Зовет и тянет и все едешь и едешь без конца и края и все хочется еще и еще ехать в даль — далеко-далеко. Глядя на картину, хотелось бы вспомнить слова полярного путешественника: "опять настала та туманная и мглистая погода, какой-то особенный матовый свет, казалось бы и не сильный, при котором так невыносимо болят глаза. Все предметы, даже близкие, рисуются за кисейной занавеской".
Картину "Мыс Сердца Камень", о которой мы говорили и Вы видели у меня, хотелось бы сделать особенно колоритной: почти ровная гладь моря. Кое-где его зеркальную поверхность нарушают тихо плывущие голубоватые льдины. Чуть в дымке голубоватый горизонт. Беспредельное небо с легкими нежноокрашенными облаками. Воздух свеж и прозрачен, он не скрывает тончайших оттенков неба и воды и в то же время объединяет их в легком звучании. Все чуть движется и в то же время покойно-безмолвно, чем Арктика всегда к себе манит — необъятной глубиной тонов и разнообразием красок — сплошная симфония.
Мне хотелось бы, чтобы каждый при взгляде на картину сказал: "Как хороша, как прекрасна весна в Арктике. Никогда краски не бывают так восхитительны, снеговой покров таким ослепительным, как весной. Ледяные дали прекрасны и одеваются в самые нежные цвета..." Действительно, весна в Арктике восхитительна благодаря обилию света, пронизывающего белую пустыню, и здесь даль зовет. Как хотелось бы, чтоб эти картины шли от души полярника и были понятны без слов»14.
Арктическое училище отпускало достаточно средств на оснащение кабинета, и картины И.П. Рубана украсили стены. Курсанты привозили интересные предметы, найденные ими во время летней практики с островов Диксон и Русский, с Чукотского моря, с Нордвика и других мест. Кабинет пополнялся и геологическими образцами, собранными студентами университета
14 Письмо П.В. Виттенбурга к И.П. Рубану от 10.06.1947 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
во время летней полевой практики. Библиотека (более 1300 томов) заполняла шкафы кабинета. Папа и сюда подарил несколько книг с автографами С.О. Макарова. Кабинет по тем временам был неплохо оснащен и технически — были фильмоскоп, эпидиаскоп, киноаппарат.
На двух научных конференциях профессорско-преподавательского состава БАМУ папа выступил с докладами «Морская вода в глубине вечной мерзлоты» (1946) и «Русская полярная экспедиция под руководством Э.В. Толля» (1949). В качестве представителя Ученого совета училища папе поручили руководство научным обществом курсантов БАМУ. Папу увлекала возможность подготовки будущих научных кадров, в том числе и преподавательских, путем занятий в кружках. При умелом и внимательном руководстве курсанты могут, считал он, стать активными участниками в разработке научных тем, входящих в план кафедр. Наиболее серьезные доклады курсантов подлежали дальнейшей разработке как дипломные работы, а затем и диссертации. Так создалась бы школа. Папа всегда полагал, что ученый должен иметь своих учеников, последователей, но в советское время это не пощрялось, и даже преследовалось: везде должен был присутствовать глаз партии — другими словами, НКВД.
В научном обществе курсантов работало девять кружков, из которых двумя — географическим и геоморфологическим — руководил папа. Он стремился привлечь курсантов к посещению заседаний Географического общества, специально получая для них приглашения. Но в феврале 1950 года папа попросил Ученый совет ВАМУ освободить его от руководства научным обществом в связи с «большой загруженностью и невозможностью уделять должное внимание работе Научного общества курсантов, которое требует активного участия в его работах и систематического действенного руководства»15. (Как увидим, вопрос был вскоре разрешен другим образом.)
В те времена профессорско-преподавательский состав направлялся райкомом партии на заводы, фабрики и в промышленно-технические училища (ПТУ) для чтения научно-популярных лекций. Папа не раз, несмотря на чрезвычайную занятость, отправлялся на чтение лекций в ПТУ и в их общежития. Сплошь и рядом слушателей сгоняли насильно. Нужны были определенные усилия, чтобы овладеть их вниманием. Папа никогда не пренебрегал этими поручениями, но частенько у него оставалось чувство досады от плохой организации.
12 марта 1949 года руководство ВАМУ торжественно отметило папин юбилей. В большом зале училища, заполненном преподавателями и курсантами, начальник училища В.П. Мелешко зачитал приказ:
15 Виттенбург П.В. Записка в Ученый совет ВАМУ от 05.02.1950 // Личный архив Е..П. Виттенбург.
«Командование Высшего Арктического Морского Училища Главсевмор-пути сегодня отмечает знаменательную дату шестидесятипятилетия со для рождения и сорокалетия научной деятельности доктора геолого-минералогических наук, профессора Павла Владимировича ВИТТЕНБУРГА.
Отмечая многолетнюю, добросовестную и безупречную работу в Училище и в Главсевморпути профессора Виттенбурга, объявляю ему благодарность и желаю такой же плодотворной работы в дальнейшем на благо нашей Социалистической Родины»16.
(Привела полностью текст, так как ровно через год все круто изменилось.) Затем преподнесли адрес от БАМУ. Выступили с адресами представитель от сектора региональной геологии ВСЕГЕИ, отметив большие заслуги папы в изучении Уссурийского края; от Географического факультета ЛГУ, обратив внимание на впервые организованную папой кафедру Географии Полярных стран и подготовку специалистов для Арктики; от Гидрометеорологического института, подчеркнув заслуги папы в изучении Арктики и Якутии, а также в педагогической деятельности; от Географо-экономического научно-исследовательского института ЛГУ, отметив папину доброжелательность, помимо заслуг в исследовании Арктики и Якутии. Затем были зачитаны телеграммы из разных городов (всего 22), в том числе от академика Д.С. Белянкина, который поздравлял папу как непревзойденного знатока и неутомимого исследователя Арктики, и от художника Н.Л. Жилина из Сыктывкара. Из присланных в ВАМУ на имя папы писем, особенно его порадовало письмо от бывших студентов Гидрографического института. Курсанты от имени своих факультетов преподнесли папе подарки арктической тематики, в заключении состоялся концерт.
Деятельная натура папы не могла остаться равнодушной к бедственному состоянию дома на Карповке, в который мы переехали. Годы войны и блокады повредили не только нашу квартиру, но и все хозяйство дома. При жилищных управлениях были созданы советы содействия, в которых на общественных началах работали жильцы дома. Тамара Александровна возглавляла санитарную комиссию, а папа взялся за строительную. Он лазил на чердаки и в подвалы, осматривал протечки и повреждения, добивался через райжилотдел проведения ремонта, следил за качеством работ. Думаю, что эти советы содействия принесли реальную помощь в восстановлении жилого фонда города.
16 Копия приказа № 100 начальника ВАМУ от 12.03.1949 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
В то же время папа не забывал и своего любимого занятия в зимнюю пору — фигурного катанья. Он вступил в спортивное общество «Большевик» и мог в любое время кататься на катке этого общества, находившегося на Крестовском острове. В начале 1950-х годов на Елагином острове открылась школа танцев на льду. Папа купил мне фигурные коньки, и мы вместе туда ходили на занятия, разучивали вальс и еще что-то. По воскресеньям отправлялись в Пушкин (Царское Село), где во внутреннем дворе Екатерининского дворца был залит каток. Эти поездки привлекали и моих подруг. Катались все вместе, папа учил нас разным фигурам. (Фигурное катание в нашей стране тогда находилось еще в зачаточном состоянии.)
Мама в конце 1940 — начале 1950-х годов была поглощена работой над переводом с немецкого дневника начальника первой русской полярной экспедиции Академии наук Э.В. Толля, изданного его вдовой Эммелиной Николаевной Толль в 1909 году в Германии (книга была набрана готическим шрифтом). На русский язык он не переводился. Получив в 1945 году от издательства Главсевморпути предложение написать монографию об этом замечательном исследователе Арктики, погибшем в поисках Земли Санникова, папа задумал посвятить ему два тома: монографию и издание его дневника. Над монографией он продолжал постоянно работать, а перевод дневника поручил маме. Удивительно, как мама, спустя 40 лет после окончания гимназии, могла взяться за перевод — настолько, видимо, были устойчивы знания, полученные ею в юности, — ведь в повседневной жизни немецким языком ей пользоваться не приходилось.
Мама по натуре была совсем другим человеком: папина методичность и упорядоченность в работе ей была несвойственна. Она сидела над переводом несколько дней и ночей подряд, потом бросала, отвлекалась на что-то другое. На ней, правда, лежало ведение хозяйства и, кроме того, она частенько себя плохо чувствовала из-за приступов гипертонии и ишемической болезни сердца.
Начали искать домработницу, это оказалось трудным делом: теперь считалось, что наемный труд в виде домашней работы не только не престижен, но даже позорен — прислуживать мол каким-то буржуям. В результате долгих поисков удалось пригласить стряпать обед и покупать кое-что из продуктов одну старушку — Марию Трофимовну Цыганкову. Она оказалась исключительно милым, добрым и умным человеком. Вскоре мы все ее полюбили, она стала как бы членом нашей семьи и моим ближайшим другом. Мамина работа пошла быстрее, однако перевод требовал больших усилий, так как специальные термины и специфические научные обороты вынуждали обращаться к разным справочникам.
Мама опять получила возможность наслаждаться музыкой. Много сама играла на рояле, все вместе часто ходили на концерты в Филармонию, имея несколько абонементов. В послевоенные годы Филармония часто проводила конференции, на которых обсуждалось творчество современных композиторов и исполнителей. Мама с интересом участвовала в том и другом, подробно отвечала на присылаемые анкеты, делилась своими впечатлениями. Среди других у нас всегда был абонемент, посвященный современной советской музыке. Библиотека Филармонии в то время также привлекала слушателей концертов на специальные вечера.
Мама по-прежнему интересовалась политикой, особенно внешней, читала газеты и рассказывала нам с папой основные новости за чайным столом. Ее очень занимала только что сформировавшаяся из Атлантической хартии Организация Объединенных Наций. Мама, как и прежде, была в курсе театральной жизни и всего самого интересного в ней. Благодаря ее осведомленности мы не пропустили незабываемый вечер памяти Александра Блока в 1946 году в Большом драматическом театре на Фонтанке. Зал был переполнен. Стояли где-то в ложе яруса. Наше внимание обратили на пожилую даму в партере — это была Л.А. Дельмас. После выступлении Павла Антокольского и многих других объявили о выступлении Анны Ахматовой. Весь зал встал и слушал ее стоя. В накинутой на плечи шали она царственно подошла к рампе и прочла свои стихи. Зал рукоплескал, выражая глубокое уважение и восхищение. И это было буквально накануне выхода известного постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»17, которое положило начало травле ее и гонению многих.
В послевоенные годы сохранялась карточная система, нормы были недостаточными, например, полагалось 2 килограмма крупы и 900 граммов сахара вместе с кондитерскими изделиями в месяц, а хлеба — 250 граммов в день. Карточки надо было прикреплять к определенным магазинам. Папа как научный работник получал лимитные книжки на продукты и на промтовары, они прикреплялись к так называемому генеральскому магазину на Невском. Выбор там был больше, но в пределах нормы. На промтоварную книжку за сумму, указанную в заборной книжке (она имела еще такое название), предоставлялось право покупать в год указанные в ней товары: 1 пальто, 3,5 метра ткани, 3 пары белья, 1 пару обуви. Считалось большой привилегией иметь заборную книжку.
17 Подробнее см.: Стенограмма общегородского собрания писателей, работников литературы и издательств: К 50-й годовщине постановления ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» от 14 августа 1946 года / Публ. В.Иофе // Звезда. 1996. № 8. С. 3—25.
Посуда в магазинах почти не продавалась. На помощь пришли народные мастера. К берегу речки Карповки, напротив нашего дома, несколько раз причаливали неизвестно откуда приплывшие лодки с глиняными изделиями. Крынки, горшки всех размеров и фасонов, миски пользовались большим спросом. И цену просили небольшую.
В надежде поддержать свой рацион свежими овощами, мы в 1946 году вскопали, как и многие, небольшой пустырь около дома и посадили картофель, овощи. Но из этого, конечно, ничего не вышло: земля плохая, ухода хорошего не было.
Папин отпуск вместе с мамой, а также и мой в эти годы проходил в доме отдыха университета. Несколько старых деревянных домиков было раскидано не то в лесу, не то в заброшенном парке на побережье Финского залива в районе Териок (ныне Зеленогорск). Обычно мы там жили уже в конце лета, когда папа возвращался из экспедиций. В Териоках было немноголюдно. В те времена еще не было огромных зданий санаториев и домов отдыха, городок под старым финским названием являл собой множество пустырей с остатками каменных фундаментов со ступенями, ведущими в никуда.
Жизнь сестер сложилась по-разному. Вероника, старшая, ушла в семейную жизнь, но не слишком счастливую. У ее мужа открылся туберкулез, его оперировали, он жил с одним легким. Все же окончил институт железнодорожного транспорта. Ника в 1949 году защитила диплом в ЛИСИ, получила профессию инженера-строителя, имея уже трехлетнего сына Игоря. На следующий год у нее родилась дочь, названная Ольгой. Для детей пришлось взять няню — бежавшую из колхоза двенадцатилетнюю Люду Ляхову, милую, робкую, исполнительную девочку (о ней речь будет еще впереди). Дий Михайлович продолжал попивать, однако Ника его по-прежнему любила. Жизнерадостный характер и свойственное ее натуре легкомыслие сглаживали шероховатости жизни. Материально им было трудно, но мама и папа, а также старшая сестра Дня, Мария Михайловна, добрая одинокая женщина, им помогали.
У Люси все было иначе. Она увлеклась поисковой геофизикой, чему способствовала и специальность ее мужа — инженера-геофизика. Работа была по-прежнему связана с экспедициями в глухих районах страны. Люсе было присуще обостренное чувство ответственности, она пыталась сочетать свою заинтересованность в работе с материнскими обязанностями.
По возвращении из Коми Люся с мужем были направлены на поиски нефти в Белоруссию и работали там вплоть до 1950 года. Кроме тяжелого и неустроенного быта жизнь там была отягощена тревогой из-за «лесных братьев». В конце зимы 1947 года в семье появилась вторая дочь, названная
в честь Ники — Вероникой. Поздней весной с трехмесячной малышкой и пятилетней Наташей Люся вылетела на самолете к месту работы. Коля как начальник экспедиции уехал раньше. По тем временам пассажиры самолета, улетавшего утром, должны были прибыть на аэровокзал с вечера, всю ночь томиться в страшной тесноте небольшого зала ожидания, где не всем хватало даже сидячего места. Самолет оказался грузовым, неотапливаемым и со щелями, так что во время полета было очень холодно. Коля их встретил на аэродроме. Вот выдержка из одного письма Люси этого года: «С 1 июня я приступила к работе. Для камералки помещение снято в соседней деревне за 1,5 км, так как поблизости не оказалось ничего подходящего. Так что мне приходится делать каждый день вынужденные прогулки утром и в обеденный перерыв. <...> Мы посадили небольшой огород на тех излишках земли, которые были отрезаны у наших хозяев. Посадили картошку, огурцы, немного свеклы и моркови»18.
Чтобы было кому присмотреть за детьми, пришлось выписать из Коми Аннушку Нестерову в качестве няни. А в следующем году Люся работала на большом расстоянии от основной базы экспедиции в Крупицах. Дети находились полностью на попечении няни. Отрывок из октябрьского письма 1948 года:
«Вот уже почти двадцать дней, как я опять в "поле", но мне кажется, что это целые полгода. Вся наша партия лихорадочно подсчитывает "точки" и молит Бога о хорошей погоде — всем хочется попасть к праздникам хотя бы на базу в Крупицы. Сегодня мы ставили нашу ВЭЗ19 на самой границе Белоруссии и Украины, около самой красной звезды, разделяющей республики. Все промочили ноги в пограничном болоте и, как всегда, сушили портянки у костра и жарили тут же "шашлык" из сухого черного хлеба на палочках. Ты меня сейчас не узнала бы, настолько я выгляжу изящно в берете, поверх которого моя старушечья косынка, трех жакетах, осеннем пальто, сверх которого ватник и в довершении всего солдатские кирзовые сапожищи № 40. <...> Иногда мы развлекаемся тем, что печем в костре ворованную картошку, которая кажется вкуснее всякой другой. Возвращаемся большей частью уже в кромешной темноте. Иногда даже последние замеры приходится брать при свете лучины или головни. Встаем же как светает в полседьмого — семь. <...> В свободные минуты по вечерам читаем вслух "Бурю" Эренбурга, от которой я в восторге — это мы читаем втроем (живем тоже все втроем у одних хозяев). Для рабочих я читаю вслух "Люди с чистой совестью" Вершигоры — про партизанское движение в Белоруссии. <...>
18 Письмо В.П. Сапрыкиной к матери, З.И. Виттенбург Крупицы. 27.05.1947 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
19 Прибор вертикального электрического зондирования.
Когда я уезжала из Крупицы, бедненькая Наташа так горевала, что даже, как она выразилась, при одной мысли о моем отъезде у нее что-то болит и колет в горлышке. Я повесила ей около кроватки листик миллиметровки, на котором начертила 30 разноцветных палочек, которые она должна была каждый день вычеркивать. Когда она все вычеркнет — приедет мама. Это ее немножко успокоило, так как она никак не могла себе представить, что такое месяц и скоро ли он пройдет. К счастью, мне ехать пришлось в 11 часов вечера, когда она, утомленная переживаниями, уже заснула. Верусинька же, конечно, еще ничего не понимала, но когда она утром, проснувшись в 7 часов, будет, перегибаясь через свою кроватку с соской во рту, такая розовенькая и веселенькая, заглядывать на мою подушку, то наверное очень удивится, не увидев меня»20.
Моя жизнь, младшей из сестер, потекла по желаемому для меня руслу: училась в университете и в музыкальной школе, подрабатывала у ослепшей писательницы Антонины Венедиктовны Юстус, сестры композитора Венедикта Венедиктовича Пушкова, — записывала сочиняемые ею сказки.
Учиться в университете было очень интересно. Кроме лекций, велись практические занятия в Эрмитаже и в Русском музее. Нам разрешалось приходить в Эрмитаж рано, до открытия. Сильное впечатление производили залы античной скульптуры, а также живописи на втором этаже, когда находилась там наедине с произведениями искусства. Лекции и практические занятия велись по-разному, в зависимости от личности преподавателя. Профессор Н.Н. Пунин читал нам курс западного искусства эпохи Возрождения, он учил нас смотреть и видеть художественные особенности картины. Лекции его были настолько ярки, точны в выражениях, раскрывали нам глаза на виденное, что конспекты этих лекций сохранила я на всю жизнь. Кроме того, он вел семинар «Анализ картины», где требовал от нас не описания увиденного, а искусствоведческого анализа, что мало кто умел делать. Лекции по эстетике молодого доцента М.С. Кагана представляли нам искусство как социальное явление. Это тоже было интересно, открывался совсем неожиданный взгляд на художественный процесс.
Нас, студентов, неприятно поразила публикация в газете «Ленинградский университет» в одном из номеров 1946 года, где за подписью нашего же профессора М.К. Каргера, специалиста по древнерусскому искусству, была напечатана статья «Об идейных позициях профессора Пунина». Автор, опираясь на суждения Николая Николаевича 1918—1920-х годов, обвинял его в том, что тот «не захотел или не смог принципиально и по
20 Письмо В.П. Сапрыкиной к матери, З.И. Витгенбург от 25.10.1948 // Личный архив Е..П. Виттенбург.
существу перестроить свои установки на основе подлинно марксистско-ленинской теории» и что на открытом партийном собрании факультета не согласовал свои позиции с постановлением ЦК партии «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», придерживается, по мнению автора, позиций формализма. Заканчивается статья рекомендацией кафедре всеобщей истории искусства и деканату «поближе познакомиться со своими кадрами преподавателей». Весьма недвусмысленное предложение!
Н.Н. Пунин пока продолжал вести у нас занятия, только сильнее на его лице проявлялся нервный тик. Быть личностью и иметь свои взгляды на искусство было непозволительно. Более «подлинно» соответствовала марксистско-ленинской теории установка, которую нам внушали относительно упадочности буржуазного искусства французских художников-импрессионистов, их безыдейности и формализма, в подтверждение чего приводилось мнение на этот счет великого русского художника И.Е. Репина.
В то время думалось, что после жестокой кровопролитной войны народ вздохнет свободнее, однако не тут-то было. Одно за другим следовали постановления ЦК партии по идеологическим вопросам (1946—1948). Вслед за Постановлением «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» — Постановления «О репертуаре драматических театров», «О кинофильме "Большая жизнь"», «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели», клеймивших неугодных писателей, композиторов, кинорежиссеров и тому подобное. Так называемые «дискуссии» по вопросам философии, биологии, физиологии, языкознанию, политической экономии, борьба с космополитизмом, развернувшиеся «суды чести», создаваемое «Ленинградское дело»21 — все это привело к новой волне преследования деятелей культуры и ученых. Сталин выдвинул тезис: с победой социализма классовая борьба в государстве ожесточается, внутренние и внешние враги не дремлют. Понять происходящее стало совершенно невозможно.
Министерство высшего образования разослало по вузам «Общие требования к программам высших учебных заведений СССР» от 18 апреля 1949 года. Вот основные положения. Программа должна
«строиться на основе марксистско-ленинского мировоззрения. Программа должна воспитывать священное чувство советского патриотизма, преданность великому делу Ленина-Сталина, воспитывать учащихся на борьбу с низкопоклонством, раболепием перед иностранной наукой и культурой. Программа должна направлять преподавателей на беспощадную борьбу со всеми враждебными марксизму-
21 Подробнее см.: «Ленинградское дело». Л.: Лениздат, 1990. 413 с.
ленинизму буржуазными теориями и проявлениями безродного космополитизма — этим основным идеологическим оружием империалистической реакции. Следует помнить, что космополитизм — есть отрицание патриотизма <...> имеет целью разложить и ослабить волю народов к сопротивлению, ослабить борьбу против американской экспансии <...> отравить сознание людей ядом безродного космополитизма. Программа должна широко раскрывать перед студентами преимущество нашего социалистического строя, показывать передовую роль русских и советских ученых и новаторов техники» и тому подобное. Далее: «В программе должны быть показаны новаторы социалистического хозяйства, раскрыты достижения лауреатов Сталинских премий, вскрываться диалектический процесс развития науки — тем самым способствовать формированию у учащихся научного мышления». В конце текста: «иностранную литературу без особой нужды помещать не следует»22.
«Суды чести» — распространенный в то время метод воспитания правоверных ленинцев. По указанию свыше созывалось собрание, где по заранее подготовленному тексту отобранные и проверенные лица высказывали «свое мнение» по поводу неправильного поведения или суждений подсудимого. Так, в октябре 1947 года папа получил пригласительный билет № 550, в котором значилось: «тов. Виттенбургу П.В.23 Главное Управление Северным морским путем при Совете министров СССР приглашает Вас присутствовать на открытом заседании СУДА ЧЕСТИ. Заседание состоится 15—16 октября [в течение 2-х дней!] в клубе "Красный луч" (МОГЭС), Раушская набережная 14. Начало заседания суда чести в 17 часов». На обороте: «Передача другому лицу воспрещается». Папиной рукой карандашом написано: «Судили В.Х. Буйницкого»24.
Этот пригласительный билет прикреплен папой к замечательной книге «812 дней в дрейфующих льдах. Дневник», Автор, Виктор Харлампиевич Буйницкий, Герой Советского Союза, имел ордена Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, два ордена Трудового Красного Знамени получил за участие в дрейфе ледокольного парохода «.Георгий Седов» среди льдов Северного Ледовитого океана с октября 1937 года по январь 1940 года. В числе 15 зимовщиков и команды он был единственным ученым, ежесуточно вел океанологические, метеорологические и географические наблюдения. В результате собранных материалов в 1946 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1947 году ЦК партии посчитало необходимым унизить
22 Личный архив Е.П. Виттенбург.
23 Фамилия написана от руки, остальное типографским шрифтом.
24 Пригласительный билет // Личный архив Е.П. Виттенбург.
его достоинство, подвергнув «суду чести». (Папа на этот суд не поехал.) Тем не менее в 1948 году В.Х. Буйницкому была присуждена степень доктора географических наук, он стал профессором, а затем и деканом географического факультета ЛГУ25. В эти же годы был выпущен, уже по другому поводу, художественный кинофильм «Суд чести».
В 1949 году я окончила университет, получила специальность искусствоведа. Поступила в аспирантуру, но не очную, а заочную. Звучание моей фамилии не соответствовало требованиям времени. В период летних каникул, в августе, был арестован Н.Н. Пунин. Как позже выяснилось, его обвинили в антисоветской деятельности и отправили в исправительно-трудовые лагеря на 10 лет. В 1953 году он умер в Абези от истощения. Обстановка на факультете сложилась тяжелая, у меня не было никакой охоты сдавать кандидатский минимум по марксизму-ленинизму, и я бросила аспирантуру.
В это время, в начале июля 1949 года, папа получил записку от и.о. декана географического факультета ЛГУ Н.Н. Грибанова: «Многоуважаемый Павел Владимирович! Деканат Географического факультета ставит Вас в известность, что на 1949/1950 учебный год Вы не будете иметь педагогических поручений, соответствующих штатной должности, ввиду этого переводитесь на почасовую оплату за читаемые лекции»26. Папа написал письмо заместителю заведующего кафедрой Полярных стран Д. Г. Панову, в котором выразил удивление, как могут решаться изменения в нагрузке тех или иных профессоров в рабочем порядке, а не на заседании кафедры27. Выяснилось, что якобы не хватало часов у другого преподавателя, поэтому сняли у папы производственную практику, являющуюся продолжением читаемого курса и с ним непосредственно связанную. Кроме того, курс «Методика полярных исследований» сократили с 60 до 30 часов, в результате его преподавание вообще потеряло смысл. В качестве внештатного профессора папа все же оставался в ЛГУ до 1951 года.
В стране бушевали дискуссии, навязанные ЦК партии, о которых я упоминала. Дискуссии носили не столько научный характер, и даже совсем не научный, а политический. Все ученые должны были стоять и думать по «стойке смирно», подчиняясь установкам ЦК. Наэлектризованность атмосферы была настолько велика, что не все ее выдерживали. Во время лекции по языкознанию на филологическом факультете ЛГУ умер профессор Д.В. Бубрих.
25 Известия ВГО. 1981. № 2. С. 187-188.
26 Записка от 8 июля 1949г // Личный архив Е.П. Витгенбург.
27 Письмо П.В. Виттенбурга к Д.Г. Панову от 23.09.1949 // Там же.
В Высшем морском училище, как и по всему Главсевморпути, проводилась аттестация, присвоение персональных званий и знаков различия начальствующему составу. В это время в стране многие государственные служащие должны были пройти аттестацию и носить форменную одежду. В характеристику аттестуемого в ГУСМП входили следующие условия: «личные деловые и политические качества (волевые качества, инициатива, требовательность к себе и подчиненным, организаторские способности, моральная устойчивость), стаж и опыт практической работы, работа над повышением своих знаний». В «Пояснениях» уточнялась специфика требований к профессорско-преподавательскому составу: «научный рост и участие в научно-методической работе, научный уровень лекций и практических занятий аттестуемого, участие в воспитательной работе курсантов»28. Всем этим требованиям папа соответствовал. Он как заведующий кафедрой мог рассчитывать на звание «инженера-капитана Северного Морского пути от I до III ранга». Многим уже присвоили звания, но папы это словно не касалось. И здесь ему предстояло получить новый удар. 10 марта 1950 года, придя в БАМУ, он увидел приказ исполняющего обязанности начальника БАМУ инженера-генерал-директора Северного Морского пути III ранга И.В. Максимова следующего содержания: «Виттенбурга Павла Владимировича, заведующего кафедрой физической географии Арктики, уволить с 15 марта по ст. 47, п. «А» КЗОТ. Основание: приказ начальника ГУСМП № К-62 от 3 марта 1950 года»29.
Папе показали приказ заместителя начальника ГУСМП: «Ввиду невозможности дальнейшего использования в связи с изменением в работе кафедры, освободить от работы 15 марта 1950 года Заведующего кафедрой Физической географии Арктики БАМУ профессора Павла Владимировича Виттенбурга»30. Гром среди ясного неба! Ни о каких переменах в работе кафедры заведующему не было известно и разговоров не велось. В чем состоит изменение в работе кафедры, никто ответа не дал.
Папа ошеломленный пришел домой, сел на свой диван, откинулся назад, и в это время наша робкая серенькая кошечка легла ему на грудь, замурлыкав. Кошка поняла смятение человека... Для папы это было полной неожиданностью, смириться он не пожелал. Как требовалось, он передал все дела
28 Выписка из Инструкции о порядке аттестирования и присвоения персональных званий начальствующему составу Главсевморпути при Совете Министров СССР // Личный архив Е.П. Виттенбург.
29 Приказ № 79 по БАМУ // Там же.
30 Приказ начальника ГУСМП от 03.03.1950 // Там же.
кафедры В.В. Дремлюку, доценту, временно исполняющему обязанности заведующего. Составлен был подробный акт с перечислением всего имущества кафедры. Приложена пояснительная записка о прочитанных лекциях в соответствии с программами, о состоянии работы с дипломниками и аспирантами.
Весь март, апрель и май папа посвятил поиску справедливости — восстановлению в училище. Папе было хорошо известно, что министерство высшего образования не допускало увольнения профессорско-преподавательского состава среди учебного года. Поэтому 12 марта он написал секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) Андрианову, затем 22 марта отправил письма в РКК и местный комитет БАМУ с указанием, что «увольнение штатного преподавателя может быть произведено после окончания учебного года». Папе ответили, что заявление его рассмотрено быть не может, так как должность заведующего кафедрой — номенклатура Министерства высшего образования и отдела учебных заведений ГУСМП.
26 марта начальнику Главсевморпути генерал-майору А.А. Кузнецову папа написал о том, что увольнение незаконно и произведено даже без предварительного вызова в министерство. На просьбу о восстановлении на работе — ответ: «После личного разговора с тов. Максимовым [и.о. нач. БАМУ], тов. Бурханов просил передать тов. Виттенбургу, что приказ о его освобождении остается в силе».
28 марта папа обратился к министру высшего образования С.В. Кафтанову с просьбой о восстановлении, подчеркивая, что нет никакого сокращения работ и изменения профиля кафедры. Приказ Максимова противоречит приказу Министерства высшего образования от 8 февраля 1947 года за № 86 «О недопустимости увольнения среди учебного года».
18 апреля была составлена характеристика на папу, утвержденная МК БАМУ и подписанная И. Максимовым. В ней отмечены реальные папины заслуги и достоинства, без них все же было не обойтись, и указаны порочащие недостатки: «При составлении учебной программы по читаемому курсу " История исследований Арктики" в 1947 году, им было допущено излишнее подчеркивание роли иностранных экспедиций в истории изучения Арктики, что привело к необходимости коренной переработки программы в 1948 году. <...> Работа Научного курсантского общества за 1949—50 учебный год признана Советом Училища неудовлетворительной», что противоречило фактическому содержанию отчета о работе Научного общества. Далее упомянуто, что «П.В. Виттенбург выполнял общественную работу, которая выражалась в чтении научно-популярных лекций на предприятиях Калининского района».
Того же 18 апреля папа получил от и.о. начальника ГУСМП В.Бурханова письмо следующего содержания: «На Ваше письмо в ЦК ВКП(б)31 сообщаю, что в личной беседе со мной, а также в Управлении кадров с т. Паниным, полагаю, Вы сами убедились, что оставаться на работе в БАМУ Вы не можете, а поэтому и приказ о Вашем освобождении остается в силе». Странное письмо. В нем нет логики. Скорее всего следует понять, что распоряжение об увольнении папы получено из ЦК ВКП(б)?
Тем временем заместитель министра высшего образования А.Михайлов извещает папу: «Министерство высшего образования дало указание Отделу Учебных заведений Главсевморпути о восстановлении Вас на работу в БАМУ до конца 1949/50 года». Датировано 22 апреля 1950 года. В тот же день папа подает рапорт командованию БАМУ о своем выходе на работу, согласно письму заместителя министра высшего образования.
На рапорте от 23 апреля резолюция: «Приказ начальника Главсевморпути остается в силе».
Папе пришлось обратиться за советом к адвокату в надежде найти хотя бы какие-то признаки законности в поведении государственного учреждения. Найти их не удалось, адвокат только смог предложить папе потребовать от БАМУ через суд выплату зарплаты до конца учебного года за вынужденный прогул. Папа подал заявление в суд. Май-июнь ушел на судебные тяжбы, так как положительное для папы решение суда было опротестовано кассационной жалобой со стороны БАМУ. Жалоба, подписанная И. Максимовым, гласила: «Главсевморпуть своим письмом от 12 мая с.г. разъяснил Зам. министру Высшего образования тов. Михайлову действительные причины освобождения от работы проф. П.В. Виттенбурга и сообщил, что он не может быть восстановлен на работе». В чем состояли эти «действительные причины» осталось тайной.
Прокурор Калининского района (где находилось ВАМУ) поддержал жалобу ВАМУ и послал протест на решение районного суда. Адвокат, к которому обратился папа, оказался умным и смелым. Он блестяще составил объяснение в Судебную коллегию по гражданским делам на кассационную жалобу ВАМУ и прокурора. В частности там значилось: «Автор протеста не усвоил существа спора в суде, а протест районного прокурора находится в полном противоречии с законом. Просьба обе кассации оставить без удовлетворения за полной несостоятельностью и решение нарсуда оставить в силе».32
31 Папа не писал письма в ЦК.
32 Объяснение на кассационную жалобу ответчика и на кассационный протест прокурора в Судебную коллегию по гражданским делам Ленгорсуда от 25.06.1950 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
Характерный для времени факт — учреждение, которое год назад чествовало своего профессора в связи с его юбилеем, теперь внезапно увольняет его без объяснения причин в нарушение закона. Папа не догадывался, что МГБ затеяло новое «дело» — «Ленинградское». С папой могли расправиться более жестоко, так, как поступили со многими — арестовать в пятый раз.
Однако решение районного суда осталось в силе, папа получил зарплату за период до 1 сентября 1950 года.
Так еще одно папино начинание рухнуло. Он с большой радостью создавал кафедру и кабинет физической географии Арктики, надеясь подготавливать полноценных полярных исследователей. Здесь, как и в ЛГУ, это оказалось ненужным.
Любопытно, что 9 июля этого же 1950 года начальник ГУСМП А.А. Кузнецов издает приказ за № АТ-12 о присвоении звания «инженер-капитана Северного морского пути I ранга Виттенбургу Павлу Владимировичу, профессору самостоятельной дисциплины Физической географии Арктики». Начальник БАМУ В. Мелешко своим приказом от 15 июля 1950 года № 309 оглашает в училище приказ Начальника ГУСМП. Одна рука увольняет, а другая присваивает звание33.
Для папы неприятности этим не окончились. Написанная им в послевоенные годы монография «.Русский полярный исследователь Э.В. Толль» и перевод мамой последнего дневника ученого «Плавание на яхте "Заря"» издательством ГУСМП не были приняты. Папа немного опоздал с их предоставлением из-за большой занятости34. Издательство воспользовалось этим и расторгло оба договора, потребовав возврата авансов за обе книги в размере 17 300 рублей. Не имея возможности выплатить единовременно всю сумму, папа с декабря 1950 года по апрель 1951 года пятикратно обращался в народный суд Петроградского района с просьбой отсрочки единовременного возврата денег с заменой выплаты по частям в течение года. Суд удовлетворил папины просьбы.
Наступившие затруднения материального характера побудили папу принять предложение Дальневосточной аэрологической экспедиции Министерства геологии СССР «вести тематическую работу по осадочным породам Сихота-Алина. <...> Помимо тематической работы П.В. Виттенбург заведовал учебной частью ДВЭ и организовал курсы по повышению квалификации ИТР по геологии, геоморфологии, петрографии и шлиховому анализу»35. Папа проработал в ДВЭ всего около года, с 1 июля 1950 по
33 Выписка из приказа // Личный архив Е.П. Виттенбург.
34 Письмо П.В. Виттенбурга к Н.Я. Болотникову от 14.06.1950 // Там же.
35 Справка ДВЭ // Там же.
1 июня 1951 года. Ему пришлось оставить ДВЭ — он не имел возможности выехать на полевые работы, как того требовали интересы дела.
В это же время папа предпринял хлопоты по получению пенсии «работника науки», на что понадобилось немало усилий. В конце сентября 1949 года вышло новое постановление Совета Министров СССР о пенсиях научным работникам, значительно превышавших размеры прежних, но стаж работы в музеях, в том числе и академических, не учитывался. Папе удалось доказать, что хранение коллекций музеев и заведование отделами осуществляется именно научными работниками. С декабря 1950 года он получал пенсию работника науки.
В 1950-е годы папа продолжал «сражаться» теперь уже не с ГУСМП, а с издательствами. Поскольку издательство Главсевморпути отказалось напечатать монографию и дневник Э.В. Толля, папа обратился в Географическое общество, где его предложение поддержали и приняли папин труд для публикации в «Записках» общества. Редактирование предложили Евгению Евгеньевичу Шведе. Кроме того, было принято папино пожелание просить Владимира Афанасьевича Обручева, как автора книги «Земля Санникова», написать предисловие. В течение года папа работал вместе с Е.Е. Шведе, обсуждал с ним многие научные проблемы исследований Арктики, редактирование шло легко и успешно. В декабре Е.Е. Шведе прислал свой отзыв. Отмечая научное значение исследований, проведенных Толлем в Арктике, он писал: «Труд написан с большим знанием дела, причем особенно ценно, что многие из описанных районов Арктики сам автор проехал уже после Толля. Труд изложен хорошим литературным языком и читается легко. К 50-летней дате гибели Э.В, Толля издание данного труда явилось бы настоящим «памятником», который напомнил бы советским географам и полярникам дела и дни их выдающегося предшественника»36.
Вслед за этим папа получил отзыв от знатока Арктики Николая Николаевича Зубова: «Работа стоит на высоком научном уровне. Иначе и не могло быть, так как П.В. Виттенбург считается одним из лучших знатоков геологии нашего севера»37. Дальше Н.Н. Зубов отмечал ряд недостатков и свои пожелания. Они касались приложений, необходимости привести научные выводы, сделанные некоторыми участниками экспедиции, желательность дать карту дрейфа льдов и судов в арктическом бассейне, что папой и было сделано.
Перевод дневника Э.В. Толля «Плавание на яхте "Заря"» папа надеялся с помощью Л.С. Берга издать в Географгизе38. Однако в конце мая
36 Шведе Е.Е. Отзыв о труде проф. П.В. Виттенбурга «Русский полярный исследователь Э.В. Толль, его жизнь и деятельность». 1950 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
37 Зубов Н.Н. Отзыв на работу проф. П.В. Виттенбурга «Русский полярный исследователь Э.В. Толль» // Там же.
38 Письмо П.В. Виттенбурга к Л.С. Бергу от 24.05.1950 // Там же.
1951 года государственное издательство географической литературы известило папу: «Ваша рукопись "Русский полярный исследователь Э.В. Толль" не может быть выпущена в связи с резким сокращением плана выпуска изданий»39. Дело в том, что Географическое общество издавало свои «Записки» через Географгиз. Дневник Толля также из-за сокращения листажа издательство не приняло.
В середине июля 1952 года отредактированную рукопись уже под названием «Жизнь и научная деятельность Э.В. Толля» Географическое общество в лице президента Евгения Никаноровича Павловского предложило издательству Академии наук, сопроводив ее отзывами Е.Е. Шведе и Н.Н. Зубова. Попутно папа просил своего давнишнего знакомого Р.Ф. Геккера напомнить в издательстве Академии о значении личности и трудов Э.В. Толля для науки, а также о 50-летии со времени его гибели40. С такой же просьбой папа обратился к Г.Д. Курочкину, своему коллеге по Таймырской экспедиции, словно предчувствовал недостаточную научную осведомленность сотрудников этого издательства. Спустя 10 месяцев, в июне 1953 года папа получил рукопись обратно. В сопроводительном письме, подписанном ученым секретарем редколлегии научно-популярной литературы РИСО41 Академии наук Д.В. Ознобишиным, значилось: «Возвращаю Вашу рукопись о Э.В. Толле. Цитирую заключение, которое фигурировало при обсуждении вопроса на редколлегии: "Работа персонифицирована. Фигура Толля не заслуживает, чтобы о ней много писать. Это — барон, неудачник, мало сделавший в Арктике. Толлю можно посвятить брошюру или, лучше, журнальную статью. Изменение названия не меняет сути дела"»42.
Приведу текст ответного папиного письма Д.В. Ознобишину:
«Глубокоуважаемый Дмитрий Васильевич! Подтверждаю получение моей рукописи "Э.В. Толль — жизнь и научная деятельность". Заключение РИСО привело меня в недоумение! Общепринятое понятие о персонификации как об олицетворении отвлеченного понятия в человеческом образе не приложимо к моей работе, так как она построена на конкретном материале и какие-либо абстрактные понятия в ней отсутствуют — это во-первых, а во-вторых, меня поразило, что активный деятель Русского Географического общества и Академии наук конца XIX
39 Письмо от 30.05.1951 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
40 Письмо П.В. Виттенбурга к Р.Ф. Геккеру от 12.07.1952 // Там же.
41 Редакционно-издательский совет.
42 Письмо Д.В. Ознобишина к П.В. Виттенбургу от 25.06.1953 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
века, каким мы знаем исследователя крайнего Севера Э.В. Толля, охарактеризован Вашим референтом как "неудачник, мало сделавший в Арктике".
Референт, очевидно, не слыхал о том, что научные результаты экспедиции Э.В. Толля продолжают издаваться по настоящее время Академией наук СССР. Неужели его заключение — плод десятимесячного изучения моей монографии?
Это заключение стоит в резком противоречии к двум другим отзывам, которые даны профессорами Н.Н. Зубовым и Е.Е. Шведе.
Прошу Вас сообщить мне Ф.И.О. третьего рецензента, если это не секрет, и прислать его отзыв полностью»43.
Кто был автором рецензии, ни тем более полного текста ее, добиться папе так и не удалось. Время было такое: автор монографии был не то немец, не то еврей — фамилия не русская, а Толль — немец, да еще барон!..
Замечу кстати: в Публичной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, где я тогда работала в отделе систематики, в мои обязанности входило, помимо составления систематического генерального и читательского каталогов по изобразительному искусству и архитектуре, проверка фонда на предмет обнаружения в искусствоведческой литературе одиозных имен, таких как Соломон Михоэлс, Евгений Браудо, Сергей Маковский и др., а в немецких изданиях — профашистских высказываний. При наличии того или другого на титульном листе книги и соответственно на карточке каталога ставился знак «С» или «ВС», что означало в первом случае ограниченное пользование, во втором — «внимание спецхрана» — запрет выдачи книг читателю. Наличие в каталоге карточек на «вредные» книги расценивалось как потеря политической бдительности.
В это же время специальная комиссия горкома или обкома партии проводила проверку сотрудников на предмет выявления нежелательного контингента. Проверяемых вызывали в комиссию по одному. Когда вызвали меня, спросили мою фамилию (будто они не знали, кого вызывают). Секретарь парторганизации библиотеки тут же вскочил и быстро заговорил: «Это фамилия немецкая, это фамилия немецкая». Для меня проверка прошла без последствий, но огромные списки уволенных каждое утро вывешивались на доске приказов. Позже, когда я работала уже в научной библиотеке Академии художеств, у нашего бухгалтера хранился список «скрытых евреев» из числа сотрудников. В этом списке числилась и я.
Это происходило в начале 1953 года, в октябре же 1952 года XIX съезд партии туго завернул гайки: «Важнейшей задачей идеологической работы
43 Письмо П.В. Виттенбурга к Д.В. Ознобишину от 02.07.1953 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
партии явилось разоблачение и полное преодоление всяких проявлений низкопоклонства перед культурой буржуазного Запада, имеющих место у части советской интеллигенции»44.
В измененный устав партии среди других был внесен пункт, обязывающий своих членов бдительно следить за товарищами, чтобы не допустить инакомыслия. Постоянно вдалбливались нам в голову лозунги: «Мы все в долгу перед нашим государством» (почему не наоборот?), «Народ и партия едины» и тому подобное.
А чего стоили выборы в Верховный совет и другие советы!.. Все должны были проголосовать (за единственного кандидата) до 12 часов дня, но лучше в 7 часов утра. Мы, агитаторы, отвечали за своевременный приход своих избирателей. Бежали по квартирам, просили, умоляли поскорее прийти, а некоторые из граждан, отчаявшись добиться ремонта крана или чего-либо подобного, угрожали, что совсем не придут голосовать, пока не выполнят их требования. Под страхом политических неприятностей ЖАКТ срочно производил починку. Такая система существовала еще много лет.
5 марта 1953 года умер Сталин. Это известие многих повергло в ужас — как дальше жить, ведь все развалится и в стране и в мире... Некоторые плакали, кто искренне, а кто для вида — из страха перед вездесущим МГБ. Надо сказать, что и в нашей семье была растерянность, но арест Берии в июле никого не обескуражил. Сообщение пришло через радио и газеты. Казалось, что все зверства совершались по воле одного человека. Теперь его убрали, и запуганный народ может вздохнуть свободно. В сентябре 1953 года Н.С. Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС. Последовали один за другим Пленумы ЦК, решения которых рассылались по партийным организациям в виде «закрытых писем». Содержание этих писем становилось так или иначе известно всем. Февраль 1956 года — XX съезд партии, на котором Хрущев выступил с докладом, разоблачающим преступную роль Сталина и последствия его культа для страны и мира. Наступила так называемая оттепель — временное потепление политического климата, получившее это остроумное название по злободневной повести Ильи Эренбурга.
Для нашей семьи, как и для подавляющего большинства советских людей, многое переменилось к лучшему. Прежде всего началось освобождение политических заключенных из тюрем и лагерей, стало возможным получить официальный документ с признанием невиновности осужденных по 58 статье Уголовного кодекса. Несмотря на уже имеющееся у папы решение Президиума ЦИКа СССР о снятии с него в 1936 году судимости, он подал развернутое заявление на имя генерального прокурора СССР о
44 История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1962. С. 619.
реабилитации. Заканчивалось оно словами: «Хочу верить, что на склоне лет я буду полностью реабилитирован и смогу беспрепятственно заниматься научно-исследовательской деятельностью на пользу любимой родине и оставить своим детям незапятнанное имя»45.
Мне, выросшей в эпоху тоталитаризма, было страшно за папу, так как всякий контакт с властью казался опасным. Папа же, человек другой эпохи, был уверен в своей невиновности и праве на свободу. После напоминаний и запросов, спустя полтора года он, наконец, получил из Ленинградского городского суда справку о реабилитации со стандартной формулировкой: «за отсутствием состава преступления».
В научной библиотеке Академии художеств, куда меня пригласили летом 1953 года на громко звучащую должность заместителя директора по научной работе (просто так совпало: и искусствоведческое образование, и знание библиотечного дела — окончила библиотечные курсы), директором был старый энкавэдэшник, наверное, еще чекист — В.Я. Якубенко. Человек больной, в библиотеке бывал мало, а дела совсем не знал. Характерный эпизод: в те времена Албания считалась другом СССР. Библиотеку должна была посетить албанская делегация. Накануне в зале заседаний библиотеки (зал Щуко) на потолке среди росписей появилась сильная протечка с 3-го этажа. Якубенко сказал, что эту протечку можно было бы расценить как злоумышленную акцию, направленную против советско-албанской дружбы, но мы этого делать не будем.
Продолжу эпопею с изданием книги о Э.В. Толле. Папа не хотел сдаваться и обратился с письмом непосредственно к В.А. Обручеву с просьбой написать предисловие к монографии и своим авторитетом повлиять на успех дела. Письмо кончалось словами: «Простите, дорогой Владимир Афанасьевич, за беспокойство, но только Вы один можете сказать авторитетно веское слово в защиту чести доброго имени Эдуарда Васильевича Толля»46. На папину просьбу В.А. Обручев ответил письмом и обращением в издательство Академии наук с предложением опубликовать монографию, а предисловие к ней собирался написать позже47, так как ему, девяностолетнему, предстояла глазная операция.
45 Заявление П.В. Виттенбурга Генеральному прокурору СССР от 21.07.1956 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
46 Письмо П.В.Виттенбурга к В.А. Обручеву от 24.09.1953 // Там же.
47 Предисловие В.А. Обручев написать не успел, но, ознакомившись с рукописью, написал отзыв, который с соответствующими комментариями помещен в книге. См.: Виттенбург П.В. Жизнь и научная деятельность Э.В. Толля. М.; Л., 1960. С. 3—4.
Обращение В.А. Обручева сыграло свою роль. Издательство Академии наук предложило монографию напечатать под маркой Института истории естествознания и техники. Ученый совет института вынес постановление: «Целесообразно издать данную работу в объеме 15 авторских листов» и утвердил рукопись к открытой печати без экспертизы48 (?). В январе 1957 года издательство ленинградского филиала Академии наук заключило с папой договор, и дело пошло. Но как? Представленную рукопись (273 страницы) подвергли сокращению почти наполовину, выкинули все карты маршрутов экспедиции и большинство рисунков. Кроме того, редактор изъял имя лейтенанта флота Александра Васильевича Колчака — гидролога экспедиции 1900—1902 годов. Издательству Академии упоминание этого имени показалось опасным. В результате состав экспедиции оказался представленным девятнадцатью членами вместо двадцати. Александр Васильевич Колчак в экспедиции вел океанологические и магнитные наблюдения, в книге же они упоминаются анонимно. Даже спасательная экспедиция по поиску Э.В. Толля и его спутников, предпринятая Академией в 1903 году по инициативе и при участии А.В. Колчака (обследование острова Беннета), была представлена редактором также анонимно. Академия наук шла на фальсификацию истории, для папы это было большим огорчением.
В эти годы сложился афоризм: « Что такое столб? — Отредактированная елка». Утешением для папы явилось издание дневника Э.В. Толля «Плавание на яхте "Заря"», осуществленное в 1959 году Географгизом без купюр: «Наш гидрограф Колчак прекрасный специалист, преданный интересам экспедиции»49. Далее в тексте он много раз упоминается, фигурирует на фотографиях, лишь иногда назван только гидрографом.
Папа был удовлетворен, что две книги, посвященные Э.В. Толлю, увидели свет, хотя и на 10 лет позже намеченного срока — пятидесятилетия Русской полярной экспедиции. Помимо своего глубокого уважения перед ученым — исследователем Арктики, обладавшим широким кругозором, глубокими знаниями в разнообразных областях науки, смелостью и решительностью характера в сочетании с добротой и отзывчивостью по отношению к своим товарищам, папа ценил в нем целеустремленность в достижении цели, самоотверженность и пренебрежение к трудностям, выносливость и беззаветную преданность служению науке. Папа считал Толля «совершенным типом полярного исследователя»50. Ему импонировало понимание Толлем геологии как древнейшей географии, изучающей строение
48 Протокол заседания Ученого совета Института истории естествознания и техники от 10.10.1955 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
49 Толль Э.В. Плавание на яхте «Заря». М., 1959. С. 16.
50 Виттенбург П.В. Жизнь и научная деятельность Э.В. Толля. М.; Л., 1960. С. 231.
земли в смене времен. Ее задача — «указать нам (совместно с астрономией) историю развития земного шара»51.
Одновременно с хлопотами по изданию книги о Толле папа решил написать учебник — руководство для среднего технического персонала геологических партий. На основании своего опыта полевых работ он знал, что в геологических партиях нередко коллекторами работают люди без специального образования. Поэтому он в первой части книги «Практическое пособие для коллекторов» считал нужным привести сведения о породообразующих минералах и породах, формах их залегания, о полезных ископаемых — то есть сведения по общей геологии, а во второй — изложить практические приемы при проведении геологической съемки, при поисках полезных ископаемых и других полевых работах, а также о методах обработки собранного материала. Программу своего учебника папа предложил Министерству геологии (Отделу рабочих кадров), в результате Госгеолтехиздат заключил с ним договор. Книга в 386 страниц текста с большим количеством рисунков, разрезов, чертежей, со списком литературы, многими приложениями и с предметным указателем в 1958 году была подписана к печати и вышла в свет в 1960 году. Папа хотел, чтобы книга открывалась изображением работы геологов в поле. Еще в 1952 году на отчетной выставке дипломных работ студентов художественных вузов в Академии художеств ему понравилась работа выпускника С.Л. Фролова «Советские геологи». С разрешения руководителя диплома, художника Г. Г. Ряжского, он поместил репродукцию картины в качестве фронтисписа к своей книге.
Книг такого рода, где бы теория сочеталась с практикой, в то время не было, а необходимость в них подтвердилась многими положительными отзывами. Поступали предложения издать учебник в дополненном виде, поскольку тираж в 7000 экземпляров оказался недостаточным и разошелся в короткий срок.
В 1955 году государственное издательство геологической литературы предложило папе научное редактирование рукописи в 23 авторских листа «Материалы по четвертичной геологии и геоморфологии СССР». Интересны условия договора, заключенного с папой. Вот некоторые из них: «Научный редактор обязан обеспечить <...> политическую и идеологическую выдержанность <...> по возможности заменить иностранные термины русскими. <...> При редактировании рукописи научный редактор должен охранять приоритет советской науки и не допустить элементов раболепия и преклонения перед иностранщиной».52
51 Речь Э.В. Толля в РГО 29 марта 1900 г. // Виттенбург П.В. Жизнь и научная деятельность Э.В. Толля. М; Л, 1966. С. 74.
52 Договор № 83/55 на научное редактирование от 16.11.1955 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
В 1954 году папа был приглашен консультантом по составлению карты четвертичных отложений в Азиатской части СССР в отдел четвертичной геологии и геоморфологии ВСЕГЕИ53 (бывший Геолком, в котором он начал свой путь в 1909 году). Здесь он проработал четыре года. Как-то на секции литологии и четвертичной геологии обсуждалось очередное письмо ЦК КПСС и Совета Министров, как полагалось в то время, применительно к задачам института. Папа принимал всерьез такие обращения и предложил директору ВСЕГЕИ Л.Я. Нестерову свои соображения по усовершенствованию методов поиска полезных ископаемых и по другим актуальным вопросам практической геологии54.
В эти годы папа продолжал принимать активное участие в работе Географического общества: бывал на заседаниях, его часто просили дать отзыв на ту или иную научную работу или статью, присланную на рецензию в Географическое общество издательством «Советская энциклопедия». В декабре 1957 года папа получил предложение принять участие в работе Полярной комиссии, созданной под председательством В.Х. Буйницкого при отделении физической географии Географического общества. В приглашении сообщалось, что комиссия создана «в целях широкого привлечения советских ученых и практических деятелей к решению научных проблем, связанных с изучением полярных стран и популяризации сведений по географии этих стран»55. Наконец папина мечта о необходимости объединения географов-полярников начала сбываться.
В феврале 1958 года папа в письме президенту Географического общества Станиславу Викентьевичу Калеснику обратил внимание на то, что ВГО, как и Арктический институт, игнорировали чествование реабилитированного Николая Николаевича Урванцева в связи с 65-летнем его жизни и 40-летием научной деятельности в Институте геологии Арктики. Папа напомнил о заслугах Н.Н. Урванцева и предложил организовать чествование юбиляра в Географическом обществе с награждением его одной из медалей Общества и избранием его почетным членом. В.Х. Буйницкий, председатель Медальерной комиссии, попросил папу написать текст о научно-исследовательской деятельности Н.Н. Урванцева, так как ВГО решило наградить его Большой золотой медалью.
В связи с 70-летием Николая Ивановича Евгенова, замечательного полярного исследователя, открывшего архипелаг Северную Землю и
53 Заявление П.В. Виттенбурга директору ВСЕГЕИ от 5.04.1954 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
54 Письмо П.В. Виттенбурга к Л.Я. Нестерову от 12.05.1955 // Там же.
55 Приглашение Бюро Полярной комиссии от 06.12.1957 // Там же.
плодотворно работавшего в Арктике последующие годы, также только что реабилитированного, папа написал обзор его научно-исследовательской деятельности в надежде, что его заслуги ВГО отметит одной из своих медалей. Но Географическое общество провело лишь торжественное заседание, а медаль не вручило.
В 1958 году редактор «Последних известии» Ленинградского радиокомитета предложил папе дать развернутый материал в связи со 100-летием со дня рождения Э.В. Толля. Текст в пять с половиной машинописных листов был зачитан диктором по радио. Папа был доволен, что хотя бы так был отмечен юбилей Э.В. Толля.
Помимо научной деятельности, в эти годы папина энергия распространялась и на другие дела. Он предпринял по просьбе внучки А.П. Карпинского А.В. Нехорошевой-Болотовой хлопоты о назначении ей персональной пенсии. Хлопоты были упорны, но безрезультатны. Попутно папа выхлопотал персональную пенсию Тамаре Александровне Колпаковой за ее работы в Якутии в области микробиологии и во время Великой Отечественной войны.
И дела домоуправления по-прежнему требовали его внимания. Он заботился о ремонте крыши, подвалов, водопровода и прочего. Познакомился с директором фабрики имени Халтурина (бывшей фабрики Мельцера), находящейся на углу Кировского проспекта и набережной реки Карповки. Труба этой фабрики заволакивала черным дымом Кировский проспект. Папе удалось добиться установки на трубе дымоулавливателя.
Часть лета 1949 года мы провели на Валдае. В начале осени посетили Пушкинские места Псковской области, где закончилось восстановление дома Пушкина и домика Арины Родионовны в Михайловском. Их открыли для посетителей. В Тригорском же среди травы виднелся лишь фундамент дома, а о Петровском и помина не было. Побродили по саду, окрестностям, повспоминали стихи. Папа много фотографировал.
Другое лето, 1951 года, проведенное мамой в санатории в Паланге (я приехала позже и снимала комнату в маленьком домике на окраине), имело неожиданно далекоидущие последствия. Паланга в те годы представляла собою провинциальный городок, единственным монументальным зданием был костел. Небольшие дома с садиками смотрелись приветливо, казались уютными, словно в них течет тихая мирная жизнь. Спустя двадцать лет после краха Ольгинской жизни, мама почувствовала в себе силы подумать о загородном домике, о котором все время мечтал папа: так хорошо было бы провести остаток жизни среди природы...
Глава XI Зеленогорск. Последние годы жизни. 1954—1968
Глава XI
Зеленогорск. Последние годы жизни.
1954—1968
После прихода к власти Н.С. Хрущева вышло постановление Ленгорисполкома, разрешающее старшему научному и инженерно-техническому персоналу получать в безвозмездное пользование участки земли на Карельском перешейке для постройки дач. Папа решил взять землю в Зеленогорске (Териоки к тому времени переименовали). Там давали участки в лесу, недалеко от вокзала. Шел 1954 год. Папе исполнилось 70 лет, но он не побоялся начинать строительство.
Участок в 20 соток достался нам с прудиком — воронка от разрыва бомбы — след войны. Война напоминала о себе повсюду. Но «равнодушная природа» сияла «вечною красой». С юга наш будущий садик ограждали высокие сосны и ели, а на самом участке росло много молодого сосняка. Первой акцией была посадка в будущем саду березки. Мы выкопали ее в лесу. Хотелось, чтобы лиственное дерево смягчало суровость соснового леса. Березка в возрасте Наташи — папиной внучки, которая в это время жила у нас. Деревце легко прижилось и радовало нас, как и сама Наташа.
В 1954 году из-за отсутствия денег была построена только времянка со стенами из досок, обшитыми внутри сухой штукатуркой. Небольшая дровяная плита с обогревательным щитом ограждала кухоньку от комнаты. Папа сам мастерил мебель — топчаны, стол, ларь для продуктов, служивший в то же время диванчиком. Он по-прежнему испытывал удовольствие от физической работы. Во времянке устроились очень уютно и настолько просторно, что смогли принимать гостей. На участке среди сосен появился столик, за которым в хорошую погоду обедали и пили чай из старенького бывалого самовара.
За нашим участком тоже велось строительство своими силами. Познакомились. Соседями оказалась семья солиста балета Кировского (Мариинского) театра Владимира Владимировича Фидлера. Скоро знакомство переросло в дружбу.
Нужна была вода для питья. Где рыть колодец? Вспомнили наставления Лукреция в его «Природе вещей»: «Там, где высокая трава, где по утрам собирается роса — там колодец рой». Рабочие, нанятые совместно с соседями, принялись копать и действительно попали на родник — у нас оказалась прекрасная вода.
В эти годы Люся и Коля работали в Сибири. Когда их направили на повышение квалификации в Москву, Колю — в Академию нефти, а Люсю — на курсы, их дети жили у нас. Наташа училась в школе, а Веруся посещала детский сад, расположенный в Ботаническом саду. Наташа росла серьезной девочкой, любила живопись, Веруся же была совсем другим ребенком — веселым, непоседливым, своевольным. Она была не лишена кокетства, как бы восприняв черты характера Вероники — своей тети. У нее, так же как и у Наташи, были склонности к рисованию, что заметно по ее рисункам той поры. Видимо, невоплощенные стремления Люси как-то проявились в детях. К сожалению, Веруся не развила своих способностей. Позже, в Сибири, она училась в музыкальной школе и не только мило играла на рояле, но и интересно импровизировала.
В 1957 году я вышла замуж за Юн Чан Сика, гражданина Северной Кореи. Он окончил Лесотехническую академию, получил специальность архитектора садов и парков. Наше знакомство произошло в Никитском ботаническом саду в Крыму, где он проходил преддипломную практику, а я отдыхала, обитая в одном из домиков служителей сада. В Ленинграде мы вместе ходили на концерты. Его музыкальность и широкое образование, оригинальный склад ума не могли не привлечь моего внимания. Замужество длилось один-два месяца. Ему нужно было возвращаться на родину, которая в его представлении стала цветущей благополучной страной — так работала пропаганда в его землячестве. Уезжая, он был уверен, что я вскоре приеду в Корею, и мы славно заживем в его живописном крае, а потом, спустя какое-то время, вернемся сюда. Папа сразу подарил мне чемодан. Я очень удивилась, а потом узнала, что существует такая примета: если подарить чемодан, то человек не уедет. Письма от Чан Сика приходили безрадостные, а вскоре даже переписка стала невозможна, не то что мой приезд. Отношения между СССР времен Хрущева и Кореей Ким Ир Сена приобрели враждебный характер, прибывшие из Советского Союза вольнодумцы подвергались гонениям. Как сложилась
судьба Чан Сика на родине, узнать так и не удалось. Боюсь, что очень плохо. Мама и папа не возражали против моего замужества — они предоставляли мне самой решать этот вопрос, но скрыть свою радость, что я никуда не уеду, им не удавалось.
Возведение дома сопряжено было с неисчислимыми трудностями. Прежде всего, строительный материал — бревна. Следовало получить ордер на делянку, срубить там лес, превратить его в бревна, погрузить на платформы и железной дорогой доставить в Зеленогорск. Делянка предоставлялась далеко. За эту работу папа попросил взяться Дня, Никиного мужа. Эпопея с лесом происходила немного позже, после реабилитации и получения папой компенсации за Ольгинскую дачу.
В конце лета 1957 года на нашем зеленогорском участке свалили привезенные бревна. Настало время утверждать проект дома. Решили проект составить сами, исходя из семейных потребностей. За это дело взялись мы с мамой. Перед глазами слабо маячил ольгинский домик на Полевой улице, 5. Продумывали, обсуждали все с папой до мельчайших подробностей. Ведь у папы с мамой уже был опыт строительства дома, но, правда, совсем в других условиях.
Вначале дом рассчитывали только на свою семью из трех человек. Потом Люся захотела тоже принять участие в строительстве и иметь комнату для своей семьи. Проектирование мы начали с размещения будущей мебели в предполагаемых помещениях, прикидывая ее размеры, чтобы по возможности сократить площадь дома. Решили, что внизу будет кухня с котлом для водяного отопления, уборная, комната для домработницы и общая большая комната — холл с эркером и камином — с выходом на застекленную веранду. Из этой комнаты должна вести пологая лестница на второй этаж — мансарду. Здесь под высокой крышей три маленьких спальни (папина с мамой, моя и Люсина), а также ванная комната с дровяной колонкой и ватерклозетом. Из каждой спальни имелся выход на балкончик, а из Люсиной на солярий над верандой. Папа хотел, чтобы все было удобно и целесообразно. Воду из колодца в дом намечалось подавать с помощью насоса.
Началось строительство. Что это была за эпопея!.. Квалифицированных плотников найти не удавалось. На словах каждый выдавал себя за мастера, на деле — полная беспомощность. Один заявил сразу, что под угол дома надо положить 1000 рублей, чтобы дом хорошо стоял, другим не нравился проект, хотели строить по-своему, а скорее всего, не знали, как взяться. Все требовали вперед аванс. Папа, будучи человеком доверчивым, вначале давал — и рабочие тут же исчезали. В процессе строительства из всех рабочих единственными специалистами своего дела оказались только водопроводчик и столяр.
Дополнительные расчеты потребовались при сооружении лестницы на второй этаж: высчитать количество ступеней, их высоту, повороты, чтобы лестница была пологой и удобной. Камин по нашему эскизу из красного кирпича выложил лишь третий печник. Предыдущим не удавалось — дым валил в комнату.
Весной 1959 года плотницкие и штукатурные работы были закончены. Отдельные интерьеры, и особенно кухня, формировались в нашем сознании под впечатлением от просмотра французских журналов «Art decoration», которые я приносила из библиотеки. Все малярные работы велись своими силами. На лето приехала Люся с семьей, Никины дети тоже были с нами.
Папа занимался садом. Он распланировал его с учетом естественных условий: на открытом месте перед верандой — цветы, сирень, жасмин, за прудиком — посадки кустов смородины, малины, за времянкой в углу — место для будущего шлака (от котла отопления), среди сосен — «заповедник» — нетронутая природа, его дополнил большой гранитный валун. В глубину прудика, где, как оказалось, бил ключ, опустили бетонное кольцо, чтобы прудик не зацветал. Папа поставил несколько скамеек, две из них около прудика. Особенно полюбилась ему скамейка на маленькой площадке со ступенями к воде. Здесь он отдыхал, попивая из стакана крепкий горячий чай.
Дорожки, проложенные папой, вились вокруг прудика, петляли по саду. Общая длина их достигала чуть ли не полкилометра. Не спеша он прогуливался по ним, погруженный в свои думы. Не раз от рабочих, ходивших мимо на военный завод, спрятанный в лесу, слышались замечания: «Вот буржуи недорезанные...»
Папины знакомые сотрудники Ботанического сада Академии наук и университета давали ему отростки редких кустов и деревьев. Лимонник оплетал южную сторону веранды, амурский виноград обвивался вокруг столбов крылечка веранды. Все это могло прижиться и расти только благодаря многим тоннам земли, которые папе не раз приходилось покупать.
В пятидесятые годы комиссионные магазины города были полны мебелью разных эпох и стилей. Мы с мамой выбрали для холла гарнитур в стиле модерн небольшого формата и кабинетный рояль фабрики «Красный Октябрь-». Папа пригласил пожилого столяра из Академии художеств Михаила Павловича Бакланова, который в течение двух летних сезонов жил у нас. В сарае ему устроили мастерскую. Михаил Павлович был прекрасным человеком и искусным мастером-краснодеревцем, но тут ему пришлось работать с сосной и елью. Мебель он изготавливал по папиным эскизам, применительно к месту. В спальнях, как на корабле, — только необходимое: каждому подставка с ящиками под матрац, встроенный шкаф для одежды, столик. Маме еще полочка для книг.
Папа устроил себе кабинет в холле около лестницы: письменный стол с полками для справочников и подручных книг, за спиной большой шкаф для книг с выдвижными полками и местом для пишущей машинки. Вверху шкафа — наши старинные часы с боем, спасенные из Ольгино, для них специально сделан шкафик. Угол эркера оформлял шкаф-агрегат. На нем помещался с одной стороны — телевизор, с другой — радиоприемник, а внутри шкафа патефон, пластинки и ноты.
Кухню обустроили разнообразными закрытыми шкафами, специальным высоким столом для приготовления пищи. За раздвижным обеденным столом — диванчик, он же ларчик для продуктов. Все удобно. Одно мы забыли, когда проектировали дом — место для холодильника. В то время холодильники еще не были распространены, у нас его и вовсе не было. А когда стало возможным купить, то места для него не оказалось. Вначале без холодильника легко обходились, так как под кухней находился погреб, а в тамбуре был специальный шкафчик. Все это дело рук и мастерства Михаила Павловича.
В холле расставили мебель, повесили занавески, пол покрыли линолеумом, на стенах развесили картины Альберта Бенуа, над диваном — мамину большую вышитую картину. Наконец-то стало возможным жить в свое удовольствие: папе работать за письменным столом, маме играть на рояле. Папа говорил, что под музыку работается особенно хорошо.
Над камином папе хотелось повесить рога дикого оленя. Наш друг и сосед Владимир Владимирович Фидлер преподнес папе оленьи рога. Что тут было!.. Папина вспышка гнева удивила всех. Оказалось, что рога принадлежали одомашненному оленю, папа же считал кощунством любоваться такими рогами. Немного спустя папа успокоился — это у него происходило быстро, извинился перед милым Владимиром Владимировичем за свою горячность и с благодарностью укрепил рога над камином. Они выглядели вполне уместно, никто не знал, какому оленю они принадлежали.
К окончанию строительства приехала из Киева вдова папиного брата Вильгельма — тетя Нина. Седая миниатюрная старушка напоминала маркизу XVIII века. Ей хотелось отогреться душой среди единственных оставшихся родственников. Она всем восхищалась и всему радовалась после той жизненной катастрофы, которую ей пришлось пережить. Папа писал мне: «Мамочка и даже с Ниночкой сегодня копошатся в кухне — маринуют свеклу и очень весело ведут несмолкающую беседу. Вообще меня поражает, как женщины разговорчивы, а здесь нет конца разговору — и все на самые интересные разнообразные темы. Ниночка очень уютная и симпатичная».1
1 Письмо П.В. Виттенбурга к Е.П. Виттенбург от 10.08.1959 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
Зима 1959—1960 года была первой, проведенной в новом зеленогорском доме. Красота зимнего леса — опушенные снегом ветви елей, сосен, тишина... Чириканье синичек, воробьев и соек — единственные звуки, нарушавшие безмолвие. Папа подвесил кормушки для птиц.
Еще летом Люся и Коля привезли из Сибири свою собачку, небольшую рыженькую мохнатую лайку, совсем похожую на лису. Ее и назвали Лиской. В Сибири она почувствовала, что хозяева уезжают, не отходила от них ни на шаг, скулила, явно просила ее не оставлять. Люся прислала телеграмму: что делать с Лиской? Ей ответили — приезжайте вместе. Так появилась Лисочка у нас. По платформе вокзала она шла на поводке с гордым видом, высоко поднятый хвост колыхался словно плюмаж. Дома, на Карповке, куда все прибыли с вокзала, Лиска сразу подбежала к маме и принялась лизать ей руки — поняла, кто хозяйка. В Зеленогорске для Лиски устроили место в ящике под роялем, которое она ревниво оберегала. Во дворе держать ее было жалко, а в доме звонкий ее лай предвещал приближение чужого человека, едва только подступавшего к крыльцу. Лиска стала членом семьи. Ее смышленость, тактичность, преданность и любвеобильное сердце всех подкупали. О ней можно было бы написать новеллу, настолько интересным созданием она оказалась.
Жил у нас и оставленный кем-то из соседей черный кот Тишка. Обычно ему не везло в кошачьих баталиях — частенько раны на его морде приходилось промывать и лечить. Он обитал преимущественно на кухне, но когда мама играла на рояле, приходил и степенно садился в дверях.
Одной из сложностей жизни зимой было отопление дома с помощью котла, находившегося на кухне. Ежедневно 6—7 ведер угля нужно было принести и немногим меньше в виде шлака вынести. Поддерживать постоянную температуру в котле не удавалось, да и часто уголь оказывался плохим. К вечеру бывало жарко, а утром холодно. Особенно от этого страдала мама.
Другой сложностью в зеленогорской жизни стал поиск помощницы по хозяйству. Найти домработницу было очень трудно, так как по-прежнему «быть в услужении» считалось непристойным и унизительным. Топка котла, покупка продуктов и приготовление обеда требовало силы и времени. У мамы не было первого, у папы второго, а я работала в Ленинграде, могла приезжать только накануне выходного дня. Те помощницы, которые вначале появлялись в нашем доме, задерживались недолго, так как очень скоро наглели, вели себя настолько вызывающе, что мама не спускалась вниз, когда папы не было дома, — чтобы не слышать их ругань. Среди них была и цыганка с десятилетним сыном. На смену ей приехала летом с Украины женщина по рекомендации папиных знакомых. Она очень вкусно
готовила, но поставила условие: вечером ей в постель подавать ужин. Пробыла она у нас один месяц и захотела съездить домой. Я ее провожала на Витебский вокзал, тащила ее вещи и должна была еще сбегать в магазин купить ей швейную машину. Не помню, купила ли я машину, но спустя какое-то время она пожелала вернуться. Папа ответил ей письмом в духе дипломатического послания, в котором выразил опасение, сможет ли она перенести непогоду и морозы, будучи «очень нежного сложения». «Мы пришли к заключению, — писал папа, — что для Вас будет лучше, если Вы ориентируетесь на юг к теплым отапливаемым домам с теплоцентралями, а не к отдельно стоящему среди леса домику». И далее: «У нас не было уверенности, что среди зимы Вы вдруг не захотите повидать своих милых родных детей и внуков, покинете нас, как это имело место после 33 дней, прожитых у нас»2.
К этому времени освободилась бывшая няня Никиных детей — Люда Ляхова. Ей исполнилось уже 16 лет. Она охотно взялась за работу, была приветлива и внимательна. Мама с папой не могли на нее нарадоваться. Вечерами она училась в Зеленогорской средней школе. Прожила у нас 5 или 6 лет, окончила школу и вышла замуж. Папа принимал в ее судьбе живое участие.
В эти годы городские власти, как это было принято, несколько раз меняли свои требования по отношению к индивидуальным застройщикам и предъявляли претензии: то слишком велика площадь построенного дома, тогда как в городе семья имеет отдельную квартиру, то участок слишком велик — сократить, то времянку надо передвинуть, то времянку вообще надо убрать, оставить только сарай, иначе дом не будет принят, а владение не узаконено. Последнее решение — превратить Зеленогорск в базу массового отдыха трудящихся, для чего застроить прибрежную часть многоместными домами отдыха и зданиями больших санаториев, что и было сделано, а нашу сторону — направо от железной дороги, застроить многоквартирными жилыми домами для обслуживающего персонала. Слава Богу, эту идею полностью воплотить не успели по каким-то причинам. Постоянно папа и наши соседи находились в напряжении, ожидая следующих новшеств.
В связи с тем что сестра Никиного мужа Мария Михайловна Сапрыкина получила землю для садового участка в Белоострове, папа отдал на вывоз нашу времянку Нике и Дню, так как они хотели летом находиться там все вместе.
В остальном жизнь в Зеленогорске текла тихо и мирно — папин идеал тех лет. Недостатка в научных замыслах у папы не было: планы возникали
2 Письмо П.В. Виттенбурга к Н.П, Солодковой от 01,10,1960 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
сами собою. Папа не чувствовал себя оторванным от геологического сообщества, так как вел огромную переписку, с ним советовались, часто приезжали на консультации или просто повидаться, он бывал на заседаниях в Географическом обществе. То, к чему папа стремился с ранних лет, — семья, жизнь среди природы и интересная работа, — им было восстановлено после стольких крушений и потерь. Его здоровье оставалось весьма удовлетворительным, если не считать перенесенных им нескольких воспалений легких (после последнего мама запретила ему в саду обтираться по утрам холодной водой) и повторной операции грыжи. Мамино здоровье в большей степени несло на себе печать пережитого — сильно сдавало сердце. Приходилось часто прибегать к помощи участкового врача.
Несмотря на частые приступы болезни, мама не падала духом, по-прежнему помогала папе в редактировании его работ, ее не покидал интерес к политике, она рассказывала нам за утренним чаем о новостях, прочитанных в газетах. Хотя эпоха Хрущева была полна противоречий, нами она воспринималась положительно: развенчание Сталина, реабилитация его невинных жертв, ослабление международной напряженности, приравнивание в гражданских правах колхозников, массовое жилищное строительство — все это не могло оставлять нас равнодушными. Недаром в эти годы сложились песни для человека, а не военные марши: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно...» или «Хотят ли русские войны?..» И литература и поэзия встрепенулись. Теперь-то почти все забыто, стараниями следующих правителей. Вспоминаются только блочные дома, названные хрущобами, которые, однако, дали возможность быстро расселить многие коммунальные квартиры.
Как и раньше, мама заботилась о семьях своих замужних дочерей, ее беспокоили чьи-либо неудачи, она всегда была готова помочь советом, находила нужные слова для разговоров по душам, когда видела в этом необходимость, у нее искали участия и поддержки друзья и знакомые. В семейной жизни моих сестер далеко не все обстояло благополучно. Никин муж по-прежнему не мог избавиться от пристрастия к спиртному, а в Люсиной семье трудность состояла в несовместимости характеров ее и мужа. Что касается меня, то я находила удовольствие в общении с родителями, наши отношения сложились самым дружеским образом, ни с кем мне не было так интересно и легко, как с ними. Сохранилось много писем мамы и папы, полученных мною за рабочую неделю. Мама начала обучать меня французскому языку, который она знала в совершенстве, — только теперь нашлось для этого время. Частенько мы с мамой музицировали к обоюдному нашему удовольствию и много смеялись — чувство юмора ее никогда не покидало.
По-прежнему, как когда-то в Ольгино, все вместе, теперь уже с семьями моих сестер, встречали все праздники: Новый год, Масленицу с блинами, Пасху с куличами и общепринятые 1 Мая и 7 ноября. К последним требовалось вывешивать на доме красный флаг с серпом и молотом. Мама называла это «проявлением лояльности к власти».
За столом собирались чада и домочадцы, кое-кто из знакомых или соседи Фидлеры. Готовили всякие вкусные угощения и взаимные подарки. Молодая поросль шалила и веселилась. За утренним чаем папа зачитывал многочисленные поздравления, полученные по почте, потом дети бежали на лыжах на Серенаду (высокие холмы в лесу за Зеленогорском), а летом кавалькадой на велосипедах отправлялись купаться в Чертовом или Щучьем озерах. Как-то папа увидел, что девочки в шортиках предприняли утреннюю пробежку. Он пришел в ужас: «Возмутительно! Как из моего дома девочки выбегают в одних штанишках!» Пришлось ему объяснить, что теперь так принято, теперь такая мода.
Дети очень любили приезжать к дедушке и бабушке. Они не только развлекались, но и имели «трудовые повинности»: ухаживали за садом (огорода у нас не было — мало солнца), пилили и укладывали дрова, ездили за продуктами, для чего объезжали на велосипедах многие магазины, успевая попутно выкупаться в море. В летние сумерки самым увлекательным занятием была игра в саду в 12 палочек или в пинг-понг вплоть до глубокой ночи.
Как-то папе попали на глаза лежащие где попало листочки с шутливыми стишками. Это оказались поэтические начинания Наташи. Вскоре дедушка ей вручил толстенькую тетрадь с застежкой, и она постепенно заполнялась. Однажды папа увидел в уединенном местечке за сараем читающую Наташу, сидящую чуть ли не на корточках. Наташа спряталась в надежде, что ее не найдут, а почитать очень хотелось. В другой раз, когда она отправилась туда, увидела маленькую скамеечку, приготовленную ей дедушкой.
Приятной обязанностью каждого летнего сезона было посещение семьи Евгения Евгеньевича Шведе на недавно постороенной ими даче у Щучьего озера. Поручалось это мне. Отправлялась летом пешком с кем-либо из племянниц. Нас радушно встречали, на большой полукруглой веранде с видом на озеро угощали чаем.
Наш дом навещали старые и новые друзья и знакомые, в том числе и папина племянница, дочь сестры Елены (Эли), Валида Эрнестовна и ее муж Сергей Васильевич Несмелое. Так восстановились родственные отношения ранней папиной юности.
Своеобразно сложилась жизнь Валиды: она в молодости параллельно с работой радистом (первая в стране женщина-радист на судах дальнего
плавания, о чем я уже упоминала) увлеклась живописью, в 1922 году поступила в Академию художеств, в мастерскую «пространственного реализма» М.В. Матюшина. Летом плавала на судах, а зимой училась. В 1926 году окончила академию, не теряя связи со своим профессором, под его влиянием приступила к изучению законов цвета, чему посвятила многие годы жизни. Она и некоторые ее соученицы под руководством М.В. Матюшина создали «Справочник по цвету»3. После смерти М.В. Матюшина в 1934 году Валида продолжала заниматься изучением закономерностей цвета в Лаборатории зрительного восприятия, организованной при Академии художеств. Параллельно она преподавала в Морском техникуме — готовила высококвалифицированных радистов. В начале 1930-х годов вышла замуж за Сергея Васильевича Несмелова — специалиста-оптика. В 1935 году у них родился сын Никита. К началу 1960-х они уже оба вышли на пенсию.
8 января 1960 года — большой семейный праздник: «золотая свадьба» папы и мамы. Прожита не простая жизнь, и в старости она освещалась теплотой чувств, сердечным участием и взаимным вниманием.
Мама как-то умела вести супружеские отношения на равных, в семье никто не командовал, любовь и взаимоуважение скрепляли этот союз. Обладая самостоятельным характером и большими творческими возможностями, мама умела свои интересы отодвигать на второй план, на протяжении всей семейной жизни она была мужу помощницей и опорой. Насколько непросто быть женой ученого — мама хорошо знала, изредка с оттенком горечи она замечала: «Папа — существительное, а я прилагательное». В отношении с детьми сложилась определенная система: общее направление решалось совместным обсуждением, конкретная реализация осуществлялась мамой. Другими словами — папа руководил детьми через маму, но непослушание детей, а затем и внуков разбиралось папой. Наблюдая отношения во многих других семьях, думаю, что наиболее гармоничными они были между нашими родителями.
Тихие и мирные годы жизни в Зеленогорске дважды нарушила внезапная болезнь мамы. Летом 1960 года ее состояние было настолько тяжелым, что хирургическое отделение Зеленогорской больницы установило у нас дома медицинский пост. Заведующий отделением Николай Осипович Синкевич и рекомендованный нам кардиолог Наум Герцевич Рабинович ежедневно посещали маму. Мы дежурили круглосуточно около нее попеременно с медицинскими сестрами больницы. Необходимые лекарства с готовностью привозил из города Пармен Григорьевич Бирагов, муж моей подруги
3 Матюшин М.В. Справочник по цвету. М.; Л.: Изобразительное искусство, 1932.
Наташи, друг нашей семьи и необыкновенно отзывчивый человек. В один наиболее тяжелый момент, когда маме стало совсем невмоготу, она попросила, чтобы зазвучал «Реквием» Моцарта. Я побежала за соседкой Фаней Брянской, пианисткой, преподавательницей консерватории, с просьбой сыграть на рояле. Она тотчас же пришла, и звуки Моцарта облегчили мамину боль. Вскоре была сделана операция.
Мама пролежала в постели, наверное, около двух месяцев, она страшно похудела и разучилась ходить. Поддерживаемая мною, второй раз в жизни она осваивала первые шаги. Мама умела не сдаваться. Спустя год у нее случился микроинсульт. Правильным лечением и усилием воли мама преодолела его последствия. По рекомендации врачей она гуляла в любую погоду в сопровождении Лисочки. В результате ей удалось восстановить двигательные способности ноги и руки. Она снова смогла играть на рояле. В последних числах ноября 1962 года у мамы произошел второй удар. Вечером 6 декабря она скончалась. Папа и мы с Люсей были у ее постели. После последнего вздоха лицо мамы мгновенно чудесным образом преобразилось — оно приняло умиротворенное выражение, осененное светлой радостью.
Похоронили маму на Зеленогорском кладбище среди сосен над обрывом. Деревянный крест, установленный папой, стоит и по сию пору.
Оставшись один, папа стремился занять себя как можно больше работой. Еще во время маминой болезни он задумывался над необходимостью подготовки к печати второго издания «Практического руководства для техников-геологов», дополненного и кое в чем измененного, так как на первое издание пришло много положительных отзывов.
Приступая к работе над этим изданием, папа заручился согласием нескольких ученых и практиков в написании ими специальных глав — Н.Б. Вассоевича, Р.Ф. Геккера, В.В. Ермолова. О геофизических методах разведки предложил написать Люсе, имевшей уже к этому времени большую практику, и геофизику — А.Г. Колчиной.
Узнав, что геолог Юрий Павлович Деньгин после перенесенного инсульта томится без дела, папа привлек его к работе. Врачам удалось восстановить подвижность его конечностей, но потерянную в результате перенесенного инсульта речь вернуть не смогли. Деньгин охотно приезжал к папе в Зеленогорек, и они с помощью карандаша и бумаги вели разговоры: обсуждали многие геологические вопросы в плане организации материала, включения новых разделов, составления предметного указателя. Мамы уже не было, вычитать папины рукописи было некому. Юрий Павлович не только отредактировал текст, но и включил в книгу ряд личных наблюдений и материалов.
В предисловии папа опять поместил обращение к читателю: «Издание не свободно от недостатков, и авторы с благодарностью примут критические замечания по адресу: Зеленогорск, Моховая 16»4.
Однако издательство «Недра» потребовало сократить текст с 30 до 20 печатных листов — дефицит бумаги. «Проделал мучительную операцию сокращения, — писал папа Е.А. Киреевой, — предложено сократить целыми главами. В том числе сократить текст Р.Ф. Геккера и пришлось изъять гидрологию, а также главу "Горные работы и бурение"»5.
В ожидании выхода книги папа писал той же Е.А. Киреевой:
«Вы, мои друзья, можете задать мне контрвопрос и спросить: о чем Вы, Павел Владимирович, сами мечтаете? Я мечтаю сам иметь возможность постоянно слушать симфоническую музыку у себя в окружении дивной природы, живя в своем маленьком домике, созданном желанием Зинаиды Ивановны по ее плану, и увлекаться прекрасными звуками музыки Чайковского, Шумана, Моцарта, Равеля, Гайдна и пр. — это во-первых, а во-вторых — читать книги по геологии и мечтать о третьем издании моего «Практического пособия для техников-геологов». Ко дню моего 80-летия обещают выпустить второе переработанное и дополненное издание, что будет в феврале месяце. Об этом я мечтаю и думаю — вернее, подготавливаю материал для будущего издания, так как по воле нашей системы издательством выпускается не 20 000 экземпляров6 и я надеюсь, что второй выпуск, также как и первый, скоро разойдется. А первый разошелся в 3 месяца»7.
Я.Я. Гаккель от имени Географического общества предложил папе торжественно отметить его 80-летний юбилей. В следующем письме к Е.А. Киреевой папа пишет: «От юбилейного торжественного чествования в Географическом обществе я категорически отказался. Получил ряд писем от своих друзей и близких знакомых. Дома у себя в кругу своих детей, внуков и близких друзей провели мы в мирной обстановке. Конечно, мне все недостает друга жизни, так грустно без Зинаиды Ивановны, ведь мы 53 года прожили так дружно, а теперь такое одиночество»8.
4 Практическое руководство для техников-геологов. Л.: «Недра», 1964. Изд. 2-е. С. 4.
5 Письмо П.В. Виттенбурга к Е.А. Киреевой от 17.10.1963 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
6 Второе издание вышло тиражом в 5000 экз.
7 Письмо П.В. Виттенбурга к Е.А. Киреевой от 22.12.1963 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
8 Письмо П.В. Виттенбурга к ЕА. Киреевой от 22.04.1964 // Там же.
Летом в связи с налаживанием отношений между СССР и Норвегией и готовящейся поездкой Н.С. Хрущева в Осло, папа получил предложение выступить по Ленинградскому телевидению со своими воспоминаниями о встречах с Нансеном и другими норвежскими учеными, а также о необходимости взаимных научных связей. Выступление состоялось в июле 1964 года. Я его смотрела у знакомых по телевидению, так как своего телевизора у нас не было.
В то время у папы наладилась переписка с Энделем Фридриховичем Варепом — профессором Тартуского университета. Он сообщил папе и затем прислал фотографию памятника Э.В. Толлю, поставленного родственниками ученого в 1909 году на фамильном кладбище в бывшем имении Толлей Кукрузе (Северная Эстония). Памятник в виде парусного корабля вытесан из камня, но мемориальная доска пропала во время войны. Папа не раз получал приглашения на научные конференции в Тарту, но ими не воспользовался.
Еще в 1961 году папе предложили дать отзыв на кандидатскую диссертацию преподавателя географии Могилевского педагогического института Н.В. Ерашевой о последней экспедиции Толля. Папа, конечно, не мог отказать начинающему ученому, хотя работа была далека от совершенства и содержала массу ошибок. Исправление ошибок у автора шло с трудом, а работа с диссертанткой отнимала у папы много времени. Об этой диссертации не стоило бы упоминать, если бы следствием ее не явилась переписка папы с В.А. Троицким о географических названиях.
Владимир Александрович Троицкий — инженер-гидрограф, в прошлом курсант ВАМУ, работал на побережье Карского моря, где вела наблюдения последняя экспедиция Э.В. Толля. Зная хорошо те места, он в автореферате Н.В. Ерашевой нашел много ошибок в географических названиях. Он заметил и папе, что есть неточности в названиях и в папиной монографии и в переводе дневника Толля «Плавание на яхте "Заря"». Папа внимательно отнесся к замечаниям В.А. Троицкого, предложил ему внести нужные коррективы, учесть переименованные географические пункты, с тем чтобы попытаться переиздать монографию с его дополнениями и изменениями. Папина готовность внести исправления в свои книги вызвала к нему у Владимира Александровича большую симпатию. Он просил папу просмотреть и его собственные научные работы, дать на них отзывы.
На вышедшее в конце 1964 года «Практическое руководство для техников-геологов» опять пришло много писем с положительными отзывами и просьбами прислать книгу. Диапазон авторов писем — от Камчатки и Якутии до Болгарии. С некоторыми корреспондентами завязалась продолжительная переписка. Среди них был и военнослужащий Виктор Петров, в руки которому случайно попала папина книга: он решил посвятить себя
геологии и обращался к автору за советами, и докторант из Болгарии Борислав Фомич Рудковский. Последний настолько оценил значение теоретической части книги, «изложенной систематически и кратко», а также «лексикон этимологии геологических терминов», что решил книгу перевести на болгарский язык, написать биографию папы с научным анализом его деятельности. А пока, писал Б.Ф. Рудковский, разделил «Руководство» на главы, переплел отдельно каждую главу и в таком виде возил с собой на полевые работы9.
Естественно, перед папой встал вопрос о третьем издании. Издательство «Недра» было готово переиздать книгу, но вскоре руководство издательства поменялось, и требования к автору изменились. Просили убрать теоретическую часть. Опять длительная переписка. Все папины корреспонденты поддерживали именно данную структуру — вначале теория, затем практика. Убедительно защищал ее геолог Владимир Анатольевич Вакар:
«Такие книги действительно нужны молодым геологам. А таких книг по существу нет (во всяком случае, на современном уровне). Теперь ведь геологи пишут книги в сравнительно узких рамках — каждый по своей специальности. Это обычно учебники, пособия, руководства и справочники отраслевого характера. В Вашей же книге удачно совмещены теоретические основы и методические указания. Единственная беда, что ее пришлось очень обкарнать из-за недостаточного листажа»10. И в другом письме: «Выявлять, изучать, разбуривать, обрабатывать и т.п. геологическую структуру или какой-нибудь рудоносный интрузивный массив, не понимая их морфоструктурных и генетических особенностей, с достаточным успехом невозможно, хотя бы пользуясь самыми четкими практическими методическими указателями»11.
Вакар предлагал назвать 3-е издание «Теоретические основы и полевые методы геологии».
Папе нужно было знать мнение как практиков, так и преподавателей вузов о структуре «Руководства» и о полноте сведений в нем. Из письма к Е.А. Киреевой:
«У меня с третьим изданием пока еще не оформилось. В ноябре в Геоморфологической комиссии Географического общества будет стоять мой доклад по поводу моей работы — хочу проверить себя, услышать
9 Переписка Б.Ф. Рудковского с П.В. Виттенбургом и Е.П. Виттенбург 1967—1968 гг.// Личный архив Е.П. Виттенбург.
10 Письмо В.А. Вакара к П.В. Виттенбургу от 09.10.1965 // Там же.
11 Письмо В.А. Вакара к П.В. Виттенбургу от 01.03.1966// Там же.
мнение товарищей по работе — ведь книга написана для тех, кто хочет стать геологом. Быть может, нужно больше уделить внимания методической работе. Меня только удивляет, почему четыре разных представителя, подготавливающих молодежь: профессор С.С. Кузнецов — заведующий кафедрой в ЛГУ, Н.В. Огнев — завед. кафедрой общей геологии ЛГУ, Н.М. Архангельский — зав. каф. географии в Герц, пединституте, проф. В.И. Серпухов — зав. каф. общей геологии Горного ин-та — мне не ответили ни на посланную книгу, ни на мое письмо рассмотреть ее на своих кафедрах. Секретарь кафедры общей геологии написал мне письмо и просил прислать от издательства [запрос на] отзыв — тогда оплачивается эта работа — оказывается, их интересует вопрос "подработать", а не по существу. <...> Параллельно с этим делом я прорабатываю текст своей книги, дополняю и улучшаю качество — готовлю к переизданию. Все мечтаю, что увижу третье издание»12.
Вскоре выяснилось, что 3-е издание, если и будет издано, то только в 1968 году.
Одновременно с работой над «Практическим руководством» папа задумал написать монографию о Феодосии Николаевиче Чернышеве, известном палеонтологе, исследователе Урала и Северной Европейской части России, а также участнике экспедиции по градусному измерению на острове Шпицберген. Академик Ф.Н. Чернышев был первым большим русским ученым, который благожелательно отнесся к студенту Тюбингенского университета, пожелавшему отправиться самостоятельно в экспедицию в Уссурийский край. Когда в 1912 году в Геологическом музее открылась вакансия, Ф.Н. Чернышев пригласил папу на должность младшего ученого хранителя. Обоюдная симпатия связывала двух столь разных по возрасту людей.
Один из знакомых геологов, Юрий Александрович Анисимов, посвятил Чернышеву брошюру. Анисимов хотел вместе с папой издать теперь уже солидную книгу. Папа ему написал:
«Благодарю Вас также за предложение принять вместе с Вами участие в написании новой монографии, посвященной Феодосию Николаевичу. С Ф.Н. Чернышевым я был связан с 1908 года по день его печальной кончины. Принимал участие в его работах и переводил ему на немецкий язык его труды: «Брахиоподы Урала и Тимана», а также и др. работы;
12 Письмо П.В. Виттенбурга к Е.А. Киреевой от 02.11.1965 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
я очень любил Феодосия Николаевича и глубоко его ценил и уважал и как исследователя, и как человека кристально чистой души!
Я мечтал посвятить Феодосию Николаевичу труд <...> полагаю, что имеющийся материал позволит дать более расширенное трактование неутомимой и кипучей деятельности Феодосия Николаевича. Ф.Н. еще при жизни передал мне свои дневники по Шпицбергену, которые я хотел опубликовать, и др.»13.
Свое намерение папа, к сожалению, не успел осуществить.
Его друг, Ю.П. Деньгин, имел коллекцию шлифов, образцов минералов и горных пород, собранную им для иллюстрации своих лекций. Они в совокупности с книгами, периодикой и картами представляли большую ценность для учебного процесса, но лежали без применения у него дома. Используя свои связи, папа взялся их предложить какому-либо институту. Юрий Павлович внезапно умер в вагоне поезда, возвращаясь от папы. Надо было торопиться с продажей коллекции. Папе удалось в конце концов найти индустриальный институт в Тюмени, который заинтересовался этими материалами, и организовать их отправку14.
В 1965 году предстояло отметить 35-летие промышленного освоения Хибин и 45-летие со дня первой экспедиции Александра Евгеньевича Ферсмана. Академия наук готовилась выпустить сборник воспоминаний, посвященный А.Е. Ферсману. Папе предложили принять в нем участие, и его статья «Открыватель Хибин» была помещена в сборнике. Воспользовавшись юбилейными датами, папа посчитал своевременным и справедливым увековечить в Хибинах память замечательного ученого — присвоить новому городу в окрестностях Кировска имя Ферсмана и установить ему памятник. В переписке с вдовой, Екатериной Матвеевной Ферсман, он получил одобрение своей идеи.
На протяжении двух лет (1964—1966) папа обращался к разным лицам и в разные учреждения — от местных властей Мурманской области (к ней относились Хибины) и президиума Академии наук до главы правительства СССР Председателя Совета Министров А.Н. Косыгина со своим предложением об установке памятника «перед филиалом Академии наук, основанного А.Е. Ферсманом в 1930 году в виде научной горной станции». В письме к А.Н. Косыгину папа в том числе пишет:
13 Письмо П.В. Виттенбурга к Ю.А. Анисимову от 09.08.1962 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
14 Коллекция была принята 17.06.1967. Переписка 1965—1967 гг. по поводу коллекции Ю.П. Деньгина // Там же.
«Условия работы [в 1920 году] были чрезвычайно тяжелыми. Никаких дорог вглубь тундры не было. Пробирались по топким болотам и каменистым осыпям, перетаскивая на своих спинах оборудование и скудное продовольствие. Карманы были набиты динамитными патронами. За недостатком обуви, ноги обматывались берестой и мешковиной. Не было ни палаток, ни теплой одежды. Самоотверженный труд и энтузиазм Александра Евгеньевича всех зажигал и побеждал все преграды. <...> Второй период 1926—1930 гг. — период борьбы за апатитовую проблему. Хотя и первооткрывателю его — А.Е. Ферсману удалось доказать огромное распространение и промышленное значение хибинских апатито-нефелиновых месторождений, но в реальность использования этих богатств тогда мало кто верил. Пришлось преодолевать косность официальных геологических учреждений, бороться за предоставление кредитов для усиления работ, с недоверием хозяйственников и мн. др. <...> Благодаря энергии С.М. Кирова, понявшего необходимость разработки недр Кольского полуострова для развития народного хозяйства <...> Совет Труда и Обороны принял постановление о выделении в 1930 году средств на строительство, закладку шахт, постройку обогатительной фабрики и основания города Хибиногорска, ныне Кировска.
Двадцать пять лет своей жизни А.Е. Ферсман беззаветно отдал Хибинам, продолжая исследования полезных ископаемых, изучая их свойства, производя исследования по флотации»15.
Из канцелярии Председателя Совета Министров довольно скоро письмо было переадресовано секретарю Мурманского облисполкома, о чем папу поставили в известность. Круг замкнулся. Еще год папа переписывался с властями Мурманской области, разыскивал ветеранов освоения Хибин, с их помощью надеялся получить поддержку своей идеи. Он также предложил назвать улицы города именами сподвижников А.Е. Ферсмана.
Папе не удалось добиться ни присвоения имени Ферсмана новому городу, ни установки ему памятника — якобы у страны на это не было денег. Лишь памятник С.М. Кирову украшал город Кировск16: значение ученого для страны — ничто в сравнении с ролью политического деятеля.
В 1960-е годы у папы завязались особенно тесные связи с архивом Академии наук. Он и раньше там много работал, теперь же у него просили
15 Письмо П.В. Виттенбурга к А.Н. Косыгину от 02.02.1965 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
16 Памятник А.Е. Ферсману был установлен в Апатитах в 1981.
консультаций в связи с организацией тех или других фондов (В.К. Арсеньева, А.П. Карпинского, комментариев к переписке Ф. Нансена с русскими учеными). В это же время папа передал в архив письмо Нансена, которое у него сохранилось17. У сотрудников архива возникали вопросы по конкретным научным проблемам, связанным с Полярными странами. Папа с готовностью на них отвечал и в письмах и лично, часто бывая в архиве. Сотрудники архива, в свою очередь, с интересом отвечали и на папины вопросы, касающиеся содержания тех или иных фондов. Папа предлагал темы для разработки по материалам архива, как, например, «А.А. Бялыницкий-Бируля — путешественник», его просили написать воспоминания о В.К. Арсеньеве в связи с подготовкой фонда — папа с ним в свое время был знаком.
Еще в 1961 году директор архива Г.А. Князев послал папе официальное письмо с предложением о передаче во вверенный ему архив личного папиного документального фонда, представляющего несомненную ценность для истории Академии наук18. Ученый секретарь А.М. Черников предложил помощь в подготовке материалов для передачи в архив19. Тогда папа был к этому не готов, а когда спустя несколько лет, уже после смерти и Г.А. Князева и папы, надо было решать, куда направить папины материалы, то из-за крайней тесноты академический архив соглашался взять их только выборочно. Мне пришлось предпочесть архив Географического общества, который был готов принять папин документальный фонд в полном объеме.
Папины работы прошлых лет продолжали интересовать исследователей. Гидрограф Борис Георгиевич Масленников, занимавшийся топонимикой Дальнего Востока, узнал, что автор книги «Геологическое описание полуострова Муравьева-Амурского...» жив, и обратился к папе с просьбой, как к единственному человеку, могущему ответить на интересующие его вопросы по топонимике Японского моря. Он занимался составлением «Морского топонимического словаря», и его интересовало происхождение названий: кем, когда и в честь кого или чего каждый пункт был назван. Запрос включал 85 названий географических пунктов полуострова Муравьева-Амурского и близлежащих островов. Папа, как обычно, со вниманием отнесся к просьбе и ответил на все вопросы несколькими
17 СПб ФАРАН, ф. Р-У, оп. 1-Н, ед. хр. 25, л. 1. См.: Неопубликованные письма русских ученых Ф. Нансену. На севере дальнем. (Магадан.) 1966. № 1. С. 98.
18 Письмо Г.А. Князева к П.В. Виттенбургу от 29.12.1961 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
19 Письмо А.М. Черникова к П.В. Виттенбургу от 24.12.1961 // Там же.
подробными письмами. Кроме того, папа выслал свою монографию, которую Б.Г. Масленников на Дальнем Востоке найти не мог. Б.Г. Масленников был последним, кто поздней осенью 1967 года приезжал в Зеленогорск консультироваться к уже больному папе.
Другой исследователь — геолог Александр Васильевич Мельников — несколько лет (1964—1967) состоял с папой в оживленной переписке, но встретиться с ним так и не успел. Работая в Нижнеленском районе Якутии, он много раз обращался к изданиям КЯР. В связи с этим он разыскал папу. Чем глубже А.В. Мельников занимался историей геологических исследований в Якутии, тем больше у него возникало вопросов, в том числе и о работах Э.В. Толля, К.А. Воллосовича и других. А.В. Мельников писал, что монография о Э.В. Толле стала его настольной книгой: «...Остается Вас от всего сердца благодарить за столь большой и настойчивый труд в стремлении дать полную и исчерпывающую характеристику жизни и деятельности Э.В. Толля»20. Он сожалел только об отсутствии именного и географического указателей, а также карт. Александр Васильевич не знал, что издательство сократило текст монографии и отбросило весь справочный аппарат. Он побуждал папу писать статьи в якутские газеты и журналы и о КЯР и об отдельных исследователях, работавших в КЯР, и подготовить свою биографию «с научным уклоном». А.В. Мельников просил папу подробно написать о булунском восстании якутов в 1929—1930 годов, об аресте и остальном, связанном с обвинениями ГПУ, — это, по его мнению, необходимо для восстановления папиного доброго имени, «чтобы эти печальные для Вас времена обернулись бы теперь другим лицом»21.
Папа не хотел ворошить прошлое, да и славы никакой ему не надо было. В свое время он вложил и ум и душу в изучение Якутии, в ответ же получил унижения и нелепые обвинения. Папа, ссылаясь на большую занятость, послал Александру Васильевичу лишь статью Н.Ю. Загорской и фотографию, опубликованные как раз в это время в «Известиях ВГО»22. Но Мельников не унимался, ему нужен был еще список печатных работ, научных и правительственных наград (последних у папы и не было). В конце концов Мельников сам составил список главных изданных работ папы. Он подготавливал труд о Якутской комиссии 1925—1930 годов и роли папы в деятельности этой комиссии.
20 Письмо А.В. Мельникова к П.В. Виттенбургу от 18.01.1964 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
21 Письмо А.В. Мельникова к П.В. Виттенбургу от 21.01.1966 // Там же.
22 Павел Владимирович Виттенбург. Жизнь и деятельность // Известия ВГО. Т. 98,1966. С. 369-372.
Неистощимый энтузиазм геолога и историка увлекли Александра Васильевича несколько в сторону — его заинтересовало становление советской власти на севере Якутии, так как оно не имело объективного освещения в литературе. По той или другой причине он не завершил своих исследований по истории геологических экспедиций в Якутии: издать ему ничего не удалось.
В 1974 году, как он мне об этом писал, к 90-летию папы А.В. Мельников сделал доклад на совместном заседании Полярной комиссии и отделения истории географических знаний и исторической географии Московского филиала ГО СССР: «Полярный исследователь П.В. Виттенбург». К 100-летию со дня рождения папы в 1984 году он там же сделал прекрасный доклад о папе: «Вклад П.В. Виттенбурга в работы Якутской комиссии АН СССР. 1925-1930».
Домашняя жизнь в этот период была сложной. Первые два с половиной года хозяйство в Зеленогорске вела Люда. Добрая, отзывчивая, тактичная, своей молодостью и ненавязчивым вниманием она скрашивала часы папиного одиночества. Папа в сопровождении Лиски часто ходил на кладбище. По возвращении его всегда ждал горячий обед, а дом был прибран и согрет. Через день и в выходные дни приезжала я. Папа так же, как недавно делала мама, встречал меня недалеко от вокзала. Лиска, едва услышав мой голос, неслась навстречу.
Летом Люда пригласила папу навестить ее родные края — деревню, находящуюся недалеко от Опочки и Пушкинских мест Псковской области. Вместе со своей младшей внучкой Олей, дочерью Ники, и в сопровождении Люды они отправились в путь. Их радушно встретила мать Люды, приветливая хлебосольная женщина. Завязалось знакомство, папа принял горячее участие в нуждах этой семьи, оказывал помощь в приобретении сена, поросенка, дров, хлопотал о проведении электричества в их деревню. Мать Люды жила с младшим сыном, ленивым и плохо учившимся мальчиком. Папа попытался пробудить в нем интерес к знаниям: в дальнейшем, переписываясь, журил его, требовал отчета о школьных делах, тот, отвечая, называл в письмах папу своим другом и как будто искренне стремился исправиться. Но надежды не оправдались.
В конце лета 1963 года у папы появилась новая забота — это внук Игорь, сын Ники. Игорь не хотел учиться, вел себя из рук вон плохо. Ника отправила его в интернат, надеясь на благотворное влияние закрытого учебного заведения. Интернаты появились в это время по указанию Н.С. Хрущева. Предполагалось, что, наподобие дореволюционных, они будут формировать достойных сынов отечества. Но из этого, конечно,
ничего не получилось: воспитывать-то было некому, реальная культура преподавательского персонала не соответствовала задачам. Игорь разболтался еще больше. Ника в отчаянии готова была от него совсем отказаться. Папа, жалея Нику, предложил взять Игоря к себе в Зеленогорск.
Папа полагал, что строгая дисциплина, которую он хотел применить к внуку, пойдет ему на пользу. Игорю надлежало учиться в вечерней школе и работать. Папа договорился на Сестрорецком заводе (на военный завод Зеленогорска Игоря не брали), что его возьмут в цех на какую-то несложную работу с тем, чтобы он попутно научился какому-то ремеслу. В вечернюю школу, где уже училась Люда, Игоря приняли в 6 или 7 класс. Папа постоянно следил за его поведением и отметками, как и за успехами Люды, часто бывал в школе. Его избрали в родительский совет школы. Игорь почти не поддавался воспитанию. Ему не хватало ни воли, ни интереса к наукам. Много часов проводили мы с папой в душеспасительных беседах с ним, анализируя те или иные его поступки, но результат оказался минимальным. Тщетны надежды перевоспитать 15—16-летнего парня. Конечно, его представления о долге и чести были бесконечно далеки от дедушкиных. Его воспитала реальность совсем другой жизни и другого семейного уклада. Игорь в то время не смог оценить значения культуры и связанных с ней ценностей жизни. Чего нельзя было сказать о Люде: спустя много лет она считает, что самый счастливый период ее жизни — это жизнь в Зеленогорске.
Игорю предстоял призыв в армию. Теперь папа надеялся, что армия сможет его исправить. В то время о дедовщине еще не было известно. Из письма папы к Нике и Дню: «Единственное спасение — это не только не добиться отсрочки, а просить взять его досрочно в армию, где ему привьют дисциплину, а до армии взять его к себе в Белоостров. Я больше сделать с ним ничего не могу. У меня нет сил и здоровья бороться с его недостатками, которых много»23. У папы Игорь прожил два года и пошел в армию.
Эти годы отмечены еще двумя неприятными событиями.
Жилищный отдел Ленгорисполкома решил нас лишить городской квартиры. Поскольку родители окончательно поселились в Зеленогорске, то еще при жизни мамы я посчитала для себя благом съехаться с семьей наших друзей — Наташи и Пармена Григорьевича Бираговых. Они бы тем самым увеличили свою площадь, а я бы имела на всякий случай поддержку. Для обмена жилплощади нужно было получить разрешение (всюду
23 Письмо П.В. Виттенбурга к В.П. Сапрыкиной от 22.05.1965 // Личный архив Е.П. Виттенбург.
царило недоверие и подозрительность в скрытых махинациях). Жилотдел при помощи районного суда надеялся провернуть изъятие квартиры. Это происходило зимой, сразу после смерти мамы. Папа и без того был подавлен, а здесь еще суд... Нужны были свидетели в защиту наших интересов. Ими с охотой стали директор библиотеки, где я работала, Л.Л. Раков и моя сослуживица Н.И. Удимова. Они подтвердили, что я часто дежурю в библиотеке во вторую смену, работа кончается в 11 часов вечера, а на следующий день начинается в 9 часов утра. Учитывая это обстоятельство и тот факт, что папа после заседаний в Географическом обществе тоже поздно освобождается, суд постановил: требование жилищного отдела удовлетворено быть не может, так как ухудшит условия нашей жизни. Но обмен был запрещен.
Упоминая здесь о Льве Львовиче Ракове — директоре научной библиотеки Академии художеств с 1955 по 1963 гг. — времени ее расцвета, хочу отметить такой любопытный факт: Лев Львович, только что реабилитированный после второго ареста по «Ленинградскому делу» (20 лет тюрьмы) и восстановленный в партии, будучи интеллигентнейшим широкообразованным человеком, обладавшим глубоким умом, не терял веры в романтическую идею возможности построения справедливого общества в СССР под руководством КПСС. Ему представлялось, что партию для этого надо пополнить честными и порядочными людьми. Он настаивал, чтобы и я вступила в партию. Признаюсь, мне совсем этого не хотелось, не в силу четких, ясных убеждений политического характера, — не хотелось терять независимость суждений и претила привилегированность, которую давало членство в партии. Выглядело это нелепо и противно. На мое счастье, интеллигенцию в то время в партию не пускали, да и моя фамилия тому не способствовала.
Вторая неприятность случилась весной того же 1963 года. Меня вызвали в Большой дом. С трепетом пошла. Получила в окошечке пропуск, поднялась на указанный этаж, длинный коридор с плотно закрытыми дверями. Тишина. Нашла номер указанной мне комнаты. Около нее на банкетке сидели двое интеллигентных людей, разговаривали шепотом и заметно волновались. Села рядом. Их вскоре вызвали. Пробыли они там довольно долго. Затем вызвали меня. Большая комната. За пустым письменным столом сидела женщина. Официальным тоном предложила мне сесть. Строго спросила: «У Вас есть родственники за границей?» Я ответила: «Да, тетя, сестра моей мамы». Вопрос: «Что Вы о ней знаете?» — «Ничего». — «Так вот, она запрашивает о своей сестре Зинаиде Ивановне. Разыскивает ее». Я сказала, что ее сестра, моя мать, умерла несколько месяцев тому назад, и ее не оставляло желание что-либо узнать о своей сестре, но было негде, а теперь... Я спросила,
можно ли ей послать посылку или она, возможно, нуждается в деньгах? В ответ я услышала сказанное с презрением: «Они там ни в чем не нуждаются!» Я настаивала, что ей мы можем помочь, надо узнать, что ей нужно. На вопрос, хотим ли мы, чтобы ей был сообщен наш адрес, — предложила дать ответ в следующее посещение. Оказалось, меня вызвали в советское отделение Красного Креста. (Где же ему быть, как не при НКВД?)
Надо же было получить известие от тети Тали, когда мама уже умерла... Мы с папой решили непременно сообщить наш адрес. Во вторичный приход мне строго заметили, что я, оказывается, имею родственников не только на Западе, но и на Востоке — словно международная шпионка (имелся в виду пропавший без вести в Северной Корее мой муж).
Скорее всего, наш адрес Наталии Ивановне так и не сообщили — никаких известий от нее мы не получили. Спустя года два пришла открытка на адрес В.Е. Ляхницкого — друга юности мамы и Тали — от Вольдемара Пузино, сына тети Тали. Вольдемар нашел этот адрес в бумагах своей матери. Он писал, что мать скончалась после продолжительной болезни, приковывавшей ее к постели в течение пяти лет. Ей хотелось хотя бы что-то узнать о судьбе своей сестры. Из открытки выяснилось, что они жили во Франкфурте-на-Майне. Письмо, посланное нами Вольдемару, осталось безответным. Много позже, когда туда смогли поехать наши знакомые, найти Вольдемара им не удалось.
Тем временем папу ожидало полное одиночество. Люда, помощница по хозяйству, разумный человек строгих жизненных принципов, окончив школу, задумала построить свою собственную семью. У нее было много поклонников, но она тщательно выбирала себе спутника жизни. Папе пришлось принимать участие в оценке кандидатур. Однажды, когда уже выбор остановился на одном из молодых людей, приехали на смотрины его родители. Люда не хотела выступать в роли домработницы. Здесь не обошлось без маленькой инсценировки: она предстала в виде барышни — папиной дочки, а я заняла ее место. Гостей принимали на веранде, вели беседу, я подавала чай. Смотрины прошли весьма успешно, участники остались довольны друг другом. Потом его родители смеялись, так как перемена ролей была им очевидна.
Люда ушла в свою собственную жизнь. Шел 1965 год... Мы упорно искали Люде замену, но тщетно. Летом было проще — не надо топить котел и кто-нибудь гостил у нас. На часть отпуска из Сибири приезжала Люся с мужем. Их дети уже жили в Ленинграде. Наташа, старшая, заканчивала ЛГУ, сдавала госэкзамены на физическом факультете, одновременно заканчивала рисовальные классы при институте имени И.Е. Репина. Веруся, младшая, желая идти по стопам бабушки, сдавала вступительные
экзамены в 1-й Медицинский. С первой попытки ей не удалось пройти по конкурсу. Тогда она поступила санитаркой в хирургическое отделение одной из клиник. На следующий год поступила и была зачислена в институт на стоматологическое отделение. Наташа со своими подругами часто навещала дедушку.
Никина семейная жизнь оживилась, так как Дий Михайлович увлекся пением. В клубе имени Цюрупы в эти годы знаменитый Н.К. Печковский вел вокальный класс. Заниматься у Печковского было настолько интересно, что возвратившись в Ленинград, Люсин муж Николай Михайлович, также осмелился стать учеником известного певца. У Дии обнаружился баритон, а у Коли — тенор. Первый тяготел к оперному репертуару, второй — к русскому романсу. Они брали уроки вплоть до смерти Печковского (1966).
В это лето неожиданно нашлась Татьяна Павловна Дон, папина секретарь во времена Якутской комиссии Академии наук. Более тридцати лет они ничего не знали друг о друге... Встреча была трогательной. Татьяна Павловна жила вместе со своей сестрой в маленьком белорусском городке. Обе старушки очень нуждались. Папа всячески старался помочь им.
Бывала у нас и Елена Александровна — ученый-ботаник, вдова профессора Бориса Николаевича Городкова. Она привозила папе всякие редкие растения. Папа помогал ей с установкой памятника на могиле ее мужа.
Чтобы скрасить папино одиночество, часто приезжали в Зеленогорск мои сослуживцы — Н.Е. Белоутова, Л.Ф. Галич и Н.И. Удимова. Нина Иллиодоровна, сибирячка, образованный человек с феноменальной памятью, задушевная моя подруга, особенно часто бывала у нас, ее общество для всех всегда было желанно. Вот стишки, написанные ею по случаю папе:
Ах, в мире все сплошные перемены:
И замыслы меняются на пустяки —
Мечтала написать Вам ямбами поэму,
Дарю же ... безразмерные носки.
Или:
Дарю Вам маленький предмет,
Невиданный за много лет.
Он «перочисткой» наречен,
Надеюсь, Вам потребен он.
Как-то в поезде папа встретил нашу старинную знакомую Марию Германовну Кинд, необыкновенно душевного и отзывчивого человека. Она всегда находила возможность принять участие и чем-либо помочь, разделить
заботы другого. В недавние годы потеряла взрослого единственного сына, мужа и сестру. В полном душевном смятении только что приняла предложение соединить свою жизнь со старинным знакомым, тоже недавно овдовевшим. Папа нашел в ее лице человека, который мог его вполне понять и, не оскорбляя памяти мамы, разделить с ним остаток жизни. Но было поздно, ведь она уже заключила брак с Н.Б.П. Этот запоздалый союз не оказался удачным, напротив, принес ей много огорчений. Она бывала у нас в гостях и приносила всегда с собою тепло и спокойствие. Во всех ситуациях оставаясь верным другом.
Папа говорил мне, что любит, когда к нему приезжают знакомые, и всегда умел совместить радушный прием с обдумыванием своих научных вопросов. Одиночество для него было тягостно, хотя еще при жизни мамы он днями, сидя за письменным столом, увлеченный работой или даже чтением, был сосредоточен и мало разговорчив. Видимо, одно сознание присутствия в доме близкого человека его вполне устраивало. Мама же жаловалась мне, что рискует разучиться говорить, так как не с кем перемолвиться словом. Находясь на верхнем этаже, вдруг слышит папин голос. Как хорошо, думает, значит кто-нибудь приехал — ан нет, папа разговаривает с Лиской...
Однажды мы с папой заметили, что какой-то серый зверь прячется под навесом в сарае. Едва приблизимся — исчезнет. Наконец увидели собаку, похожую на овчарку. Поставили ей миску с едой. Когда мы ушли, она все съела и тотчас стала нести сторожевую службу, как бы за харчи. Собаку оставили у нас и назвали ее Альмой. Благородная Альма была полна благодарности к папе. Она не отпускала его ни на шаг, всюду его сопровождала. Несмотря на протесты, она и меня провожала на поезд, лизнет руку у вокзала и бежит назад. Сделали ей будку под крыльцом веранды, и она там родила щенят. Щенята ее всякий раз обнаруживали породистость — то овчарки, то лайки, то колли. Всегда находились желающие получить от нее щенка. Лисочка не хотела терпеть соперницы — бросалась на нее, вцеплялась зубами в горло. Альма все спокойно переносила, и со временем Лиска примирилась.
Когда папа ходил на кладбище, его сопровождали обе собаки. Лиска не выносила страданий, с половины дороги незаметно поворачивала назад, Альма же шла рядом с папой, на кладбище садилась около его ног, никуда не убегала, возвращались домой они всегда вместе.
Папа в 81 год стал опираться на палочку, но оставался таким же стройным и элегантным. Приближалась зима. Лопнул котел отопления, сразу же замерз водопровод. Отогревал водопровод папа сам, котел же пришлось купить новый. Каменный уголь и дрова были приобретены еще
летом. Дом постоянно требовал ухода и каких-то починок. Вот когда папа пожалел, что не построил маленький домик с печным отоплением.
Поиски домработницы увенчались наконец хотя бы частичным успехом: согласие помочь по хозяйству дала пожилая женщина Евдокия Петровна, но предупредила, что будет уезжать домой в пятницу днем и возвращаться в то же время в понедельник и что не может одна вечерами оставаться в доме, так как ее обуревает страх. В результате папе пришлось отказаться от поездок на заседания Географического общества и вообще не отлучаться в вечерние часы. Вместе с тем, ссылаясь на плохое самочувствие, Евдокия Петровна частенько вообще не возвращалась из города. Тогда я или Мария Германовна приезжали приготовить обед впрок. Отопление дома оставалось на папе. В большие морозы ему приходилось вставать ночью подбрасывать в котел уголь. А потом и не заснешь...
Теперь папа был совсем один. Вставал рано, часов в 7—8. Почистив и растопив котел, приносил несколько ведер угля, дрова, попутно раскидывал снег с дорожек и только тогда садился за письменный стол. Его скромные привычки оставались неизменными: в 2 часа дня выпить стакан крепкого горячего чая, а после обеда часа два поспать. Лиска ложилась за дверью его спаленки, но как приходило время вставать, словно у нее были часы, она начинала громко стучать лапами, чесаться, поскуливать — одним словом, будить. Целый день папа оставался бодрым и работоспособным. Вечер. В камине пылают дрова, он садится в глубокое старинное кресло (еще бабушкино) с книгой в руках. Серенькая кошечка Мурка, явившаяся взамен пропавшего Тишки, устраивается на его плече, а на коленях укладывается Лиска — никто не хочет поступиться вниманием хозяина. Но эта мирная картина должна была скоро кончиться...
Уже поздней осенью 1967 года после продолжительной переписки тетя Нина (вдова дяди Вили) окончательно решила покинуть Киев и поселиться у нас в Зеленогорске. Ей нравился наш покой и тишина. Папе очень хотелось, чтобы она прижилась в нашей семье, нашла тепло, ласку и внимание и сама внесла женскую заботу, так недостающую в доме после ухода мамы. Итак, в октябре одна наша знакомая привезла тетю Нину в Зеленогорск с остатками ее имущества. Устроили ее в моей комнате, как самой теплой, я же поместилась внизу. Папа рад был окружить ее вниманием и заботой. Но не все оказалось так гладко, как хотелось.
В новом месте тете Нине даже малые обязанности по приготовлению утреннего завтрака оказались трудны. Как мы узнали позже, перемена места и условий жизни для пожилого человека чревата осложнениями. Действительно,
к беде неопытность ведет. Самочувствие тети Нины стало ухудшаться — склероз головного мозга быстро прогрессировал, но мы этого не понимали.
В один из холодных дней октября папа, идучи на кладбище, как всегда в сопровождении Альмы, решил сократить путь, перепрыгнув через ручей, и пройтись по только что проложенной извилистой дорожке на другом берегу. Ручей он перепрыгнул, но поскольку противоположный берег оказался заросшим густой травой, ногами попал в воду. Не обратив на это внимания, пошел дальше. Ведь сколько раз в Арктике ему приходилось проваливаться в ледяную воду в полыньях — и никаких последствий, даже насморка не бывало. Посидев у маминой могилки, наверное, более часа, вернулся домбй. Только тогда он переодел носки. В эти дни домработницы Евдокии Петровны не было, она прихворнула и осталась в городе.
День ото дня все сильнее папа стал чувствовать недомогание, но не хотел обращать на это внимания. Вызывали из города врачей, но те не могли понять, в чем дело, так как, кроме небольшой температуры, ничего не находили. Папа продолжал таскать ведрами уголь и шлак из котла. На мои просьбы нанять истопника он отвечал: «Я сам должен топить очаг». В декабре ему стало совсем плохо. Перед Новым годом Люсе удалось с помощью Е.Е. Шведе поместить папу в Военно-медицинскую академию. Врачи были внимательны, но диагноз поставить не могли, скорее всего, склонялись к раку легких. Я пыталась им доказать, что этого быть не может, так как папа не пил, не курил, большую часть жизни провел на чистом воздухе. Около него мы попеременно дежурили — Ника, Люся и я, а также Мария Германовна и опекаемая папой геолог Катя Любимова. Папа словно заклинание время от времени твердил: «Я жизнь люблю, я жить хочу». На вопрос — как самочувствие? — большей частью отвечал для нашего успокоения «хорошо», а иногда «коряво». Как-то мне сказал: «Держись Несмеловых — они тебе помогут» (это семья его племянницы Валиды Делакроа-Несмеловой).
29 января 1968 года в 12 часов дня его не стало. У его изголовья находилась Мария Германовна.
Послесловие
Послесловие
Причиной папиной смерти явилось воспаление легких. Врачи его не распознали, не лечили, вследствие чего развился инфаркт легкого, а затем абсцесс. Гражданская панихида прошла в Географическом обществе, активным членом которого он был более полувека. Его фотопортрет и сейчас висит в библиотеке. Похоронен папа, согласно его желанию, на Зеле-ногорском кладбище в одной могиле с мамой. Рядом с могилой поставлен дикий неотесанный валун, как того хотел отец.
В день его смерти в нашем саду сломалась большая сосна. Ее ствол на уровне человеческого роста разломился надвое. Кроме того остановились в этот же день его любимые часы с боем. Починить их несколько лет не удавалось. Альма, наша собака, его неизменная спутница, одна зимой бегала на кладбище навещать могилу. Это заметили по оттаянному месту на скамейке. Потом Альма исчезла совсем.
Завещания, заверенного нотариусом, папа не оставил. Я его отговорила — не хотела, чтобы он думал о смерти, и надеялась, что когда это случится, мы, три сестры, будем мирно жить вместе, помогая друг другу. Как наивна была я!.. Спустя некоторое время на папином столе, среди бумаг, нашли черновик завещания, написанного им, по-видимому, перед смертью мамы. Вот выдержка из него:
«Наши любимые дети Вероника Павловна Сапрыкина, Валентина Павловна Сапрыкина и Евгения Павловна Юн (Виттенбург), мы достигли преклонных лет, любя и уважая друг друга, и завещаем Вам, когда навек сомкнутся наши глаза, жить также в полном мире и согласии,
помня, что в единстве сила. Решайте все вопросы жизни сообща на семейном совете, как это делали мы. Не допускайте резкостей в спорах и не допускайте расхождения мнений — до всего договаривайтесь, но если между вами тремя не будет достигнуто единого решения, то последнее решающее слово принадлежит, согласно нашей воле, младшей дочери Евгении Павловне Юн (Виттенбург)»1.
Получилось же все иначе, о чем и вспоминать не хочется.
Папина душа покинула этот дом... Теперь им владеет семья младшей папиной внучки, Оли Школьниковой.
В 1984 году Географическое общество на торжественном заседании под председательством А.Ф. Трешникова отметило 100-летие со дня рождения папы. На заседании было заслушано четыре доклада: Б.И. Кошечкина «Экспедиционная деятельность П.В. Витгенбурга на Кольском полуострове и на Новой Земле», В.Д. Дибнера «Геологическая биография П.В. Виттенбурга», мое сообщение «Лахтинская экскурсионная станция и Музей природы Северного побережья Невской губы» и воспоминания М.М. Ермолаева о совместной с папой экспедиции в 1921 году на Новую Землю. С несколькими воспоминаниями выступили некоторые из присутствующих, а затем был показан небольшой документальный фильм о Э.В. Толле «Притяжение», снятый в 1970-х годах режиссером С.П. Рахомяги на студии «Таллинфильм», Материалом для фильма послужила папина монография о Толле и дневник «Плавание на яхте "Заря"». В большом зале, где проходило заседание, мы устроили выставку документов, фотографий, книг и картин, иллюстрировавших жизнь и экспедиционную деятельность юбиляра (74 экспоната).
В связи с тем что А.В. Мельников не мог приехать из Москвы, его доклад о работе папы в Якутской комиссии АН, как я упоминала, состоялся в Московском филиале Географического общества в том же феврале 1984 года.
Два места папиной экспедиционной деятельности были отмечены памятными досками: «Памятная деревянная доска (толстая) в честь экспедиции Арктического института 1936—1938 гг. на окончании мыса Стерлегова. На доске выгравирована надпись: "Геологическая экспедиция АНИИ 1936—1938 гг. во главе с П.В. Виттенбургом". В 1973 году гидрографами ГПММФ доска восстановлена».2
1 Виттенбург П.В. Черновик завещания // Личный архив Е.П. Виттенбург.
2 Инструкция по выявлению, первичному учету и охране памятников истории и культуры в Советской Арктике и районах Крайнего Севера. М., 1974. С. 13. Также см.: Белов М.И. По следам полярных экспедиций. Л., 1977. С. 35, 116.
Общество изучения Амурского края — Приморский филиал Географического общества — в 1987 году водрузило на здании общества во Владивостоке (улица Петра Великого, д. 4) бронзовую доску в память деятелей общества, чьи «имена навсегда вошли в историю географических исследований Дальнего Востока». Среди тринадцати имен, в том числе С.О. Макарова, В.К. Арсеньева, В.Л. Комарова, есть и имя П.В. Виттенбурга. Его именем названо три географических пункта в Арктике и на Дальнем Востоке, и четыре вида палеонтологических остатков.
Три коллекции документов, отложившиеся в результате научной деятельности Павла Владимировича, переданы в Архив Русского Географического общества (ф. 123) и фонды Музея Арктики и Антарктики (ф. 5), Архив Общества изучения Амурского края — Приморского филиала Русского Географического общества (ф. 19), а отдельные материалы — в Музей истории С.- Петербургского государственного университета, Музей семьи Бенуа в Петергофе, Научно-исследовательский центр общества «Мемориал», Музей Северного филиала Русского Географического общества и Историко-краеведческий музей г. Апатиты Мурманской области, Приморский краеведческий музей имени В. К. Арсеньева, и Музей Общества изучения Амурского края — Приморского филиала Русского Географического общества во Владивостоке.
Подводя итог жизненному и научному пути Павла Владимировича Виттенбурга, отметим, что заложенные в нем творческие возможности, как и у очень многих, остались не вполне реализованными.
Целеустремленность папиной натуры проявлялась на протяжении всей его жизни. Уже в юности он всегда стремился узнать все досконально о предмете его заинтересовавшем. Впоследствии широкий научный кругозор позволил отцу свободно ориентироваться в обстановке трудного послереволюционного времени, когда важнейшей задачей стало просвещение и приобщение молодежи к научным знаниям об окружающей природе, а в дальнейшем во время работы в Академии наук впервые организовать комплексное изучение Якутии, а также многое другое.
Папа не был кабинетным ученым. В общей сложности с 1908 по 1949 год он провел 23 экспедиции. То время, на которое пришлась его жизнь, требовало геологов-поисковиков. Фундаментальная геология, научные обобщения в области геологии не были востребованы. Тем не менее мысли папы занимала фундаментальная геология, тектоника земной коры, структурные ее связи, так как это служило основой для поисковых работ. Он дважды пытался суммировать знания по тектонике Арктики, которая его очень
интересовала, что отразилось в ряде статей и докладов 1910—1920-х годов, а также в материалах следственного дела. Отец готовил к изданию свои труды по геологии Новой Земли, Ново-Сибирских островов, а также научные обобщения по геологии Якутии, но из-за ареста сделать это не успел. Все материалы остались в недрах ГПУ—НКВД и там пропали. В послевоенные годы какие-либо обобщения стали невозможны из-за засекреченности материалов экспедиционных отчетов. Задуманный труд по полезным ископаемым — «Рудный пояс берегов Карского моря» — не мог быть завершен именно по этой причине.
Исследовательская работа папы отличалась подчеркнуто бережным отношением к труду его предшественников и коллег. Любую новую тему он начинал с тщательного изучения материалов предшествовавших ему экспедиций. Много сил он отдавал работе по обобщению их опыта, по подготовке к печати их научных результатов и сохранению собранных коллекций.
Кипучий темперамент Павла Владимировича, незаурядные организаторские способности проявлялись на протяжении всей его жизни в таких крупных начинаниях, как участие в формировании высшего географического образования, организация кафедры Полярных стран в Географическом институте, затем в ЛГУ, Полярного отдела Геологического музея АН, организация исследовательских работ Якутской комиссии АН, Лахтинской экскурсионной станции с музеем природы и других. Некоторые из его начинаний имели продолжение, а другие прекратились с его арестом.
Павел Владимирович любил молодежь и всегда с радостью передавал ей свои знания, помогал вступить на путь науки. У него была потребность делиться своими знаниями. Педагогическая деятельность увлекала его, он имел благодарных учеников, но собственной научной школы не создал — время тому не благоприятствовало.
В 1930-е годы папе, уже видному и заслуженному ученому, пришлось разделить судьбу многих своих коллег, попавших в кровавую сталинскую мясорубку. Возможность заниматься любимым делом будучи пленником ГУЛАГа, значительно облегчила отцу годы заключения, но полученное тогда клеймо «врага народа» поломало его научную карьеру, тяжело отразилось на судьбе близких ему людей. Папе еще многое удалось бы сделать для науки и в годы Великой Отечественной войны и в последующие десятилетия, но все это время ему приходилось преодолевать подозрительность чиновников, тратить свои силы и время не на исследования, а на доказательство своего права полноценно участвовать в научной и педагогической жизни.
Другой не менее важной, чём наука, ценностью жизни отец с ранней (молодости считал семью. В выборе своей спутницы жизни он не ошибся —
мама всегда была ему надежным помощником и другом. Самоотверженность маминой натуры во многом помогла ему перенести тяжелые удары судьбы.
Когда я закончила книгу о папе, мне попались в руки «Письма о науке 1930—1980» Петра Леонидовича Капицы, изданные «Московским рабочим» в 1989 году. Проблемы, тормозившие в те годы развитие советской науки, которые волновали великого ученого, невольно оказались проиллюстрированы мною на папиной жизни — неуважение власти к ученым, недоверие к ним, невозможность свободного научного общения, отсутствие международных связей как средства развития науки и многое, многое другое.
Павел Владимирович прожил жизнь, полную труда во имя науки, этим был счастлив, любил свою семью, имел друзей и всегда был готов помочь ближнему. Ему довелось вкусить и радость научных открытий и горечь незаслуженных обид. Хотя советское государство часто платило ему за самоотверженный труд черной неблагодарностью, это не сломило и не озлобило его. Павел Владимирович всегда видел разницу между государством, властями и Родиной, на благо которой он трудился не жалея собственных сил.
Что сталось с родом Виттенбургов за обозримые 100 лет? Кто остался, кто чем-либо отличился за последнее столетие? От старших сыновей Виттенбургов потомков не осталось — ни от Сергея, ни от Вильгельма — слишком бурные были времена, слишком трагичны их судьбы. Жена дяди Вили, Нина Александровна, умерла в 1970 году в возрасте 81 года. В последние годы жизни она страдала тяжелым склерозом сосудов головного мозга. Похоронена на Зеленогорском кладбище. Старшие дочери Павла Владимировича — Вероника Павловна Сапрыкина и Валентина Павловна Сапрыкина умерли, первая — в 1991, вторая — в 1992 году. Таким образом, эта ветвь рода Виттенбургов заканчивается на мне.
В 1977 году я вышла замуж ...и на пенсию. Моим мужем стал полярник Геннадий Иванович Болвин, радиоинженер, метеоролог. Он провел в Арктике более двадцати зимовок (остров Русский, Уэллен, бухта Провидения и другие). Во время войны (1941—1945) зимовал четыре года подряд на острове Ратманова в Беринговом проливе. В 1957—1959 годах принял участие в работе 3-й комплексной Антарктической экспедиции. Умер он в 1992 году.
У папы остались внуки и правнуки. Старшая дочь Валентины Павловны — Наталия Николаевна Сапрыкина, как я уже упоминала, закончила физический факультет Ленинградского университета и параллельно рисовальные классы Академии художеств. Она защитила диссертацию. Работает в Российском научном центре «Прикладная химия» старшим научным сотрудником, с 1990-х годов занята разработкой новых способов консервации
и реставрации бумаги и ткани для нужд современных музеев и книгохранилищ. Она имеет ряд публикаций по этому профилю и заявку на патент. Кроме того, будучи председателем Объединения художников-любителей Санкт-Петербурга «Изоклуб», организовывает художественные выставки и сама в них участвует. Ее сестра Вероника Николаевна Фролова пошла по стопам своей бабушки — с увлечением лечит больных. Имея способности к рисованию и музыке, развить их не смогла: семья и работа поглощают все время. Сын Вероники Павловны Сапрыкиной Игорь Диевич высшего образования не получил, имеет хорошую семью. Теперь, как и остальные внуки, он с душевной теплотой вспоминает большую, дружную семью, которая по праздникам собиралась у дедушки и бабушки в зеленогорском доме. Ольга Диевна Школьникова работает, как и мать, инженером-сметчиком по строительству, тоже имеет хорошую семью.
По женской линии рода Виттенбургов оставила потомков только старшая дочь Елена Владимировна (Эля), в замужестве Шуман-Делакроа (умерла в 1927 году). Сын ее старшей дочери Эрны Эрнестовны, в замужестве Шеншиной (умерла в 1975 году), Александр Алексеевич, капитан дальнего плавания, пенсионер, живет в Финляндии. Дети погибшего сына Елены Владимировны, Владимира Эрнестовича, радиоинженера (погиб в 1943 году), Сергей Владимирович — организатор спорта, и дочь, Элида Владимировна Реутская, преподаватель музыки, — живут в Москве. У младшей дочери Елены, Валиды Эрнестовны (в замужестве Несмеловой, радиста, художника, умершей в 1972 году), остался сын, Никита Сергеевич — доцент Университета путей сообщения. Помимо преподавания в вузе он отдает свое время изучению творчества учеников художника М.В. Матюшина, и прежде всего — творчеству своей матери — Валиды. С его помощью организованы многие выставки в Петербурге и других городах.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Хронология жизни и деятельности П. В. Виттенбурга
Хронология жизни и деятельности П. В. Виттенбурга
1884 — 9 февраля (ст. ст.) родился во Владивостоке в семье политического ссыльного, телеграфного служащего.
1899 — Отъезд морским путем в Одессу, а затем в Либаву. Поступление в реальное училище.
1905 — Окончание училища. Поступление в Тюбингенский университет (Германия).
1908— В качестве премии от университета поездка с научной целью в Уссурийский край для сбора геологического материала.
1909— Окончание университета с дипломом доктора естественных наук.
Приезд в Петербург. Внештатный сотрудник Геологического комитета. Коллектор. Геологическая съемка в Уссурийском крае и на Анненских минеральных водах.
1910 — Женитьба на Зинаиде Ивановне Разумихиной. Экспедиция в
Олонецкую губернию. Принят в действительные члены Имп. Русского Географического общества.
1911 — Экспедиция на Северный Кавказ от Академии наук и Геолкома
(район р. Белой и массива Тхач). Начальник партии.
1912 — Избран на должность младшего ученого хранителя Геологического музея Академии наук. Экспедиция в Южно-Уссурийский край. Геолог крепости Владивосток. Изучение триасовых отложений. Награждение Обществом изучения Амурского края (Отделение Русского Географического общества ) премией имени Ф.Ф. Буссе. Магистр минералогии и геогнозии Юрьевского (Тартуского) университета. Рождение дочери Вероники,
1913 — Экспедиция на о. Шпицберген совместно с Р. Л. Самойловичем от Академии наук. Изучение геологии и угольных месторождений в Айсфиоде и на о. Акселя. Открытие верфейских отложений с фауной на о. Акселя.
1914 — Геологические исследования на Северном Кавказе — Терская обл. Участие в создании Постоянной Полярной комиссии Академии наук. Начало строительства собственного дома в поселке Ольгино (под Петербургом).
1915 — Геологическое обследование окрестностей Петрограда. Рождение дочери Валентины.
1916 — Экспедиция на Северный Кавказ. (Продолжение работ 1914 г.) Изучение триасовых отложений. Геолог Гидрометеорологической части Отдела торговых портов Министерства торговли и промышленности. Магистр Харьковского университета за монографию «Геологическое описание полуострова Муравьева-Амурского и архипелага Имп. Евгения». Чтение лекций на Гидрометеорологических курсах. Участие в создании Высших географических курсов.
1917 — Изучение берегов Уссурийского залива. Нафажден Академией наук малой премией имени М. Ахматова за монографию «Геологическое описание полуострова Муравьева-Амурского и архипелага Имп. Евгении». Избран председателем Лахтинского волостного земства. Начало работы над созданием полной средней школы в п. Ольгино.
1918 — Первая экспедиция на Северный Мурман (1-я Лапландская). Нач. партии по геологической разведке. В Геологическом музее выполняет обязанности старших ученых-хранителей, заведует хозяйством музея. Участвует в краеведческом движении страны.
1919 — Участвует в организации Географического института на базе Географических курсов. Профессор. Организовал и заведовал кафедрой Полярных стран. Избран на должность ст. геолога — зав. отделом изучения морских берегов Гидрологического института. Изыскания для Петроградского порта побережья Невской губы. Открытие в п. Ольгино средней школы с техническим уклоном и Лахтинской экскурсионной станции с музеем природы. 1-й арест ЧК (20 мая).
Освобожден по ходатайству Академии наук и Отдела учебных заведений. 2-й арест ЧК (26 июня). Освобожден по ходатайству Академии наук и Отдела учебных заведений (30 июня).
1920 — Экспедиция на Северный Мурман (2-я Лапландская) от Академии наук и Северной научно-промысловой экспедиции. Нач. геологического отряда по изучению железной руды. Посещение Киркенеса (Норвегия). Старший ученый хранитель Геологического музея Академии наук с нагрузкой по заведованию хозяйством.
1921 — Экспедиция на Новую Землю совместно с Р.Л. Самойловичем от Академии наук и Северной научно-промысловой экспедицией. Изучение верхнедевонских отложений. 3-й арест в качестве заложника в связи с Кронштадтскими событиями.
1922 — Обследование Невской губы, а также окрестностей п. Токсово и Мга по заданию Гидрологического института. Участие в работе новоорганизованной Академией наук постоянной комиссии по научным экспедициям. По совместительству заведовал библиотекой Геологического и Минералогического музеев. Рождение дочери Евгении.
1923 — Экспедиция в Южно-Уссурийский край для дополнительных исследований геологии в районе Владивостока и доставки ранее собранных коллекций. Переезд Геологического музея в новое здание. Торжественное заседание на Лахтинской экскурсионной станции в связи с пятилетием работы ее и музея при участии президента Академии наук А.П. Карпинского. Издание сборника: «Северное побережье Невской губы в свете естествознания и истории» (Пг., 1923).
1924 — Создание в Геологическом музее отдела Полярных стран. Зав.отделом. Избран ученым секретарем Комиссии по научным экспедициям. Разработка перспективного плана исследований Новой Земли. Издание книги «Полярные страны. 1914—1924», написанной совместно с Ш. Рабо.
1925 — Участие в организации комиссии по комплексному изучению Якутской республики (КЯР). Ученый секретарь: составление пятилетнего плана работ, организация полевых отрядов, издательского дела. Слияние Географического института с Ленгосуниверситетом на правах
факультета. Профессор. Зав. кафедрой Полярных стран. Участник 2-го краеведческого съезда в Батуми.
1926 — Командирован Академией наук в Швецию, Норвегию и Германию по делам КЯР и Геологического музея. Участие в 1-м международном съезде общества «Аэроарктик» в Берлине и Международной конференции по фотометрии. Участие во II Всесоюзном геологическом съезде в Киеве. Отказ от обязанностей ученого секретаря Комиссии по научным экспедициям в связи с перегруженностью работой.
1927 — Командировка в Якутию для проверки работ отрядов и согласования планов с якутским правительством. Делегат 3-го краеведческого съезда в Москве. Участие в работе Международного Тихоокеанского комитета Академии наук. Редактор и автор предисловия к сборнику «Якутия».
1928 — Участие во 2-й Международной конференции общества «Аэроарктик» в Ленинграде. Выступление в Коммунистическом университете о целях и задачах исследования Полярных стран Ф.Нансена и П.В. Виттенбурга. Организация траурного заседания в ЛГУ по поводу гибели Р. Амундсена. Открытие на острове Большом Ляховском геофизической станции с коротковолновым радиопередатчиком. Участие в III Всесоюзном геологическом съезде в Ташкенте. Обсуждение в малом Совнаркоме в Москве плана пятилетних работ в Арктике. Редактор и автор предисловия к сборнику «Геофизические проблемы Якутии».
1929 — Командировка в Якутию по поводу завершения пятилетнего плана работ в республике и выработки нового пятилетнего плана комплексного изучения Якутии. Автор предисловия и ряда статей в 30-м томе «Материалов» КЯР.
1930 — Ликвидация Полярной комиссии, реорганизация Геологического музея. Арест (15 апреля); под следствием по «Академическому делу» в течение 10 месяцев.
1931 — постановление Тройки ПП ОГПУ в ЛВО — расстрел, замененный 10 годами лишения свободы с конфискацией имущества. Инкриминировалось участие в монархическом «Всенародном союзе борьбы за возрождение свободной России» и «вредительство в области экспедиционных исследований». Отбывал наказание: февраль-август —
Беломорско-Балтийский канал; август — отправка в лагерь на о. Вайгач в бухту Варнека. Разведка полезных ископаемых. Нач. геологической части, руководитель курсов коллекторов.
1935 — 12 июля досрочное освобождение по зачету рабочих дней. Камеральная обработка материала в Северном геологическом управлении Архангельска. Написание монографии «Рудные месторождения о. Вайгача и Амдермы» (Л.—М.,1940).
1936 — Снятие судимости постановлением Комиссии по делам частной амнистии при ЦИК СССР по ходатайству президента Академии наук.
1936—1938 — Экспедиция на Северную Землю от Горного геологического управления Главсевморпути. Высадка из-за тяжелых ледовых условий на Северо-западном побережье Таймырского п-ва у мыса Стерлегова вместо Северной Земли. Геологическая съемка, разведка залежей слюды с бериллом, граната и пирита. Составление геологической карты берега Харитона Лаптева.
1939 — Камеральная обработка материалов в Арктическом научно-исследовательском институте. Написание монографии «Геология и полезные ископаемые Северо-западной части Таймырского п-ва». (Л.—М., 1941).
1940—1941 — Экспедиция от Арктического института на о. Вайгач. Гл. геолог. Геологическая съемка. Поиск полезных ископаемых. Руководитель курсов коллекторов. Возвращение экспедиции в Архангельск под охраной военных кораблей.
1942— Эвакуация Северного геологического управления в Сыктывкар. Начальник геоконтроля. Зав. ред.- изд. отд. СГГУ. Инспектирование месторождений Ухты и Воркуты. Профессор Карело-Финского гос. университета (эвакуированного из Петрозаводска).
1943— Разведка месторождения горючих сланцев у селения Иб со студентами университета.
1944 — Вангырская экспедиция на Северном Урале. Геосъемка. Заведование Геологическим музеем севгеоуправления. Составление общего отчета по всем экспедициям Севгеоуправления и руководство Геологическим музеем.
1946 — Возвращение в Ленинград. Штатный профессор Высшего Арктического морского училища им. С. О. Макарова (БАМУ). Внештатный профессор географического факультета ЛГУ. Экспедиция на о. Вайгач и Амдерму от треста «Арктикразведкал. Защита диссертации в Геологоразведочном ин-те в Москве на степень доктора геолого-минералогических наук на основании книги «Рудные месторождения о. Вайгача и Амдермы».
1947 — Организация в БАМУ кафедры физической географии Арктики. Руководство научным обществом курсантов. Чтение научно-популярных лекций на предприятиях и учреждениях города.
1948 — Геологическая практика со студентами ЛГУ в Хибинах, Мурмане, Вайгаче и Амдерме. Вручен значок «Почетный полярник» и медаль «За доблестный труд в В.О.В. 1941—1945 г.»
1949— Руководство ВАМУ торжественно отметило 65-летие со дня рождения и 40-летие научной деятельности.
1950— Увольнение из ВАМУ «в связи с невозможностью использования». Уход из ЛГУ (10 марта). Выход на пенсию. Работа над монографией «Жизнь и научная деятельность Э.В. Толля».
1954—1958 — Консультант отдела четвертичной геологии ВСЕГЕИ.
1957 — Получение справки о реабилитации из Ленинградского городского суда. Строительство дачи в Зеленогорске (под Ленинградом). Работа над практическим пособием для коллекторов. (Изд. в 1960)
1960 — Выход в свет монографии «Жизнь и научная деятельность Э.В. Толля» и дневника последней экспедиции Толля «Плавание на яхте "Заря"» в переводе З.И. Виттенбург, под ред. П.В. Виттенбурга.
1962 — Смерть З.И. Виттенбург.
1964 — Второе издание «Практического руководства...». Работа над третьим изданием.
1968 — 29 января Павел Владимирович умер от воспаления легких. Похоронен на Зеленогорском кладбище.
Приложение 2 Опубликованные работы П.В. Виттенбурга
Опубликованные работы П.В. Виттенбурга
1. О результатах исследований на Анненских минеральных водах// Известия Геологического комитета. — 1909. С. 262—264.
2. Геологический очерк полуострова Муравьева-Амурского и острова Русского. — СПб., 1910. — 44 с., ил., 2 л. табл.
3. Геологический очерк полуострова Муравьева-Амурского и острова Русского // Известия Геологического комитета. Т.ЗО. № 190. — 1911. С. 421—478. Резюме на немецком языке.
4. Указатель статей ко второй серии «Записок» Имп. Минералогического общества и «Материалов для геологии России», изданных обществом с 1895 по 1909 г. — СПб., 1911. — 43 с. (Сост.)
5. Новые данные о стратиграфии Кавказского триаса // Известия АН. 1912. С. 433-436.
6. Камчатская экспедиция Ф.П. Рябушинского // Русская мысль. 1913. Кн. 6. Разд. 17. С. 37-39.
7. О руководящей форме Psendomontis'овых слоев верхнего триаса Северного Кавказа // Известия АН. 1913. С. 476-487.
8. Геологические исследования в заливе Петра Великого // Известия АН. VI. 1914. № 9. С. 617-618.
9. Геологическое описание полуострова Муравьева-Амурского и архипелага Императрицы Евгении. — Пг., 1916. — 480 с., ил., 24 табл., карта. Резюме на фр. яз.
10. Гидрометеорологический очерк устья р. Енисея и Енисейского залива. — Пг., 1917. — 190 с., 30 табл. (Совместно с Р.Ю. Гутманом и И.Д. Лукашевичем.)
11. Геологические исследования в заливе Петра Великого // Новые данные по геологии Дальнего Востока. Изв. РАН, 1918. С. 1237—1244.
12. Геологические исследования между Лисьим Носом и устьем р. Невы в связи с изысканиями по переустройству Петроградского торгового порта// Балтийский морской транспорт. 1919. № 6-7 (33-34). С. 287-288.
13. К гидрологии устья р. Енисея между сел Дудинкой и Луковой Протокой // Тр. Отд. Торговых портов (по гидрометеорологической части).Вып.LХ. Журнал совещаний (1912-1917). — Пг., 1919. С. 169-170.
14. Месторождение железной руды в районе Кольского залива // Тр.Сев. Научн.-промысл. экспедиции. Вып. 4. 1920. С.1—7 с карт.
15. Кольско-Канинская и Новоземельская экспедиция // Бюллетень Гидрологического института. 1921. № 14. С. 7—8.
16. Исследования Полярных стран и больших высот при помощи аэропланов и подводных лодок // Природа. 1922. № 6—7. С. 38—49, рис.
17. К вопросу о возрасте пород острова Кильдина на Западном Мурмане// Изв. РАН. 1922. С. 359-368. (Совместно с Н.Н. Яковлевым)
18. Князь Альберт Монакский // Природа. 1922. № 10—12. С. 91.(Некролог)
19. Кольско-Канинская и Новоземельская экспедиции проф. П.В. Виттенбурга и инж. Р.Л. Самойловича 1921 г. Бюллетень Географического института. 1922. № 2. С. 3—4.
20. Лахтинская экскурсионная станция и Музей природы Северного побережья Невской губы // Экскурсионное дело. 1922. № 4—6. С. 51—75, ил.
21. Мурманская геологическая экспедиция // Тр. Сев. Научно-промысл. эксп. 1922. Вып.14. С. 45-48.
22. Экспедиция на «Куэсте» // Природа. 1922. № 8-9. С. 117-118.
23. Последние известия об экспедиции Роальда Амундсена к Северному полюсу // Записки по гидрографии. 1923. № 47. С. 315—317, карт.
24. Северное побережье Невской губы в свете естествознания и истории// Сб.1. — Пг., 1923. — 75 с., ил., 6 л. табл. (ред. и предисл.)
25. Полярные страны 1914-1924. — Л.: Морвед, 1924. — 183 с., 8 л. карт. (Совместно с Ш.Рабо)
26. Экспедиция на судне «Мод» к Северному полюсу и проект достижения полюса на дирижабле // Записки по гидрографии. 1924. Т.48.С. 333-338, карт.
27. Roald Amundsen. Nordostpassagen // Записки по гидрографии. Т.48.1924. С. 338-340.
28. Изучение Якутской АССР // Ленинградская правда. 1925. 15 октября.
29. Лахтинская экскурсионная станция // Сб. Естественно-исторические экскурсии под ред. И.А. Кузнецова. Л., 1925. С. 125—153.
30. Приморская область. Приморский и Камчатский районы // Химико-технический справочник. I. Ископаемое сырье. 4.2. 1925. С. 304—310.
31. Проект достижения Северного полюса на дирижабле // Самообразование. 1925. № 2. С. 11-12, с портр. и карт.; № 3. С. 7-8.
32. Экспедиции Академии наук с 1920 по 1925 гг. // Природа. 1925.№ 7-9. С. 222-228.
33. Якутская экспедиция Академии наук. — Л.—М.: АН СССР, 1925. —158 с. с карт. — (Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 1.)
34. Институт исследования полярных стран // Научный работник. 1926.№ 10. С. 70-73.
35. Комиссия по исследованию Якутской АСС Республики (КЯР)// Отд. отг. из Отчета о деятельности Академии наук СССР в 1925 г. —Л.: АН СССР, 1926. С. 239-253.
36. Новые данные по геологии Дальнего Востока // Записки Минералогического общества. Сер. 11. Ч. 55. № 1. 1926. С. 228-231.
37. Как живут в Якутской республике // Ленинский шахтер. 1927. № 225.
38. Комиссия по изучению Якутской АССР (КЯР) // Отд. отт. из Отчета о деятельности Академии наук СССР в 1926 г. — Л.:АН СССР, 1927. С. 284-295.
39. Лахтинская экскурсионная станция за 8 лет // Просвещение. 1927.№ 10. С. 129-132, ил.
40. Якутия. Сборник статей. — Л., 1927. — XXVI + 745 с. + VI, ил. (Ред. и предисл.)
41. В поисках Амундсена — Л.: «Красная газета», 1928. — 30 с., 1 вкл. л. карт.
42. Геофизические проблемы Якутии. Сборник статей. — Л.: АН СССР,1928. — IX + 258 с., ил., карт. — (Материалы комиссии АН по изучению ЯАССР. Вып. 11.) (Ред. и предисл.)
43. Загадки Арктики: Доклад на Международном Арктическом конгрессе// Вестник знания. 1928. № 13. С. 648-652, портр.
44. Изучение вод Якутреспублики Комиссией Академии наук по изучению Якутской АССР // Труды II Всесоюзного гидрологического съезда. 4.2. 1928. С. 373-377.
45. Комиссия по изучению Якутской АССР (КЯР) // Отд. отт. из Отчета о деятельности Академии наук СССР в 1927 г. — Л.:АН СССР, 1928. С. 238-244.
46. Роальд Амундсен // Вестник знания. 1928. № 13. С. 653—654, портр.
47. Баклунд О. Кристаллические породы Таймыра // Записки АН СССР. Сер.VIII. Т.21. — Л., 1929. — 149 с., 6 табл., 1 к. (Ред.)
48. И.Д. Лукашевич (Некролог) // Известия Центрального Гидрометеорологического Бюро. Вып.8. 1929. С. 409—412.
49. Краткие отчеты о работах отрядов Якутской экспедиции АН СССР1925-1926 гг. — Л., 1929. — 432 с., ил., карты. — (Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 10.) (Ред. и предисл.)
50. Новейшие исследования Антарктики в 1928—1929 гг. с аэроплана// Природа. 1929. № 12. С. 1072-1075, карт.
51. Опыт школьной краеведческой работы на Лахтинской экскурсионной станции // Известия ЦБК. 1929. № 7-8. С. 9-18.
52. «Аэроарктик»: Международное общество изучения полярных стран посредством воздухоплавательных аппаратов. Труды второй полярной конференции. — Л.: Группа СССР «Аэроарктик», 1930. — XXII +194 с., 10 вкл. л. ил. (Ред. и предисл.)
53. Гарольд Свердруп / Свердруп Г.У. Плаванье на судне «Мод» / /Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 30. — Л.:АН СССР, 1930. С.ХLI-ХLIХ.
54. Об открытии верхнетриасовой фауны на Земле Врангеля // Доклады АН СССР. Сер. А. № 11. 1930. С. 271-276.
55. Полезные ископаемые и транспортные проблемы Якутии. Сборник статей. — Л.—М.: АН СССР, 1930. — 96 с., ил., карты. (Ред. и предисл.)
56. Оскар Вистинг / Свердруп Г.У. Плаванье на судне «Мод» / / Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 30. — Л.: АН СССР,1930.
57. Роальд Амундсен / Свердруп Г.У. Плаванье на судне «Мод»II Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 30. — Л.:АН СССР, 1930. С.ХVI-ХХХII.
58. Свердруп Г.У. Плаванье на судне «Мод» / / Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып.30. — Л.: АН СССР, 1930. — LXIII +440 с., карты. (Ред. и предисл.)
59. Якутская экспедиция Академии наук / «Аэроарктик». — Л., 1930.С. 139— 141, карты, схемы.
60. Перспективы геологических работ ЗАК ГУСМП на 1935 г. //За большую Амдерму (Амдерма). 1935. 17 июля. С.З.
61. Добываем плавиковый шпат // Советская Арктика. 1936. № 7. С. 55—62.
62. Термический режим и рудничные воды в зоне вечной мерзлоты острова Вайгач и Амдермы // Проблемы Арктики. 1939. № 9. С. 5 — 29, черт., 1 табл.
63. Рудные месторождения острова Вайгача и Амдермы // Труды ГГУГУСМП. Вып.4. — Л.— М.: Главсевморпуть, 1940. — 174 с., карты, разрезы, черт.
64. Геология и полезные ископаемые Северо-западной части Таймырского полуострова // Труды ГГУ ГУСМП. Т.12. — Л.— М.: Главсевморпуть, 1941. — 48 с., 1 л. к.
65. Полиметаллы западного склона Северного Урала, Пай-Хоя и Вайгача// Материалы 1-й геологической конференции Коми АССР. — Сыктывкар, 1944. С. 234-238.
66. Материалы по четвертичной геологии и геоморфологии СССР. Вып.1. Сборник статей под ред. П. В. Виттенбурга. Материалы ВСЕГЕИ. Новая серия. Вып. 17. — М.: Госгеолтехиздат, 1956. — 194 с.
67. Э.В. Толль. Плаванье на яхте «Заря». — М.: Географгиз, 1959. —338 с., 8 л. ил., фронт, портр. (Ред.)
68. Жизнь и научная деятельность Э.В. Толля. — М.— Л.: АН СССР,1960. — 246 с., ил.
69. Практическое пособие для коллекторов. — М,: Госгеолиздат, 1960.— 386 с., ил., табл.
70. Практическое руководство для техников-геологов. — Л.: Недра, 1964. 2-е изд. — 487 с., ил., табл.
71. Открыватель Хибин / А. Е. Ферсман. Жизнь и деятельность. —М.: Наука, 1965. С. 254-258, ил.
72. Beitrage zur Kenntnis der Werfener Schichten Sudtirols. Geologische u. Palaontologische Abhandungen. Neue Folge. Bd.VIII, Heft 5. — Jena, 1908. (44 с., илл, 7 л.ил.)
73. Einige neue Fassilien aus den Werfener Schichten Sudtirols. — Stuttgart, 1908. Bd.l. S. 16-21, m. Tafl. (Neue Jahrbuch fur Mineralogie etc.)
74. Neue Beitrage zur Geologic und Palaontologie der Warfener Schichten Sadtirols mil Beriicksichtigung der Schichten von Wladiwostok. — Stuttgart, 1908. #3. S. 67—89 (Separat Abdruck aus dem Centralblatt fur Mineralogie etc.)
75. Einige Lamellibranchiata der Salt-Range, mit Beriicksichtigung der Lamellibranchiata des Siid-Ussuri-Gebiets. — Stuttgart, 1909. Bd.l. S. 1—13, 2 Tafl. (Neue Jahrbuch fur Mineralogie etc.)
76. Geologische Studien an der ostasiatischen Kiiste im Golfe Peter der GroBen. — Stuttgart, 1909. Bd. 27. 32 S. Tafl., Kart. (Neue Jahrbuch fur Miniralogie etc.)
77. Notiz tiber Trias und Jura bei Wladiwostok und Umgebung. — Stuttgart, 1909. Bd. 1. S. 1-54. Tafl. (Neue Jahrbuch fur Miniralogie etc.)
78. Uber einige Triasfossilien von Spitzbergen. — SPb., 1910. S. 31-40. Tafl. (Труды Геологического музея им. Петра Великого ИАН, Т.IV, Вып.2.)
79. Uber Triasfossilien von der Insel Balanach. — SPb, 1910.VI (Изв. ИАН. Сер. IV, № 15. C.1211).
80. Systematisches Sach- und Namen-Register zur zweiten Serie der Verhandlungen der Keiserlichen mineralogischen Gesellschaft zu S-Pb., und den Materialen zur Geologic RuBlands 1895-1909. — СПб., 1911. S. 44-113.
81. Sur une collection du trias inferier, provenant de la riviere Teplaja, provinced'Enisejsk. — SPb., 1911, № 15. P. 1083-1805. (Известия ИАН, T.VI.)
82. Uber Triasfossilien von Flusse Dulgolach. — СПб., 1911. S. 63-74. Tafl. (Труды Геологического музея им. Петра Великого ИАН. Т.IV. Вып.5.)
83. Podosersky, К. Die Gletscher des Kaukasus (Рецензия). Geographischer Literaturbericht. — Marz, 1912. S. 160.
84. Uber Werfener-Schichten von Spitzbergen. — SPb., 1912. C. 947-948. (Известия ИАН).
85. Zur Kenntnis der Triasablagerungen des Sild-Ussuri-Gebietes. — Л., 1927. № 12. S. 497-504. (Separat-Abdruck aus dem Centralblattfiir Mineralogi etc.)
86. Uber die Entdeckung einer obertriassischen Fauna auf der Wrangelinsel. 1930. № 11. S. 271-276. (C.r. Akad. Wiss. USSR, A.L.)
Приложение 3. Рукописи П.В. Виттенбурга находящиеся в семейном архиве.
Рукописи П.В. Виттенбурга, находящиеся в семейном архиве1.
1. Отчет об экспедиции на Кавказ в 1911 г. — Рукопись. — 28 л.
2. К геологии перевала Штулувцек из Дигории в Балкарию. — Машинопись. 1911. — Зл.
3. Материалы к геологии северных склонов Среднего Кавказа (Предварительный отчет об экспедиции 1914 г.) — Корректура, с авторской правкой. — 12 л. (« Труды Геологического музея». Т.9. 1916. Не был издан.)
4. Новая Земля. Дневник. 27 июля — 7 августа 1921.
5. Усть-Кутский солеваренный завод «Сольэавод»: Списание такового при осмотре его пр. П. В. Виттенбургом 9/VI, 1927 г. — Машинопись. — 5 с.
6. Статьи, предпосланные к кн. «Свердруп Г. Плаванье на судне "Мод" в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском». Предисловие, «Роальд Амундсен», «Гаральд Свердруп», «Оскар Вистинг», «Научные результаты Норвежской полярной экспедиции на судне "Мод"». 1918—1925. — Машинопись. 1929. — 34 с.
7. Полярные страны. Лекции П.В. Виттенбурга, читанные в ЛГУ в 1928—1930. — Рукопись. — 454 с. Карты, разрезы, рис.
8. Конспекты литературных источников по геологии Карелии и о. Вайгача. 1931 г. — Рукопись. Тетрадь, рис., карты, разрезы.
9. Дневник № 1: 7 августа — 6 октября 1936. — Машинопись. — 20 с.
10. Поденые записки [Северо-Западной таймырской экспедиции]. 10 июля 1937 — 20 августа 1938. — Рукопись. — 4 тетр. — 416 с.
1 По завершении работы над настоящей книгой все перечисленные в приложении рукописи будут переданы в Архив Русского Географического общества в Санкт-Петербурге (ф. 123).
11. Письмо-дневник к Е.П. Виттенбург. 12 марта 1937 — 16 марта 1938. —286 с. Фото, карты.
12. Приказы по геологической экспедиции ГУСМП. 6 ноября 1936 —3 апреля 1937. — Рукопись. — 1 тетр.
13. Отчет о работах Западно-Таймырской геологической экспедиции. 1 октября 1937 — 15 октября 1938. — 23 с.; 10 л. карт и разрезов.
14. Физическая география Арктики. Лекции на V курсе БАМУ. — 1947. —Машинопись с авторской правкой, рукопись. — 36 + 6 л.
15. Рудный пояс берегов Карского моря. — Л., 1947. — Машинопись. —169 с., табл., 15 л. карт и разрезов.
16. Э. В. Толль. Жизнь и научная деятельность русского полярного исследователя конца XIX и нач. XX столетия. — Машинопись. 1951. —273 с.
17. Жизнь и деятельность. Рукопись. 1966 г. 22 с.
Приложение 4 Названные именем П.В. Виттенбурга
Названные именем П.В. Виттенбурга
I. Географические пункты.
1. Хребет. Остров Шпицберген. 78°30 с.ш., 13° в.д. Назван в 1913 г.норвежской экспедицией. [Лит.: Масленников Б. Морская карта рассказывает. Изд. 2-е. М., 1986. С. 59.]
2. Мыс. Земля Франца Иосифа. О. Ли Смита. Назван до 1932. [Лит.: Масленников Б. Указ. соч. С. 59.]
3. Гора. Полуостров Муравьева-Амурского. Названа А. Хисамутдиновым в 1993. [Лит.: Владивосток. Краеведческая карта. Хабаровск, 1993.]
II. Палеонтологические остатки.
1. Род: Wittenburgella Dagis, 1959. Единственный представитель рода, типовой вид: Wittenburgella minuta Dagis, 1959. Брахиопода, норийский ярус, Северо-Западный Кавказ, междуречье Дабы и Белой, гора Тхач. Сборы А.С. Дагиса. [Лит.: Дагис А.С. новые триасовые роды Terebratulida // Научные сообщения Института геологии и географииАН Лит. ССР. Т. IX. 1959. С. 32. табл. VI, фиг. 4.]
2. Новый вид: Seminula Wittenburgi Frederiks, 1925. Брахиопода, Пермь, берег бухты Тавайзы в Приморье. Дальний Восток. Сборы В.П. Принады. [Лит.: Фредерике Г.Н. Уссурийский верхний палеозой. Пермские брахиоподы с мыса Кулузина // Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока. 1925. № 40. С. 28, табл. IV, фиг. 120-122.]
3. Новый вид: Prasopora Wittenburgi Astrova, 1965. Мшанка, средний ордовик, мыс Нансена близ Хабарова, Пай-Хой. Сборы Виттенбурга. [Лит.: Астрова Г.Г. Морфология, история развития и система ордовикских и силурийских мшанок // Труды ПИН АН СССР. Т. 106.М.: Наука, 1965. С. 199-200, табл. XXXIV, фиг. 3.]
4. Новый вид: Tetraporinus Wittenburgi Sokolov, 1949. Коралл, силур, о-в Вайгач. [Лит.: Соколов Б.С. Табуляты палеозоя Европейской части СССР. // Труды ВНИГРИ. Вып. 85. М.; Л., 1955. С. 202, табл. XLI, рис. 3—4.]
Приложение 5 Серии “Материалов” и “Трудов” Якутской комиссии АН СССР, изданные при участии П.В. Виттенбурга
Серии «Материалов» и «Трудов» Якутской комиссии АН СССР,
изданные при участии П.В. Виттенбурга
Материалы по изучению Якутской АССР
Вып. 1. Виттенбург П.В., Якутская комиссия по изучению Якутской АССР, 1925.
2. Берг Л. С. Рыбы бассейна Хатанги. 1926.
3. Добржанский Ф.Г. Материалы для фауны coccinellidae Якутии.[1926.] Берг Л.С. О нахождении Phoxinus Lagowski Dyb в бассейнер. Лены. Боровский В. В. Описание одного вида рода Silis Letr (Coleoptera) 1926
4. Григорьев А.А. Геологический рельеф и почвы северо-западной части Ленско-Алданского плато и Верхне-Янского хребта. 1926.
5. Визе В.Ю. Гидрологический очерк моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. 1926.
6. Красюк А.А. Почвы Ленско-Амгинского водораздела (Якутский округ) 1927.
7. Доппельмайр Г.Г. Программы и инструкции по изучению пушного и охотничьего промысла в Як. АССР. 1926.
8. Дробов В.П. Краткий очерк растительности Ленско-Алданского плато. [1927.]
Бенуа К.А. Предварительный обзор микологических и фитопатологических исследований Якутии. 1927.
9. Шрейбер С.Е. Медико-санитарное обследование Вилюйского и Олекминского округов. 1931.
10. Краткие отчеты о работах отрядов Якутской экспедиции за 1925—1926 гг. 1929. Ред. и предисловие П.В. Виттенбурга.
11. Геофизические проблемы Якутии. Ред. и предисл. П.В. Виттенбурга. 1928.
12. Недригайлов С.Н. Лесные ресурсы Ленско-Алданского плато и Заалданско-Верхоянского района. 1929.
13. Дорофеев В.Н. Болезни глаз среди населения Вилюйского и Олекминского округов. 1930.
14. Пархоменко С.Г. Отчет о поездке в Вилюйский округ. 1928.
15. Мицкевич С.И. Мэнэрик и амиряченые. Форма истерии в Колымском крае. 1929.
16. Вагнер Ю.Н. Материалы по фауне Aphanipteren Якутии. 1927.
17. Виноградов Б. С. Заметки о млекопитающих Якутии. 1. Лемминговые полевки. 1927.
18. Виноградов Б.С. Заметки о млекопитающих Якутии. 2. Рыжие полевки. 1927.
19. Мосевич Н.Л. Материалы к систематике современных ископаемых Yoldia artica Gray. 1928.
20. Штакельберг А.А. Обзор палеоарктических видов подсемейства cinxiinae (Diptera, Syrphidae). 1927.
21. Берг Л. С. О нахождении представителей рода Oncorhynchus в реке Лене. 1927.
22. Огнев Г.Н. Геологические наблюдения на Ленско-Амгинском водоразделе. 1927.
23. Белянкин Д. С. Об оливинково-кварцевом диабазе с реки Тюнг в Восточной Сибири. 1927.
24. Мирам Э.Ф. О прямокрылых /orthoptera/ Якутии. 1928.
25. Иванов А.И. Птицы якутского округа. 1929.
26. Вилюйский комплексный отряд. Отчет 1926.
27. Кузнецова С.С. Река Тюнг и ее левобережье. (Геологический очерк) 1926.
28. Борисов П.Г. Современное состояние рыбного промысла в низовьях реки Лены и пути его развития. 1928.
29. Никитин С.А., Скалозубова А.Н., Бенуа К.А., Прядин В.Н.Материалы по изучению сельского хозяйства Якутского округа по данным агрономического отряда экспедиции Академии наук. 1930.
30. Свердруп Г.У. Плавание на судне «Мод» в водах морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Ред. и предисловие П.В. Виттенбурга. 1930.
31. Григорьев А.А. Морфология северо-восточной части Виюйского округа. 1930.
32. Борисов П.Г. Предварительные данные о рыбном промысле в низовьях реки Колымы. 1929.
33. Алькор Я.П. (Кошкин). Проект алфавита эвенкийского (тунгусского) языка. 1930.
34. Расцветаев М.К. Очерк якутского хозяйства: Предварительный отчет о работах экономического отряда Якутской экспедиции 1927—1928 гг. 1930.
35. Хмызников П.К. Предварительный отчет о работе Янского гидрологического отряда Якутской экспедиции 1927—1929 г. и вопросы судоходства по реке Яне. 1930.
36. Васимзев В.Н. Предварительный отчет о работах среди алдано-майских и аяно-охотских тунгусов в 1926—1928 гг. 1930.
б/№ Отчет Якутской национальной библиотеки за 1928—1929 гг. 1930.
Труды [Комиссии по изучению Якутской АССР]
Том 1. Комаров В.Л. Введение в изучение растительности Якутии. 1926.
Том 2. Штеллинг Э.В., Смирнов Д.А., Розе Н.В. Материалы по изучению земного магнетизма в Якутии. 1926.
Том 3. ч.1. Евгенов Н.И. Экспедиция к устьям рек Лены и Оленека под нач. Ф.А. Матисена в 1920 г. и Н.И. Евгенова в 1921 г. 1929.
ч.2. Евгенов Н.И., Хмызников П.К. и Чирихин Ю.Д. Атлас реки Лены от Якутска до дельты с описанием судового хода. 1928.
ч.3. Евгенов Н.И., Хмызников П.К. и Чирихин Ю.Д. Атлас проток дельты рек Лены, низовий Оленека и бухты Тикси. 1928.
Том 4. Павлинов Д.М., Виташевский Н.А. и Левенталь Л.Г. Материалы по обычному праву и по общественному быту якутов. 1929.
Том 5. Каминский А.А. Материалы по климатологии Северного побережья Азии. 1928.
Том 6. Шостакович В.Б. Материалы по климату Якутской республики и сопредельных с ней частей северной Азии. Текст и атлас. 1927.
Том 7. Ястремский С.В. Образцы народной литературы якутов. 1929.
Том 8. Метеорологические и аэрологические наблюдения в Якутии в 1925 г. 1928.
ч.1. Наблюдение метеорологических станций: Якутск, Петропавловское, Булун, Вилюйск и Олекминск.
ч.2. Наблюдения аэрологических станций: Якутск, Петропавловское.
Том 9. Борисов П.Г. Рыбы реки Лены. 1928.
Том 10. Аболин Р.И. Геоботаническое и почвенное описание Лено-Вилюйской равнины. 1929.
Том 11. Рылов В.М. Материалы к фауне пресноводных свободноживущих веслоногих ракообразных северной Сибири. 1928.
Том 12. Лебедева Л.А. Грибы арктического побережья Сибири. 1928.
Том 13. Воленс Н.В. Хозяйство Якутов Лено-Амгинского района. 1928.
Том 14. Молодых И.Ф. Атлас реки Алдана от устья реки Май до устья реки Угумру. 1930.
Том 15. Лено-Колымская экспедиция 1909 г. под нач. К.А. Воллосовича. 1930.
Том 16. Метеорологические и аэрологические наблюдения в Якутии в 1926 г. 1930.
ч.1. Наблюдения метеорологических станций в Якутске, Петропавловском, Средне-Колымске, Верхоянске, Олекминске, Булуне и Вилюйске.
ч.2. Наблюдения аэрологических станций в Якутске, Петропавловском и Верхоянске.
Список сокращений
Список сокращений
ДАНИИ — Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт
АМАИА — Архив Музея Арктики и Антарктики
АН — Академия наук
АОИАК — Архив Общества изучения Амурского края
АРГО — Архив Русского географического общества
АУФСБ по СПб и Ленобл. — Архив Управления Федеральной службы безопасности по С.-Петербургу и Ленинградской области
ВАИ — Всесоюзный Арктический институт
ВАРНИТСО — Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социалистическому строительству в СССР
ВГО — Всероссийское географическое общество
ВК ВС СССР — Военная Коллегия Верховного суда СССР
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВТЭК — врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВЦИК — Всесоюзный Центральный исполнительный комитет
ГГУ — Горно-геологическое управление
ГММ — Геолого-минералогический музей
ГО — Географическое общество
ГПУ — Главное политическое управление
ГУИТЛ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей
ГУЛАГ — Главное управление лагерями
ГУСМП — Главное управление Северного морского пути
ДВФАН — Дальневосточный филиал Академии наук
ДПЗ — дом предварительного заключения
ЗАК — Западно-арктический комбинат
ИРЛИ РАН — Институт русской литературы Российской Академии наук
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технические работники
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога
КЭИ — комиссия экспедиционных исследований
КЕПС — комиссия по изучению естественных производительных сил
КЯР — комиссия по изучению Якутской республики
ЛИКС — Ленинградский институт коммунального строительства
МХАТ — Московский художественный академический театр
НИЦ — научно-информационный центр "Мемориала" (СПб)
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
ОИАК — Общество изучения Амурского края
ОКИСАР — Особый комитет по исследованию союзных и автономных республик
ОУУиВУЗ — отдел ученых учреждений и высших учебных заведений
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона
РАН — Российская Академия наук
РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота
РГИА — Российский государственный исторический архив
РГО — Русское Географическое общество
РО — Рукописный отдел
РОЛМ — Русское общество любителей мироведения
СГГУ — Северное горно-геологическое управление
СПб ФАР АН — Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
СПОН — социально-правовая охрана несовершеннолетних Торгсин — Всесоюзное объединение для торговли с иностранцами
УФСБ РФ — Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации
ЦБК — Центральное бюро краеведения
ЦГА СПб. — Центральный государственный архив г. С.-Петербурга
ЦНК — Центральный национальный комитет
Источники и литература
Источники и литература
Источники
Российский государственный исторический архив (РГИА)
Ф. 229 — Канцелярия министра путей сообщения;
Ф. 1289 — Главное управление почт и телеграфов.
Российский государственный архив Военно-морского флота (РГАВМФ)
Ф. 249 — Приказы по флоту и морскому ведомству (коллекция);
Ф. 406 — Послужные и формулярные списки чинов морского ведомства.
С.-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук (СПб ФАРАН)
Ф. 2 — Канцелярия Конференции Академии наук (Секретариат);
Ф. 4 — Канцелярия правления;
Ф. 12 — Комиссия по празднованию 200-летнего юбилея АН;
Ф. 47 — Якутская комиссия;
Ф. 58 — Тихоокеанская комиссия;
Ф. 75 — Полярная комиссия;
Ф. 128 — Геологический музей;
Ф. 138 — Постоянная комиссия по научным экспедициям.
Рукописный отдел Института русской литературы Российской Академии наук (РО ИРЛИ РАН)
Разряд 1 (Р—1) — Поступления разных лет.
Центральный государственный архив г. С.- Петербурга (ЦГА СПб.)
Ф. 2555 — Ленинградский отдел Главного управления научных и научно-художественных учреждений
Архив Управления Федеральной службы безопасности по С. - Петербургу и Ленинградской области (АУФСБ РФ по СПб и Ленобл.)
Ф. б/н — Архивно-следственные дела
Архив Русского географического общества (АРГО)
Ф. 65 — Якутская комиссия;
Ф. 123 - П.В. Виттенбург.
Архив Музея Арктики и Антарктики (АМАИА)
Ф. 5 — Коллекция П.В. Виттенбурга
Архив Общества изучения Амурского края (АОИАК)
Ф. 19 — Собрание П.В. Виттенбурга.
Частные собрания:
Е.П. Виттенбург. Личный архив.
Н.С. Несмелов. Личный архив.
Н.Н. Сапрыкина. Личный архив.
Литература
Академическое дело 1929—1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып.1. СПб.: БРАН, 1993; Вып. 2. Ч. 1, 2. СПб.: БРАН, 1998.
Академия наук за 10 лет. 1917 - 1927. Л.: АН СССР, 1927. Алексеев Н.Н. Зимовка на «Торосе». Л.: Главсевморпуть, 1939.
«Аэроарктик»: Международное общество изучения полярных стран посредством воздухоплавательных аппаратов. Труды второй полярной конференции. Л.: Группа СССР «Аэроарктик», 1930.
Белов М.И. По следам полярных экспедиций. Л.: Гидрометеоиздат, 1977.
Белов М.И. Советское арктическое мореплавание. 1917—1932 гг. Л.: Мор. транспорт, 1959. (Ист. откр. и освоения Сев. мор. пути. Т. 3).
Белов М.И. Научное и хозяйственное освоение Советского Севера. 1933—1945 гг. Л.: Гидромет. изд-во, 1969. (Ист. откр. и освоения Сев. мор. пути. Т. 4).
Берг Л.С. Ш. Рабо и П.В. Виттенбург «Полярные страны 1914—1924» // Географический вестник. Т.2. Вып.3—4. Л., 1924. С. 61.
Виттенбург Е.П. Лахтинская экскурсионная станция // Ленинградская панорама. 1988. № 11. С. 30-31.
Виттенбург Е.П. Семья Виттенбургов в России // Немцы в России. Люди и судьбы. СПб.: Д. Буланин, 1998. С.255-257.
Вишневский Б.Н. [О работе Лахтинской экскурсионной станции и музея] // Краеведение. 1923. № 1-2. С. 72.
Владивосток: Штрихи к портрету. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1985.
Геологический музей Академии наук 1725—1925. Л.: АН СССР, 1925.
Глушков В.Г. Российский гидрологический институт // Природа. 1925. № 7-9. С.214.
Гохнадель В.И. Виттенбург П.В. // Немцы России. Энциклопедия. Т.1. М., 1999. С. 979.
Громов Л.Д. Данильянц С.А. Названные именем геолога. М.: Недра, 1982. 200 лет АН СССР // Вестник знания. 1925. № 15. С. 1002-1053.
Дворжецкий В. Пути больших этапов: Записки актера. М.; Н. Новгород, 1994.
Ефимова М.И. Историческая и научная ценность геологической коллекции П.В. Виттенбурга / Важнейшие горные и геологические музеи мира. История, современность и перспективы развития. СПб, 1995.
Ефремов Г. Лахта // Блокнот агитатора. 1977. Июнь. № 18. С. 42—50.
Загорская Н.Г. Павел Владимирович Виттенбург (Жизнь и деятельность) // Известия Всесоюзного Географического общества. Т. 98. Вып. 4. Л., 1966. С.369-372.
Загорская Н.Г. Памяти П.В. Виттенбурга: Потери науки. // Известия Всесоюзного Географического общества. Т. 100. Вып. 3. 1968. С. 274.
Каневский З.М. Вся жизнь — экспедиция. М., 1982. Каневский З.М. Загадки и трагедии Арктики. М.: Знание, 1991.
Каневский З.М. Секретные экспедиции // Детская энциклопедия. Т. 3: География. М., 1994. С. 206-207.
Каневский З.М. Страшнее всех стихий // Знание — сила. 1989. № 12. С. 82-89.
К двухсотлетию Всесоюзной Академии наук. Л.: Ленгиз, 1925.
Корнилов М. Почему и как я оказался на земле финнов // Грани. 1994. № 171. С. 173-199.
Краткая памятка Геологического отделения Геолого-минералогического музея. Пг., 1922.
Курочкин Г.Д. За Саянским хребтом. М., 1956.
Левинский К.Н. Раздел приполярных областей // Вестник знания. 1928. № 13. С. 669-671.
Документы по истории Академии наук СССР: 1917—1925 гг. Л.: Наука, 1986.
«Ленинградское дело». Л.: Лениздат, 1990.
Масленников Б. Морская карта рассказывает. Изд. 2-е перераб. и доп. М., 1986.
Материалы I геологической конференции Коми АССР. Сыктывкар, 1944.
Материалы по истории АН СССР: 1917—1947 / Под ред. С.Вавилова. М.; Л.: Наука, 1950.
Матюшин М.В. Справочник по цвету. М.; Л.: Изобразительное искусство, 1932.
Мелуа А.И, Геологи и горные инженеры России. М.; СПб.: «Гуманистика», 2000.
Мелуа А.И. Инженеры Санкт-Петербурга. Изд. 2-е дополн. СПб.; М.: Международный фонд истории науки, 1997.
Меняйлов А.А., Курочкин Г.Д. Виттенбург П.В. Практическое руководство для техников-геологов // Природа. 1965. № 2. С. 203.
Михайлов Н.В. Лахта: Пять веков истории. 1500—2000: Исторический, очерк, документы, воспоминания, каталог. М.; СПб.: Весь мир, 2001.
Неопубликованные письма русских ученых Ф.Нансену / Публ. Т.И. Лосенко // На Севере дальнем. (Магадан). 1966. № 1. С. 98.
Непорожнева В.М. Краеведческая работа в Ленинградской области // Труды Ленинградского общества изучения местного края. Т. 1. Л., 1927. С. 12.
Ольденбург С.Ф. 200 лет Академии // Природа. 1925. № 7-9. С. 3. Олъденбург С.Ф. Российская Академия наук в 1921 году. Пг.: РАН, 1921.
Перченок Ф.Ф. Академия Наук на «великом переломе» // Звенья: Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991. С. 163—235.
Покровский М.Н. К отчету о деятельности Академии наук за 1926 год / Публ. М.Юрьевой и Д.Рейзлина // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 580-599.
Полянский И. И. Опыт новой организации экскурсионного дела в школах: Экскурсионная секция и экскурсионные станции // Экскурсионное дело. (Пг). 1921. № 1. С. 1-20.
Постановление Морского отдела Гидрологического института от 18 октября 1924 г. // Известия Российского Гидрологического института. 1925. № 12. С. 99.
Пять «вольных» писем В.И. Вернадского сыну: Русская наука в 1928 г. / Публ. К.К. // Минувшее: Исторический альманах. М., 1989. Т. 7. С. 436.
Ремизовский В.И. Павел Владимирович Виттенбург // Известия Государственного российского исторического архива Дальнего Востока. Владивосток, 1999. Т. 4. С. 121-127.
Репрессированные геологи. Изд. 3-е испр. и дополи. М.; СПб., 1999.
Ростов А. «Дело 4-х академиков» //Память: Ист. сб. Париж, 1981 Вып. 4. С. 469-495.
Самсонов В.А. В путях-дорогах студенческих: Воспоминания. Кондопога, 1997.
Самсонов ВА. Жизнь продолжается: Записки лагерного лекпома. Петрозаводск, 1990.
Степанов А.И. Русский берег: История географических названий. Владивосток, 1986.
Ткаченко С. Старый Владивосток: Альбом. Владивосток: Утро России, 1992.
Трагические судьбы. Репрессированные ученые Академии наук СССР: Сб. ст. М.: Наука, 1995.
Троицкий В.А. Путь яхты «Заря» в Карском море и маршруты Э.В. Толля у берегов Таймыра // Летопись Севера. Т. 6. М., 1972. С. 182—210.
Хисамутдинов А.А. Terra incognita, или Хроника русских путешествий по Приморью и Дальнему Востоку. Владивосток, 1989.
Чуковский К. Дневник: 1901-1929. М., 1991.
Шпаро Д., Шумилов А. Путь, прочерченный пунктиром // Вокруг света. 1977. № 12. С. 1-2.
Шрадер Т.А. Норвежские полярные исследователи — гости Санкт-Петербурга (на рубеже ХIХ-XX вв.) // Санкт-Петербург и страны северной Европы: Материалы ежегодной научной конференции (25—26 апреля 2001 г.) СПб.: РХГИ, 2002 С. 45-52.
Якутия // Природные условия и естественные ресурсы СССР / Под общей ред. И.П. Герасимова. М.: Наука, 1965. 16—17.
Янишевский М.Э. Материалы к познанию палеозойской фауны Новой Земли // Труды Геологического и Минералогического музеев АН СССР. Т. V. Вып. 4. Л., 1926. С. 74.
Chizamutdinov A. A. Deutche im Russischen Femen Osten // Europa in der Fruhen Neuzeit. Festschrift far Giinter Muhlpfordt. Band 6: MitteU, Nord-, und Osteuropa. Bohlau, Verlag, Koln, Weimar, Wien, 2002. S. 1071-1079.
Krieger N. K. Geophisikalische Probleme in Jakutien [Рецензия] // Meteorologische Zeitschrift. Braunschveig, Heft 5, 1929. S. 189-192.
Указатель имен
Указатель имен
Абакумов С.А., рабочий, участник Северо-Западной Таймырской экспедиции 1936-1938 гг. 218, 219, 221, 224, 229.
Акимова Екатерина Кирилловна, соседка по коммунальной квартире 156, 240, 315.
Александр II (1818—1881), император 12.
Александр — см. Шеншин А.А.
Александров Виктор Федорович (1911—1999), инженер-конструктор объединения «Гранит» 66.
Алексеев Николай Николаевич (1900—1969), гидролог, начальник экспедиции на гидрографическом судне «Торос» в архипелаге Норденшильда 199, 200, 203.
Алешко Александр Сергеевич (1912—197?), музейный работник 102, 147, 154, 187, 234, 315.
Альберт, князь Монакский (?—1922), учредитель Океанографического музея и института в Монако (1899) 389.
Алякринский Д.Н., студент Географического института, участник экспедиции 1920 г. на Северный Мурман 54.
Амалицкий Владимир Прохорович (1860—1917), геолог и палеонтолог 295.
Аммосов Максим Кирович (1897—1938), советский, партийный и государственный деятель 83, 84.
Амундсен Роальд (Руаль) (1872—1928), норвежский полярный исследователь и путешественник 120, 126, 127, 180, 320.
Андерсен Ханс Кристиан (1805—1875), датский писатель 79.
Андрианов Василий Михайлович, первый секретарь Ленинградского ОК ВКП(б) 1946-1953 гг. 337.
Андрусов Николай Иванович (1861—1924), геолог, академик, директор Геологического музея 38, 45, 46, 66.
Андрусон В.И., врач 91.
Аникиев Н.П., петрограф, сотрудник НИАиА 260, 261.
Анисимов Юрий Александрович, геолог, автор книги о Ф.Н. Чернышеве 362, 363.
Анисимова Нина Александровна (1909—1979), солистка балета Театра оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский театр) 239.
Анненков Юрий Павлович (1889—1974), живописец, график. С 1924 г. за границей 81.
Аннушка, см. Манн А.В. или Нестерова А.
Антокольский Павел Григорьевич (1896—1978), поэт 328.
Армфельт Аксель-Борис-Вольдемар (1911—1992), инженер 112.
Армфельт Александр, контрадмирал 15.
Армфельт Ванда Владимировна (урожд. Виттенбург) (1880—1976) 16, 69, 111.
Армфельт Густав-Феодор, лейтенант Сибирского флотского экипажа 16.
Армфельт Константин-Аксель-Рафаэль (1875—1953), моряк, муж В.В. Виттенбург 16, 111, 112.
Армфельт Улли, жена Акселя-Бориса-Вольдемара Армфельта 112.
Армфельт Фрида Александровна, см. Виттенбург Ф.А.
Армфельт Эрик-Николай (1914—?), техник 16, 112.
Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872—1930), исследователь Дальнего Востока, этнограф, писатель 33, 42, 69, 88, 365, 377.
Арсеньева Маргарита Николаевна (урожд. Соловьева) (1882—1938), жена В.К. Арсеньева 42.
Артоболевский Георгий В., мастер художественного слова, погиб на фронте в 1943 г. 239.
Архангельский Н.М., зав. кафедрой географии ЛГПИ им. А.И. Герцена 362.
Ахматов Михаил Николаевич (1823—1891), тайный советник 43.
Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889—1966), поэтесса 328.
Бабенька, см. Манн А.В.
Базанов Василий Григорьевич (1911—1981), литературовед, профессор, доктор филологических наук 297.
Бакланов Михаил Павлович, столяр Академии художеств 351.
Баклунд Олег (Хельгар) Оскарович (1878—1958), геолог, академик, с 1918 г. в эмиграции 46.
Балагуров Яков Алексеевич (1904—1977), профессор, доктор исторических наук 297.
Бальсон Нина Романовна, школьная подруга Е.П. Виттенбург 304.
Баренц Биллем (1550—1597), мореплаватель и исследователь полярных стран 322.
Бартольд Василий Владимирович (1869—1930), академик, востоковед 84.
Барышев, работник Обкома ЯАССР 142.
Бах Александр Николаевич (1857—1946), академик, биохимик 117.
Бах Иоганн Себастьян (1685—1750), немецкий композитор и органист 238, 274.
Башинджигян Геворк Захарович (1857—1925), художник 96.
Баярунас Михаил Викентьевич (1882—1939), геолог, стратиграф, палеонтолог 46, 67, 72, 77, 140.
Бегичев Никифор Алексеевич (1874—1927), боцман яхты «Заря» экспедиции Э.В. Толля 1900-1902 гг. 74.
Бедняков Г.М., полярник, зимовал в 1937/38 г. на полярной станции м. Стерлегова, профгрупорг 221.
Безруких Александра Федоровна (?—1979), жена П.Е. Безруких 113, 114
Безруких Зоя Павловна (1922—1964), филолог, дочь П.Е. Безруких 113, 114, 170.
Безруких Павел Ефимович (1892—1950), общественный деятель, поэт 113, 114, 170, 172, 314.
Безруких, семья 114, 124, 298.
Белов Михаил Иванович, историк, занимающийся изучением освоения Арктики 9, 53, 108, 130, 133, 137, 139, 189, 217, 229, 232, 376.
Белоутова Наталия Евгеньевна (1884—1969), библиограф научной библиотеки Академии художеств 371.
Беляков, инспектор Политуправления ГУСМП 231.
Белянкин Дмитрий Степанович (1876—1953), петрограф, минералог, физикохимик, академик, основатель технической петрографии 140, 326.
Бенуа Альберт Николаевич (1852—1936), архитектор, художник, академик 52, 54, 57, 61, 64-66, 68, 70, 72, 90, 154, 156, 284, 352.
Бенуа, семья 64, 377.
Берг Лев Семенович (1876—1950), географ и биолог, академик 44, 54, 92, 339.
Берия Лаврентий Павлович (1899—1953), советский государственный и партийный деятель 342.
Вернадская Елена Викторовна (1918—?), кандидат исторических наук 10.
Бетховен Людвиг Ван (1770—1827), немецкий композитор 79, 102, 127, 179, 237, 238, 240, 252.
Бирагов Пармен Григорьевич (1913—1966), инженер-электрик, муж Н. Т. Парманиной 357, 368.
Бирагова Наталия Тихоновна (урожд. Парманина) (1921—2003), инженер-электромеханик, жена П.Г. Бирагова 368.
Бирк Людвиг, доктор медицины 17.
Блех Елена Осиповна, учительница музыки в 1920-е гг. в Ольгино 123.
Блинк Виктория Владимировна (урожд. Виттенбург) (1873—?) 16.
Блинк Эрнест, муж Виктории В. Виттенбург 16.
Блок Александр Александрович (1880—1921), поэт 332.
Богораз-Тан [Богораз Владимир Германович (Натан Менделевич) псевд. Н.А. Тан, В.Г. Тан] (1865-1936), этнограф, писатель 88.
Богородицкий Николай Петрович (1902—1967), профессор, ректор ЛЭТИ 135.
Богословский В., профессор истории архитектуры в ЛГУ 315.
Болвин Геннадий Иванович (1912—1992), радиоинженер, полярник, муж Е.П. Виттенбург 379.
Боломотова Клавдия, соседка по коммунальной квартире Виттенбургов 156, 240.
Болотников Николай Яковлевич, геолог 74.
Бонхов, натуралист, собиратель экспонатов для Парижской всемирной выставки 1900 г. 13.
Борисяк Алексей Алексеевич (1872—1944), академик, основатель Палеонтологического института 72, 121.
Бородовский Леонтий, чиновник министерства финансов, первый муж Карин Армфелът (во втором браке — Виттенбург) 15.
Бражников К.Н., заведующий охраной рыбных промыслов на Дальнем Востоке в 1908 г. 22.
Брандт Федор Федорович (1802—1879), зоолог, палеонтолог, академик 43.
Браудо Евгений Максимович (1883—1939), литературовед, переводчик, автор работ по истории музыки 341.
Бредихин А. 43.
Брейтфус Леонид Леонидович (1864—1950), гидрограф, исследователь Арктики, эмигрировал в Германию в 1919 г. 76, 107.
Бродский Валентин Яковлевич (1905—1981), график, искусствовед, профессор 315.
Брон О.М., дирижер Театра оперы и балета им. С.М. Кирова в предвоенные годы 273.
Брунс Вальтер, немецкий воздухоплаватель, генеральный секретарь общества «Аэроарктик» 76, 107, 129.
Брусилов Георгий Львович (1884—1914), руководитель полярной экспедиции на шхуне «Св. Анна» (1912-1914) 36, 132.
Бруснёв Михаил Иванович (1864[1866?]—1937), инженер-технолог, социал-демократ 74.
Брянская Фаня, пианистка, преподаватель Консерватории 358.
Бубновский С.И., рабочий, участник Северо-Западной Таймырской экспедиции 1936-1938 гг. 216-219, 221, 224.
Бубрих Вера Дмитриевна, филолог, дочь Д.В. Бубриха 305.
Бубрих Владимир Дмитриевич, сын Д.В. Бубриха 305.
Бубрих Дмитрий Владимирович (1890—1949), языковед, член-корреспондент АН 297, 305, 334.
Бубрих Мария Федоровна, жена Д.В. Бубриха 305.
Бубрих, семья 314.
Буйницкий Виктор Харлампиевич (1911—1980), гидролог, профессор, доктор географических наук 333, 334, 346.
Бунге Александр Александрович (1851—1930), врач, зоолог, участник многих полярных экспедиций, флагманский врач Балтийского флота (1909—1912) 30, 74, 132.
Буняковский Виктор Яковлевич (1804—1889), математик, академик 43.
Бурий Галина Ивановна, геолог Дальневосточного отделения АН 40.
Бурханов Василий Федорович, зам. начальника ГУСМП 337.
Буссе Федор Федорович (1838—1896), краевед, историк, этнограф 7, 33.
Бухарин Николай Иванович (1888-1938), советский государственный и партийный деятель 118.
Буш Николай Адольфович (1869—1941), ботаник, академик 78.
Буш, немецкий писатель 79.
Быстрова Екатерина Григорьевна, гл. врач 7-й детской поликлиники Выборгского района в 1930-е гг. 153, 235.
Бэр Карл Максимович (1792—1876), естествоиспытатель, основатель эмбриологии, академик 30, 43.
Бялыницкий-Бируля Алексей Андреевич (1864—1937), зоолог, академик 51, 54, 67, 84, 197, 365.
Вавилов Сергей Иванович (1891—1951), физик, академик 118.
Вагнер Рихард (1813—1883), немецкий композитор 127, 226, 273, 276.
Вайдеман, врач, основатель клиники в Петербурге 64.
Вайтенс Андрей Петрович (1878—1940), архитектор 35.
Вакар Владимир Анатольевич (1900—?), геолог, кандидат геолого-минералогических наук 361.
Валейский Иванко, ненец на о. Вайгач 266.
Валентина, Валюся, Люся, см. Сапрыкина Валентина П.
Валида, см. Несмелова В.Э.
Ванда, см. Армфельд В.В.
Вареп Эндель Фридрихович, геолог, профессор Тартуского университета 360.
Варушон-Яросевич Александр Фердинандович, присяжный поверенный, стряпчий 28.
Васильев Виктор Николаевич (1877—?), этнограф, ученый секретарь КЯР (дек. 1929) 143.
Вассоевич Николай Брониславович (1902—1981), геолог, член-корреспондент АН 351.
Вахнин Иван Лукич (1887—?), врач, ректор Педагогического института в Сыктывкаре 302.
Вахнина Мария Дмитриевна, врач, жена И.Л. Вахнина 302.
Вейпрехт Карл, начальник австро-венгерской экспедиции, открывшей в 1873 г. Землю Франца-Иосифа 129.
Вельтищев Петр А., краевед, сотрудник Лахтинской экскурсионной станции 145, 147.
Верещагин Василий Васильевич (1842—1904), живописец 174.
Вериго-Доровский Фридрих К., кинооператор, фотограф 61, 62.
Вернадский Владимир Иванович (1863—1945), академик, минералог, кристаллограф, основатель биохимии, радиологии 36, 38, 44, 59, 67, 110, 116, 134.
Вершигора Петр Петрович, писатель 330.
Вечеслова Татьяна Михайловна (1910—1991), солистка балета Театра оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский театр) 239.
Визе Владимир Юльевич (1886—1954), океанолог, академик 76, 127.
Вилецкий (Велецкий) Евгений Сергеевич (1895—?), 1-й помощник капитана парохода «Глеб Бокий» 163.
Вильгельм II, Карл-Павел-Генрих-Фридрих (1848—1927), король Вюртенбергский с 1891 г. 23.
Вилькицкий Борис Андреевич (1885—1961), гидрограф, геодезист 50, 77.
Вильяме Петр Владимирович (1902—1947), живописец и театральный художник 270.
Виля, дядя автора книги, см. Виттенбург Вильгельм Владимирович.
Виноградов Б.С., зоолог 78.
Винокуров Иван Николаевич, советский государственный и политический деятель 84, 86.
Вирсаладзе Симон Багратионович (1908/1909—1989), театральный художник 273.
Виттенбург Адольф, брат Вольдемера-Карла Виттенбурга И.
Виттенбург Александр-Михаил Владимирович (1885—?) 14, 16.
Виттенбург Ванда Владимировна, см. Армфельт В.В.
Виттенбург Виктория Владимировна, см. Блинк В.В.
Виттенбург Вильгельм-Александр Сергеевич, сын С.К. Виттенбурга 15, 379.
Виттенбург Вильям-Богомил Владимирович (Вильгельм Владимирович) (1882—1947), врач, профессор, доктор медицины 16, 69, 111, 113, 158, 242, 244—249.
Виттенбург Владимир Вильгельмович (1915—1942), сын Вильгельма Владимировича Виттенбурга, зоолог ИЗ, 158, 242, 245, 247, 248.
Виттенбург, фон Вольдемар-Карл (Владимир Иванович) (1840—1895), почтово-телеграфный служащий 11—14.
Виттенбург Елена Владимировна, см. Шуман-Делакроа Е.В.
Виттенбург Елизавета-Мария Владимировна (1877—1912) 16, 32.
Виттенбург Карин Александровна (урожд. Армфельт, по 1-му мужу Бородов-ская) (1897—?), 2-я жена С.К. Виттенбурга 15.
Виттенбург Каролина-Луиза Владимировна, см. Мейссель К.-Л.В.
Виттенбург Мария Ивановна (урожд. Тыдельская) (1848/1849—1920), жена В.И. Виттенбурга 12-17, 32, 69, 242, 249.
Виттенбург Нина Александровна (урожд. Дуссет) (1889—1970), жена Вильгельма Владимировича Виттенбурга 16, 113, 153, 241, 244, 245, 247-249, 352, 373, 374, 379.
Виттенбург Ольга Сергеевна (до удочерения С.К. Виттенбургом — Бородовская) 15.
Виттенбург Сергей Карлович (1872—1921), военно-морской врач 15, 16, 112, 379.
Виттенбург Фрида Александровна (урожд. Армфельт), 1-я жена С.К. Виттенбурга 15.
Вишня Остап (Губенко Павел Михайлович) (1889—1950), украинский писатель 249.
Вознесенский Александр Алексеевич (1898—1950), экономист, ректор ЛГУ, министр просвещения РСФСР 315, 320.
Волгин Вячеслав Петрович (1879—1962), историк, академик 117.
Воллосович Константин Адамович (1869—1919), геолог 43, 68, 74, 132, 366.
Волошин Максимилиан Александрович (1877—1932), поэт, художник 28.
Вольф-Израиль Евгения Михайловна (1897—1975), актриса Александрийского театра 238.
Воробьев Виктор Иванович, геолог, погиб на Кавказе в 1910-е гг. 60, 66.
Воробьева Е.С., кухарка, участница экспедиции на Северный Мурман в 1920 г. 54.
Воронин Владимир Иванович (1890—1952), капитан ледокольного флота 191.
Воронов Ефим Павлович, зав. отделом научных учреждений СНК СССР в конце 1920-х гг. 117.
Врангель Фердинанд Петрович (1796—1870), мореплаватель, адмирал, почетный член АН 30.
Вылка Василий, ненец о. Вайгач 165, 174.
Вылка Степан, ненец о. Вайгач 165.
Вылка, ненецкая семья о. Вайгач 165.
Вышинский Андрей Януарьевич (1883—1954), юрист, академик, зам. прокурора и прокурор СССР в 1933-1939 гг. 117.
Гайдн Франц Иосиф (1782—1809), австрийский композитор 79, 359.
Гаккель Яков Яковлевич (1901—1965), океанограф, доктор географических наук, профессор 359.
Галич Любовь Федоровна (1903—1992), искусствовед, музейный работник 371.
Гальперин Давид Самойлович (1883—1956), химик, доктор наук, профессор, заключенный Вайгачской экспедиции ОГПУ в 1931—1934 гг. 180.
Гвоздюкова Таисия, школьная подруга автора книги 251.
Геккер Роман Федорович (1900—1991), палеонтолог, палеобиолог, стратиграф, доктор биологических наук 50, 87, 88, 111, 140, 340, 358.
Геннерт Анна Алексеевна (?-1942), художница 63, 79, 97,100,123, 257, 258, 298.
Герасимов Иннокентий Петрович (1905—1982), географ, почвовед, академик 138.
Герб Рихард, ректор Тюбингенского университета (Германия) 23.
Гесмин Г., художник 100.
Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель 162.
Гефнер Галя, студентка ЛИСИ, подруга Вероники П. Виттенбург 284.
Глазунов Александр Константинович (1865—1936), композитор, дирижер, профессор 89.
Глинка Михаил Иванович (1804—1857), композитор 298.
Глуздовский Василий Ефимович (1887—1934), географ, краевед, педагог 22, 69.
Глумов Александр Николаевич (1901—1972), артист московских театров 239.
Гоголев Степан Филиппович, временный представитель Якутии в Президиуме ВЦИК СССР в 1929 г. 141-143.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), писатель 25, 242.
Головин Александр Яковлевич (1863—1930), живописец и театральный художник 238.
Голубев А.А., полярник, зимовал в 1936 г. на Северной Земле, м. Оловянный 192.
Гольдони Карло (1707—1793), итальянский драматург 169.
Гомберг Элеонора Петровна, искусствовед, профессор, кандидат искусствоведческих наук 315.
Горбунов Николай Петрович (1892—1938), государственный деятель, химик, член-корреспондент АН 117, 128.
Гореченков Павел, комсорг, зимовщик на полярной станции м. Стерлегова в 1936— 1938 гг. 220.
Городков Борис Николаевич (1860—1953), геоботаник, профессор, доктор биологических наук 67, 371.
Городкова (Селиванова) Елена Александровна (1902—197?), геоботаник, жена Б.Н. Городкова 271.
Горохов Василий (?—1902/1903), якут, спутник Э.В. Толля в походе на о. Беннега 132.
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868—1936), писатель 59, 164, 179.
Гохнадель Виктор Иванович (1949 г.р.), историк 8, 40.
Грибанов Николай Николаевич, климатолог 334.
Григ Эдвард (1843—1907), норвежский композитор, пианист 66, 102, 127, 179, 239, 240.
Григорьев А.А., геолог 138.
Гримм, братья — Якоб (1785—1863), Вильгельм (1786—1859), немецкие филологи, фольклористы ,79.
Громов Михаил Михайлович (1899—1985), летчик, генерал-полковник авиации 204, 223.
Гросман Леонид, писатель 237.
Грюнбуш Казимир Федорович, учитель 92, 93, 135.
Грюнбуш Люля, см. Коломийцева И.В.
Грюнбуш София Романовна, жена К.Ф. Грюнбуша 135.
Грюнбуш Эдита Казимировна, см. Коломийцева Э.К.
Гуль Адольф, норвежский геолог, исследователь о. Шпицберген 35, 125.
Гуревич Евсей Наумович, аптекарь поселков Лахта и Ольгино 48.
Гурский Константин Петрович (1911 г.р.), летчик, заключенный Вайгачской экспедиции ОГПУ 160.
Гурьев, зубной врач Вайгачской экспедиции ОГПУ 174, 179.
Гутман Р.Ю., гидролог 40.
Данилко B.C., заключенный Вайгачской экспедиции ОГПУ 168.
Дворжецкий Вацлав Янович (1910—1993), заключенный Вайгачской экспедиции ОГПУ, артист 159, 160.
Деборин Абрам Моисеевич (1881—1963), философ, академик 118.
Делакроа Валида Эрнестовна, см. Несмелова В.Э.
Делакроа Виолетта Владимировна (1940—1997), преподаватель музыки 313.
Делакроа Владимир Эрнестович, см. Шуман-Делакроа Владимир Э.
Делакроа Елена Владимировна (урожд. Виттенбург), см. Шуман-Делакроа Е.В.
Делакроа Нина Владимировна (урожд. Нехлебаева) (1899—1985), преподаватель музыки 312, 313.
Делакроа Сергей Владимирович, см. Журавлев С.В.
Делакроа Элида Владимировна, см. Реутская Э.В.
Делакроа Эрна-Елена Эрнестовна, см. Шеншина Э.Э.
Делакроа Эрнест Владимирович, см. Шуман-Делакроа Э.В.
Дельмас (Андреева-Дельмас) Любовь Александровна (1884—1969), оперная певица 328.
Дембовецкий Василий Эдуардович (1883—?), преподаватель античной литературы в Карело-Финском университете (Петрозаводск) 297.
Демидов, сотрудник ГГУ ГУСМП 223.
Деньгин Юрий Павлович (1899—1965), геолог, петрограф, кандидат геолого-минералогических наук 358, 363.
Дерюгин Константин Михайлович (1878—1938), зоолог, гидробиолог, профессор 54.
Дибнер Виталий Давидович (1918 г.р.), геолог, доктор геолого-минералогических наук 376.
Дикий Павел Михайлович, художник 148.
Диккенс Чарльз (1812—1870), английский писатель 79.
Дицкалн Алексей Федорович (Теодорович) (1894—1947), начальник Вайгачской экспедиции ОГПУ в 1932-1934 гг. 160, 168, 178.
Дицкалн Галина Сергеевна, жена А.Ф. Дицкална 180.
Доброклонский Михаил Васильевич (1886—1964), профессор, доктор искусствоведения, зав. отделом графики Эрмитажа, член-корреспондент АН 315.
Дон Татьяна Павловна (1890—?), секретарь Геологического музея и Якутской комиссии АН 58, 371.
Досманова Ольга Петровна (1886—?), биолог, почвовед, сотрудник Лахтинской экскурсионной станции 51.
Достоевский Андрей Андреевич (1863—1933), секретарь канцелярии Императорского Географического общества 30.
Дремлкж Валентин Валентинович, доцент кафедры физической географии Арктики БАМУ им. С.О. Макарова 336.
Дубилет Соломон Яковлевич (1904—1941), концертмейстер оркестра Театра оперы и балета им. С.М. Кирова 269-274, 276, 277.
Дункан Айседора (1877—1927), американская танцовщица 243.
Дуссет Нина Александровна, см. Виттенбург Н.А.
Дьюи Джон (1859—1952), американский профессор, философ, создатель педоцен-трической методики обучения 146.
Дьяконов Николай, каюр экспедиции Э.В. Толля на о. Беннета в 1902 г. 132.
Евгенов Николай Иванович (1888—1964), гидрограф, океанограф, один из открывателей Северной Земли 127, 326.
Еланская Клавдия Николаевна (1898—1972), актриса МХАТа 238.
Елизавета Маврикиевна (1865—1927), великая княгиня, жена К.Р., президента АН 38.
Енукидзе Авель Сафронович (1877—1937), советский государственный деятель 117.
Ерашева Нина Владимировна, педагог из Могилева, аспирантка П.В. Виттенбурга 360.
Ермолаев Михаил Михайлович (1905—1991), полярный геолог-географ, доктор геолого-минералогических наук, профессор 62, 311, 376.
Ермолаева Мария Эммануиловна, жена М.М. Ермолаева 311.
Ермолова Мария Николаевна (1853—1928), актриса московского Малого театра 79, 299, 314.
Ершов Иван Васильевич (1867—1943), солист оперы Театра оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский театр) 239.
Ефимова Мирослава Игоревна, кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева во Владивостоке 33.
Ефимова Таисия Львовна (1886—?), биолог, географ, болотовед, сотрудница Лахтинской экскурсионной станции в 1920-е гг. 51, 80, 81.
Жданко Михаил Ефимович (1855—1921), гидрограф, исследователь Тихоокеанского бассейна 54, 56.
Жилин Николай Лукианович (1913—?), народный художник Республики Коми 295, 326.
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), поэт 25.
Журавлев Дмитрий Николаевич (1900—1991), актер, мастер художественного слова 239.
Журавлев Сергей Владимирович (урожд. Шуман-Делакроа) (1928 г.р.), организатор игровых видов спорта, вице-президент Российской федерации баскетбола 313, 380.
Забела-Врубель Надежда Ивановна (1868—1913), певица 25.
Заболотный Даниил Кириллович (1866—1929), микробиолог, академик 48.
Загорская Наталья Юрьевна (Георгиевна), геолог, кандидат геолого-минералогических наук 366.
Залкинд Иван Абрамович (1885—1928), представитель НКИД в Ленинграде, преподаватель ЛГУ, член Тихоокеанского комитета АН (1927—1928) 120.
Заппер К., географ, профессор Тюбингенского университета (Германия) 20.
Зееберг Фридрих Георгиевич (1872—1902/1903), астроном, метеоролог, член полярной экспедиции Э.В. Толля 132.
Зеленина Маргарита Николаевна (1877—?), дочь М.Н. Ермоловой 79, 102, 124, 125, 255, 299, 314.
Земляков Борис Федорович (1898—?), геолог, археолог 51, 63, 70, 71, 73.
Золотарев, член Комиссии по научным экспедициям АН в 1921—1922 гг. 67.
Зоричева Августа Ивановна, геолог 311.
Зубов Николай Николаевич (1885—1960), доктор географических наук 339-341.
Зюкаша, см. Безруких З.П.
Ибсен Генрик (1828—1906), норвежский драматург 239.
Иванов П.П. (возможно, Павел Павлович, 1883 г.р., горный инженер в 1934 г.), геолог, профессор, доктор геолого-минералогических наук 70.
Иванова Валентина Николаевна, жена зимовщика полярной станции м. Стерлегова в 1936-1938 гг. 213.
Иванова Е.К., научный сотрудник Полярного отдела Геологического музея АН 73.
Иешин Н.П., председатель объединения молодых краеведов в 1928 г. 145.
Иордан Ольга Генриховна (1907—1971), солистка Театра оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский театр) 239.
Исаков Сергей Константинович (1875—1953), профессор истории искусства в ЛГУ и Академии художеств, критик, музейный деятель 315.
Каган Моисей Самойлович (1921 г.р.), доктор философских наук, профессор 315, 331.
Кайгородов Дмитрий Никифооович (1846—1924), профессор, фенолог, орнитолог 44, 51, 64, 70.
Калесник Станислав Викентьевич (1901—1977), геолог, географ, академик, президент Географического общества СССР (1964-1977) 147, 346.
Калинин Михаил Иванович (1875—1946), советский государственный деятель 89, 90, 129.
Кальман Имре (1882—1953), венгерский композитор 183.
Каменев Сергей Сергеевич (1881—1936),советский и партийный государственный деятель 133.
Каменский Александр Данилович (1900—1952), пианист, профессор 239.
Каминский Яков Иосифович (1899—1996), врач, доцент, заключенный в Ухтпечлаге 245.
Капица Петр Леонидович (1894-1984), физик, академик, лауреат Нобелевской премии 379.
Каплун Адриан Владимирович, художник 123.
Каргер Михаил Константинович (1903—1977), профессор кафедры истории искусства ЛГУ, доктор искусствоведения 315, 331.
Карпинский Александр Петрович (1846—1936), геолог, президент АН (1917—1936) 36, 46, 47, 54, 57, 71, 84, 90, 100, 127, 128, 190, 295, 347, 365.
Кафтанов Сергей Васильевич (1905—1978), министр высшего образования СССР (1946-1951) 336.
Кашкин Ю.В., инженер, гидротехник 36.
Келль Николай Георгиевич (1883—1965), геолог, геодезист, профессор, член-корреспондент АН 121.
Керцелли 53.
Кинд Мария Германовна, см. Пригожина М.Г
Киреева Евгения Андреевна, геолог 290-293, 295, 319, 320, 359, 361, 362.
Кирилловна, см. Акимова Е.К.
Киров (Костриков) Сергей Миронович (1866—1934), 1-й секретарь Ленинградского ОК ВКП(б) с 1926 г. 183, 220, 364.
Клемперер Отто (1885—1973), немецкий дирижер, композитор 238.
Клыков Константин Дмитриевич (1890—?), горный инженер, заключенный Вай-гачской экспедиции ОГПУ 173, 266.
Клыкова Елена Константиновна, дочь К.Д. Клыкова 175, 176.
Клыкова Людмила Николаевна, жена К.Д. Клыкова 173.
Книпович Николай Михайлович (1862—1939), зоолог, академик 54, 128.
Князев Георгий Алексеевич (1887—1969), директор архива АН 365.
Ковалева А.И., служащая Лахтинской экскурсионной станции в 1920-е гг. 145.
Кокен Э. (?—1912), геолог, профессор Тюбингенского университета (Германия) 21.
Кокорев Иван А., чекист, зам. начальника лагеря Вайгачской экспедиции ОГПУ (1932-1933) 163, 180.
Кокорева Галина, дочь И.А. Кокорева 163.
Кокшарский Григорий, якут, врач, скрипач 85.
Колбин В.В., заключенный, член полевой партии П.В. Виттенбурга на о. Вайгач 168.
Коломийцева Ирина Владимировна (1916—1990), педагог, внучка К.Ф. Грюнбуша 95, 98, 135.
Коломийцева Эдита Казимировна (?—1942), педагог, дочь К.Ф. Грюнбуша 135.
Колпакова Тамара Александровна (1893—1980), микробиолог, кандидат медицинских наук 85,102,135,172, 187,195,198, 204, 209, 235, 249, 250, 270, 272, 284, 304, 309, 318, 326, 347.
Колчак Александр Васильевич (1874—1920), военачальник, адмирал, гидролог, полярный исследователь 68, 344.
Колчина Анна Григорьевна, геофизик 358.
Комаров Владимир Леонтьевич (1869—1945), ботаник, академик, президент АН СССР (1936-1945) 44, 84, 87, 118, 120, 121, 130, 137, 141-143, 377.
Конашевич Владимир Михайлович (1888—1963), художник-график 81.
Кони Анатолий Федорович (1844—1927), юрист, общественный деятель, литератор, почетный член АН 43.
Константин Константинович (1858—1915), великий князь, писатель, президент АН с 1889 г. 36.
Коншин, начальник полярной станции на м. Оловянный Северной Земли (1937) 191.
Коржуев С.С., географ 138.
Корнилов М. 136
Космачев К.П., географ 138.
Косыгин Алексей Николаевич (1904—1980), председатель Совета министров СССР (1964-1980) 363.
Кох Лауте, датский исследователь Гренландии, геолог, картограф 74.
Кошечкин Борис Иванович, географ, кандидат географических наук, основатель Музея истории и освоения Европейского Севера (Апатиты, 1974) 376.
Кошкин В.Н., географ, начальник Таймырской комплексной экспедиции 217.
Кравков Сергей Павлович (1873—?), почвовед, агрохимик, геолог, участник краеведческого движения 1920-х гг. 44.
Кравченко Г.А., заключенный, член полевой партии П.В. Виттенбурга на о. Вайгач в 1932 г. 168.
Крейтер Владимир Михайлович (1897—1966), доктор геологических наук, профессор 296.
Кремер Борис Александрович, метеоролог, полярник 192, 214.
Кренкель Эрнст Теодорович (1903—1971), географ, полярник 130, 191, 204.
Кретнева Нина, однокурсница Е.П. Виттенбург в Карело-Финском университете 298.
Кржижановский Глеб Максимилианович (1872—1959), энергетик, член президиума ВСНХ, председатель Госплана, вице-президент АН СССР 118.
Криштофович Африкан Николаевич (1885—1953), палеоботаник, географ, геолог, член-корреспондент АН 39, 69, 121.
Крузенштерн Иван Федорович (1770—1846), мореплаватель, адмирал 30.
Крыжановский Владимир Ильич (1881—1947), геолог, минералог 110.
Кузнецов А.А., начальник ГУСМП 336, 338.
Кузнецов А.С., зам. начальника экспедиции на Северный Мурман (1920) 54.
Кузнецов Александр Степанович, художник 227, 291.
Кузнецов Григорий Моисеевич, каюр Северо-Западной Таймырской экспедиции (1936-1938) 193, 195-203, 210, 212, 218, 224, 228-231.
Кузнецов Е.А., доктор геологических наук 296.
Кузнецов И.А., биолог 213.
Кузнецов С.С. (возможно, Сергей Сергеевич 1892 г.р., геолог, стратиграф, гидрогеолог на 1934 г.), профессор, зав. кафедрой в ЛГУ (1950-е) 362.
Кузьмин П.К., начальник СГГУ (1940) 263.
Кузьмина Н.М., инженер-геолог, участник экспедиции на Северный Мурман (1920) 54.
Куинджи Архип Иванович (1841—1910), живописец 243.
Куйбышев Валериан Владимирович (1888—1935), советский государственный и политический деятель 134.
Куклина А.А., завхоз, участница экспедиции на Северный Мурман (1920) 54.
Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), писатель, поэт, драматург 298.
Кулик Нестор Алексеевич (1886—?), геолог, палеонтолог, стратиграф, исследователь Арктики 53, 67.
Курбатов Владимир Яковлевич (1874[1878?]—1958), физик, краевед, профессор 44.
Курнаков Николай Семенович (1860—1941), химик, академик 78.
Курочкин Григорий Данилович, геолог-разведчик, участник экспедиции на Северо-Западный Таймыр (1936) 193, 194.
Кучин А.С., капитан судна «Геркулес» 231.
Кюи Цезарь Антонович (1835—1918), композитор 27.
Кюри (Склодовская-Кюри) Мария (1867—1934), физик, жена П. Кюри 180.
Кюри Пьер (1859—1906), французский физик, открыватель радиоактивности 180.
Кяйвяряйнен Иван Иванович (1912—1996), профессор истории Петрозаводского университета 298.
Кяйвяряйнен Мария Александровна (урожд. Мадьянова) (1920—1999), филолог, жена И.И, Кяйвяряйнена 298.
Лаврентьев Аким Антонович, парторг, врач полярной станции на м. Стерлегова и Северо-Западной Таймырской экспедиции (1936—1938) 193, 218, 220, 221, 225, 228, 229.
Лаврова Мария Алексеевна (1887—после 1969), геолог, профессор, доктор геолого-минералогических наук 54, 55, 57, 60, 73, 75.
Лавровский Леонид Михайлович (1905—1967), балетмейстер 270.
Лактионов Александр Федорович (1899—1965), полярник, начальник отдела географии и истории Арктики НИИ Арктики 316.
Лебединцев, гл. инженер Вайгачской экспедиции Главсевморпути (1940—1941) 269.
Леваневский Сигизмунд Александрович (1902—1937), полярный летчик 204.
Левинсон-Лессинг Владимир Францевич (1893—1972), доктор искусствоведения, профессор 315.
Левинсон-Лессинг Франц Юльевич (1861—1939), геолог, минералог, петрограф, член-корреспондент АН 84, 87, 88, 118, 140.
Левитан Юрий Борисович (1914—1983), диктор Всесоюзного радио 273.
Левский Виталий Петрович, инженер-геолог Северо-Западной Таймырской экспедиции (1937-1938) 194, 203, 206, 217, 221, 222, 228, 232, 291.
Лежоев Владимир Константинович (1912—?), геолог, 1-й муж Вероники П. Вит-тенбург 102, 147, 153, 154, 187.
Лежоева Екатерина Михайловна, мать В.К. Лежоева 153, 236, 272.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт 238.
Лесгафт Мария Алексеевна, жена Э.Ф. Лесгафта 318.
Лесгафт Петр Францевич (1837—1909), врач, анатом, педагог 318.
Лесгафт Эмилий Францевич (1870—1922), гидролог, метеоролог, профессор 318.
Ливеровский Александр Васильевич (1867—1951), строитель, грунтовед, профессор, министр путей сообщения Временного правительства, зам. директора Института мерзловедения АН 160.
Лидваль Федор Иванович (1870—1945), архитектор, с 1918 г. в Швеции 188.
Лист Ференц (1811—1886), венгерский композитор, пианист, дирижер 239.
Литгольм И.А., геолог 57.
Литке Федор Петрович (1797—1882), мореплаватель, географ, адмирал 30.
Лихачев Николай Петрович (1862—1936), историк, палеограф, искусствовед, академик 155.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765), ученый-энциклопедист 43.
Лондон Джек (Джон Гриффит) (1876—1916), американский писатель 80, 162.
Лопе де Вега (Вега Карпьо Лопе Феликс де) (1562—1635), испанский драматург 300.
Лосский Владимир Аполлонович (1874—1946), певец, режиссер, педагог 273.
Лукашевич Иосиф Дементьевич (1863—1928), геолог 40.
Лукреций (Тит Лукреций Кар), римский поэт и философ I в. до н.э. 349.
Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933), советский государственный и политический деятель 90.
Лунин Игорь Константинович, муж Н.И. Разумихиной 30, 49.
Лунин Ростислав Игоревич (1911—?), сын Н.И. Луниной 49.
Лунина Наталия Ивановна (урожд. Разумихина) (1886—1965), жена И.К. Лунина 25-28, 35, 49, 58, 370.
Лысенко Борис Сергеевич, чекист 188, 240, 250, 270, 315.
Любимова Екатерина Васильевна (1917 г.р.), геолог 374.
Люля, см. Коломийцева И.В.
Лядов Анатолий Константинович (1855—1914), композитор, дирижер 27.
Ляхницкая Екатерина Валериановна (1922 г.р.), инженер-кораблестроитель 303, 304, 306, 307, 315.
Ляхницкий Валериан Евгеньевич (1885—1960), инженер-мостостроитель, академик Академии строительства и архитектуры, профессор 49, 306, 309.
Ляхова Людмила Ефимовна (1942 г.р.), няня, помощница по хозяйству у П.В.Виттенбурга 354.
Мадьянова Муся, см. Кяйвяряйнен М.А.
Майков М.Н., поэт 43.
Макаров, сотрудник ГУСМП 211.
Макаров И.А., заключенный, член полевой партии П.В. Виттенбурга на о. Вайгач в 1932 г. 168.
Макаров Степан Осипович (1848—1904), флотоводец, вице-адмирал, ученый 323, 325, 377.
Маковский Сергей Константинович (1877—1962), художественный критик, поэт, издатель журнала «Аполлон» 341.
Максимов Игорь Владимирович, гидролог, доцент БАМУ им. С.О. Макарова 335-337.
Малаховский Аркадий Викентьевич (1907—199?), заключенный в Вайгачской экспедиции и коллектор в Северо-Западной Таймырской экспедиции 160, 193, 195, 203, 205-209, 212, 213, 221, 222, 226, 229.
Мальмгрен Финн (1895—1928), шведский геофизик, полярный исследователь 108, 109, 127.
Мамонтов Савва Иванович (1841—1918), промышленник, меценат 25.
Манн Анна Власьевна (Аннушка, она же Бабенька) прислуга в семье Виттенбургов (1910-1920-е) 30, 35, 78, 79, 92, 93,100,101,104,113,148,154,156, 282, 283.
Манн Анна Юрьевна, кассир Лахтинской экскурсионной станции, портниха, дочь А.В. Манн 145, 283.
Маргарита Николаевна, см. Зеленина М.Н.
Марго, см. Мейсель М.
Мария Васильевна, см. Шеншина М.В.
Марков М.Г., капитан ледокольного парохода «Сибиряков» 191.
Марр Ю.Н., руководитель экспедиции в Иран (1924) и в Туркестан (1924) 78.
Мартынов А.В. 78.
Масленников Борис Георгиевич, гидрограф, автор книги «Морская карта рассказывает» 33, 365, 366.
Матюшин Михаил Васильевич (1861—1934), художник, музыкант 63—65, 357, 380.
Махоткин Василий Михайлович (1904—1972), полярный летчик 199, 205, 210, 211, 214, 228, 229, 266.
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940), театральный режиссер 238.
Мейсель, см. Шмунк
Мейссель Ирина Фридриховна, см. Снегуровская Ирина
Мейссель Каролина-Луиза Владимировна (урожд. Виттенбург) (1879—1920) 16.
Мейссель Марго-Генриетта-Елизавета (Марго Фридриховна) (1905—?), дочь Каролины-Луизы Мейсель 16, 69, 158, 241, 248.
Мейссель Фридрих-Карл-Вальтер, кандидат прав, муж Каролины-Луизы Виттенбург 16.
Мекк фон Надежда Филаретовна (1831—1894), меценат 319.
Мелешко Василий Павлович, гидролог, доцент, начальник БАМУ им. С.О. Макарова (1940-1950) 325, 338.
Мельников Александр Васильевич, геолог, работал в Якутии 137, 138, 366, 376.
Мельцер Роберт Фридрих (Роман Федорович) (1860—1943), архитектор-художник, с 1918 г. в эмиграции 162.
Мехреньгин Николай Григорьевич, механик, полярник, зимовавший на м. Оловянный Северной Земли 191.
Мещанинов Федор Павлович, повар Северо-Западной Таймырской экспедиции (1937-1938) 194, 219, 221, 228.
Мибиель Иоганн, столярных дел мастер, дедушка З.И. Виттенбург 24.
Микал, вольнонаемный врач на руднике полуострова Раздельный Вайгачской экспедиции ОГПУ (1932-1935) 174.
Милютин Владимир Павлович (1884—1937), политический деятель, экономист, председатель Ученого совета при ЦИК СССР (с 1934) 117.
Митропольская Нина Константиновна, студентка, дочь К.Д. Митропольского 313.
Митропольский Константин Дмитриевич (1893—1983), кандидат педагогических наук, ректор Карело-Финского (Петрозаводского) университета (1941—1945) 305, 306, 313.
Миттельман Савелий Яковлевич, геолог 261.
Михаилов А., зам. министра высшего образования в послевоенные годы 337.
Михайлов И.И., деятель краеведческого движения (1920-е) 44.
Михайлов Николай Васильевич, историк, краевед, кандидат исторических наук 10, 82, 104, 105.
Михоэлс (Вовси) Соломон Михайлович (1890—1948), актер, режиссер 341.
Молас Борис Николаевич, юрист, музеевед 105.
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890—1948), советский партийный и государственный деятель 221, 278.
Молчанов Павел Александрович (1893—?), метеоролог, геофизик, директор Института аэрологии ГГО, изобретатель радиозонда 130.
Морозов Николай Александрович (1854—1946), революционер-народник, ученый, почетный член АН 47.
Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791), австрийский композитор 358, 359.
Мравинский Евгений Александрович (1903—1988), главный дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра Ленинградской филармонии 239.
Мурадели Вано Ильич (1908—1970), композитор 332.
Мухина Вера Игнатьевна (1889—1953), скульптор 258.
Наливкин Дмитрий Васильевич (1889—1982), геолог, палеонтолог, академик 318.
Нансен Фритьоф (1861—1982), норвежский исследователь Арктики, политический деятель 77, 107, 127-129, 320, 321, 323, 360, 365.
Нансен-Хейбер Ли, дочь Ф. Нансена 107.
Наталия Петровна, см. Серебренникова Н.П.
Наташа, подруга Е.П. Виттенбург, см. Бирагова Н.Т.
Наташа, см. Сапрыкина Н.Н.
Нейгауз Генрих Густавович (1888—1964), пианист 239.
Непорожнева Вера Михайловна, деятельница краеведческого движения (1920-е) 122.
Несмелов Никита Сергеевич (1935 г.р.), инженер-строитель мостов и тоннелей, искусствовед, доцент, сын В.Э. Несмеловой 108, 109, 380.
Несмелов Сергей Васильевич (1894—1973), механик-оптик, муж В.Э. Несмеловой 356, 357.
Несмелова Валида Эрнестовна (Ванда-Эдит-Валида, урожд. Шуман-Делакроа) (1899-1972), радист, художник 19, 108, 109, 112, 356, 357, 375, 380.
Нестеров Леонид Яковлевич (1903—?), горный инженер, директор ВСЕГЕИ (1950-е) 346.
Нестерова Анна (1920—?), няня в семье Н.М. Сапрыкина 310
Нехлебаева-Делакроа Нина Владимировна, см. Делакроа Н.В.
Нехорошева-Болтаева А.В., внучка А.П. Карпинского 347.
Никита, сын Валиды, см. Несмелов Н.С.
Никифорова Ольга Ивановна (1905—1994), геолог, палеонтолог 318. Николай II (1868—1918), император 28, 34. Николай Михайлович (1859—1919), великий князь, историк 30. Никольские, семья 272.
Нобиле Умберто (1885—1978), итальянский дирежаблестроитель, летчик, полярный исследователь, генерал 126, 127. Новиков Иван Александрович (1877—1959), писатель 222.
Оборин Лев Николаевич (1907—1974), пианист, профессор 239.
Обручев Владимир Афанасьевич (1863—1956), геолог и географ, академик 339, 343, 344.
Обухова Надежда Андреевна (1886—1961), певица 300.
Овчинников, капитан парохода «Унжа» 314.
Огнев Г.Н., геолог 362.
Ознобишин Дмитрий Васильевич, ученый секретарь издательства АН по разделу научно-популярной литературы (1950-е) 340, 341.
Ойстрах Давид Федорович (1908—1974), скрипач, профессор 239.
Окладников Александр Павлович (1908—1981), археолог, историк и этнограф, академик 33.
Окунь Семен Бенецианович (1908—1972), историк, профессор, зам. декана исторического факультета ЛГУ 313.
Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934), востоковед, академик, непременный секретарь АН (1904-1929) 42, 44, 46, 60, 67, 68, 77, 83, 84, 89, 90, 105, 110, 116, 117, 119, 120, 130, 140.
Орбели Иосиф Абгарович (1887—1961), востоковед, академик 315.
Орловский П.В., гидрограф 198.
Оссендовский A.M., геолог 33.
Остальцев Ананий Владимирович (?—1945), полярник, начальник полярной станции Югорский Шар (1933—1934), позднее один из руководителей ГУСМП 182, 187.
Островский Александр Николаевич (1823—1886), драматург 219.
Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871—1955), художник-график 284.
Оффенбах Жак (Эбершт Якоб) (1819—1880), французский композитор и дирижер 126.
Павловский Евгений Никанорович (1884—1965), паразитолог, академик, президент Географического общества СССР (1952-1964) 340.
Падеревский Р.И., владелец фотоателье в Харькове 27.
Пазовский Арий Моисеевич (1887—1953), дирижер и художественный руководитель Театра оперы и балета им. С.М. Кирова в предвоенные годы 270, 273.
Панов Дмитрий Геннадьевич, геолог, доктор геолого-минералогических наук 147, 334.
Папанин Иван Дмитриевич (1894—1986), полярник, начальник Главсевморпути (1939-1946) 204, 289.
Парманина Наталия Тихоновна, см. Бирагова Н.Т. 277.
Пархоменко С., краевед, этнограф 145.
Перчёнок Феликс Федорович (1903—1993), педагог, историк науки 8, 90, 134, 137, 141.
Пестинский Борис Владимирович (1903—1943), художник, зоолог Лахтинской экскурсионной станции 72, 102, 145, 147, 148.
Петр I (1672-1725), император 149.
Печковский Николай Константинович (1896—1966), певец, солист Театра оперы и балета им. С.М. Кирова 270, 371.
Пешков Максим Алексеевич (1896—1934), сын М. Горького, дипломатический курьер, сотрудник ОГПУ 164.
Пешкова Екатерина Павловна (урожд. Волжина) (1876—1965), жена М. Горького, руководитель Политического Красного Креста 154.
Пинегин Николай Васильевич (1883—1940), полярный исследователь, художник 62, 119, 130.
Платонов Сергей Федорович (1860—1933), историк, академик 51, 151.
Повлодзинский Л.М., начальник полярной станции на м. Стерлегова (1937—1938) 193, 221.
Покровский Михаил Николаевич (1868—1932), историк-марксист, академик 110, 117, 133, 134.
Полеводин М.Х., поручик, участник экспедиции П.В. Витгенбурга в Уссурийском крае (1908) 22.
Полищук Иван Сергеевич, заключенный врач Вайгачской экспедиции ОПТУ 173.
Полканов Александр Алексеевич (1888—1963), геолог-петрограф, академик 57.
Полынов Николай Борисович (1873—1939), адвокат, муж Т.Л. Щепкиной-Куперник 63, 123, 124, 254, 255.
Полякин Мирон Борисович (1895—1941), скрипач, профессор 238, 239.
Полякова Валентина Сергеевна, сослуживица З.И. Виттенбург по Выборгскому ДК 257.
Полянский Иван Иванович, профессор, один из организаторов краеведческого движения 1920-х гг. 44.
Попов, боцман экспедиции В.А. Русанова 230.
Постников Виктор Гаврилович (1897—1957), художник-график 295.
Похитонов Даниил Ильич (1878—1957), дирижер, профессор 273.
Пригожина (Кинд) Мария Германовна (1902—1995), инженер-химик 371, 373, 374.
Принада Василий Дмитриевич, геолог, палеоботаник 69.
Приходко С.К., таксидермист Зоологического музея АН и Лахтинской экскурсионной станции 147.
Прокофьев Сергей Сергеевич (1883—1953), композитор 270.
Прохоренко Наталия Сергеевна, архивист 10.
Прудкин Марк Исаакович (1898-1994), актер МХАТа 238.
Пузино Вольдемар (1924—?), мл. сын Н.И. Рааумихиной 370.
Пунин Николай Николаевич (1888—1953), искусствовед 315, 331, 332, 334.
Пуриков Н.И., заключенный, член полевой партии П.В. Виттенбурга на о. Вайгач в 1932 г. 168.
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), поэт 25, 222, 236, 237, 250.
Пушков Венедикт Венедиктович (1896—1971), композитор, профессор 331.
Рабинович, хирург больницы скорой помощи в 1920-е гг. 115.
Рабинович Наум Герцович, врач-кардиолог 357.
Рабо Шарль (1856—1944), французский географ-путешественник, участник экспедиции в Северную Норвегию и на о. Шпицберген 77.
Радзеевский Виктор Алексеевич (1910—1944), капитан гидрографического судна «Торос» 196, 197, 199, 203, 226.
Радзивилловский Александр Павлович (Израиль Моисеевич) (1904—1940), следователь ОГПУ, член комиссии по чистке АН (1929-1931) 150, 152.
Раевский Н.В., ученый секретарь Постоянной комиссии по научным экспедициям АН 139, 152.
Разумихин Александр Иванович, действительный статский советник, прадедушка Е.П. Виттенбург 24.
Разумихин Иван Александрович (1853—1921), инженер путей сообщения, дедушка Е.П. Виттенбург 24-27, 37, 41, 48, 58.
Разумихина Анна Львовна (Берта-Анна-Мария, урожд. Шмунк) (1849—1922), бабушка Е.П. Виттенбург 24-30, 37, 48, 58.
Разумихина Елизавета Ивановна (Бенигна-Доротея-Елизавета, урожд. Мибиель), прабабушка Е.П. Виттенбург 24, 28.
Разумихина Наталия Ивановна, см. Лунина Н.И.
Раков Г., начальник Вайгачской экспедиции Главсевморпути (1940—1941) 264.
Раков Лев Львович (1904—1972), историк, кандидат исторических наук 369.
Ратманов Георгий Ефимович (1900—1940), гидролог, океанограф 268.
Рахомяги Сергей Петрович, эстонский кино- и телережиссер 376.
Рачковский Иван Петрович (1878—?), геолог, доктор геолого-минералогических наук 46, 58.
Репин Илья Ефимович (1844—1930), художник 272, 332.
Рерих Николай Константинович (1874—1947), живописец, археолог, путешественник, писатель 256.
Реутская Элида Владимировна (урожд. Шуман-Делакроа) (1924 г.р.), преподаватель музыки 313, 380.
Ржевская Л.Ф., начальница частной женской гимназии в Москве 25.
Римский-Корсаков М.М., профессор, участник краеведческого движения 1920-х гг. 44.
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908), композитор, дирижер, профессор 27, 66, 218.
Рожвиц Р.Ю., ботаник, ст. консерватор Главного ботанического сада 51.
Рождественский Всеволод Александрович (1895—1977), поэт 127.
Розе Николай Владимирович (1890—1942), геофизик, магнитолог, профессор 127.
Ростан Эдмон (1868—1918), французский поэт и драматург 238.
Ростов Алексей, см. Сигрист С.В.
Рубан Игорь Павлович (1912-1996), художник 323, 3234.
Руденко Сергей Иванович (1885—1969), профессор, археолог, этнограф, антрополог 152.
Рудковский Борислав Фомич, геолог, докторант из Болгарии 361.
Рудовский С.Я., следователь, ст. уполномоченный 2-го отд. СОУПП ОГПУ в ЛВС 150.
Румпетер Карл Август (1849—1912), пастор евангелическо-лютеранской церкви дивизионный, проповедник Амурской и Приморской областей 17.
Русанов Владимир Александрович (1875—1913), полярный исследователь, геолог 35, 229-231.
Русвурм Иван Карлович, швед, статский советник, инженер-технолог 51.
Рыков Алексей Иванович (1881—1938), советский государственный и политический деятель 117, 140.
Рыкушина Лидия, см. Цивьян.
Рябушинский Федор Павлович (1887—1913), меценат, организатор научной экспедиции на Камчатку (1908-1910) 121.
Ряжский Георгий Георгиевич (1895—1952), живописец 345.
Салдатов П.С., начальник полярной станции на м. Стерлегова (1936—1937) 193.
Самойлович Рудольф Лазаревич (1881—1939), геолог, географ, полярный исследователь 35, 61, 68, 76, 129, 210, 213.
Самсонов Виктор Александрович (1919 г.р.), профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской Академии естественных наук 10, 245—247, 249.
Сапрыкин Дий Михайлович (1916—1981), инженер-железнодорожник, 2-й муж Вероники Павловны Виттенбург 315, 316, 329, 368, 371.
Сапрыккн Игорь Диевич (1946 г.р.), сын Вероники Павловны Сапрыкиной 329, 368, 380.
Сапрыкин Николай Михайлович (1911—1976), инженер-геофизик, муж Валентины Павловны Виттенбург 287, 288, 292, 308-310, 315, 329, 330, 349, 353, 371.
Сапрыкина Вероника Николаевна, см. Фролова В.Н.
Сапрыкина Мария Михайловна (1907—1983), административный работник, сестра Н.М. и Д.М. Сапрыкиных 329, 354.
Сапрыкина Наталия Николаевна (1943 г.р.), кандидат химических наук, художник, дочь Валентины Павловны Виттенбург 10, 297, 310, 311, 330, 349, 371, 379.
Сапрыкина Ольга Диевна, см. Школьникова О.Д.
Свердруп Отто (1855—1920), норвежский полярный исследователь, спутник Ф. Нансена в экспедиции по Гренландии, капитан «Фралга» 107.
Свитальский Николай Игнатьевич (1884—1937), геолог, петрограф, академик, вице-президент АН УССР 57.
Седов Георгий Яковлевич (1877—1914), гидрограф, полярный исследователь 35.
Семенов Влас Семенович, завхоз Лахтинской экскурсионной станции, организатор кинематографа на Лахте 66, 145.
Семенов-Тян-Шанский Вениамин Петрович (1870—1942), географ, художник-пейзажист, музеевед, член президиума ЦБК в 1920-е гг. 30, 88.
Сергеев Консантин Михайлович (1910—1992), солист балета Театра оперы и балета им. С.М. Кирова 239, 270.
Сергеева И.Е., сотрудница Лахтинской экскурсионной станции 145.
Серебренникова Наталия Петровна (?—1941?), педагог, зам. заведующего Лахтинской экскурсионной станции 66, 102, 145.
Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884—1967), художник 63
Серпухов Владимир Иванович (1899—1977), зав. кафедрой общей биологии Горного Института 362.
Сигрист (Ростов) Сергей Викторович (1897—?) 155.
Сидоров Сергей Федорович, начальник лагеря на о. Вайгач (1934—1935) 178.
Синкевич Николай Осипович, зав. хирургическим отделением Зеленогорской больницы 357.
Скотт Роберт Фолкон (1862—1912), английский исследователь Арктики и Антарктиды 106, 320, 321.
Славин Лев Исаевич (1894—?), драматург 179.
Сладкевич Всеволод Сергеевич (1904—1962), геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор 292.
Сливкова Розалия Павловна (урожд. Осипова) 293, 294.
Смайльс Самуэльс (1813—1904), английский философ и моралист 21.
Снегуровская Ирина-Леония-Каролина Фридриховна (урожд. Мейсель) (1905—?) 16, 69, 158, 241, 242, 248.
Снегуровская Нина (1935—?), дочь И.Ф. Снегуровской 242.
Собинов Леонид Витальевич (1872—1934), певец 25.
Соколов Борис Сергеевич (1914 г.р.), геолог, палеонтолог, академик 318.
Соллертинский Иван Иванович (1902—1944), музыковед, литературовед, театровед, профессор Ленинградской консерватории 239.
Соловьев Б.В., зав. экскурсионной станцией в Стрельне 92.
Соловьев Николай Матвеевич (1861—1932), общественный деятель, председатель ОИАК 32, 39, 42.
Софроницкий Владимир Владимирович (1901—1961), пианист, профессор 238.
Спиро Леонид Аронович, польский скрипач, ссыльный в Республике Коми 301.
Спиро Эстер Ароновна, польская скрипачка, ссыльная в Республике Коми 301.
Спиро Юрий Леонидович (1944 г.р.), сын Л.А. и Э.А. Спитро 301.
Спруджа B.C., заключенный, член полевой партии П.В. Виттенбурга на о. Вайгач (1932) 168.
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878—1953), советский партийный и государственный деятель 220, 222, 223, 269, 322, 332, 342, 355.
Стащенко Алексей Андреевич, радист-механик Северо-Западной Таймырской экспедиции (1936-1937) 193, 203, 205-207, 209-213, 216, 228, 230.
Стеклов Владимир Андреевич (1863/1864—1926), математик, академик 84.
Стенбок-Фермор Александр Владимирович (1873—1945), граф, владелец Лахтинского имения, снарядивший экспедицию К.А. Воллосовича на Новосибирские острова 51, 71.
Степанова Ангелина Осиповна (1905—2000), актриса МХАТа 238.
Стромин Александр (Альберт) Робертович (1902-1938), сотрудник ВЧК-ОГПУ, ст. следователь ЛенОГПУ (кон. 1920—нач. 1930-х), член комиссии по чистке АН (1929) 150.
Судковский Руфин Гаврилович (1850—1985), живописец-маринист 98.
Суханова Валентина Степановна (1924 г.р.), филолог, кандидат филологических наук 10, 294.
Суховеров И.С., повар Северо-Западной Таймырской экспедиции (1936—1937) 193, 194.
Сушкин Петр Петрович (1868—1928), зоолог, палеонтолог, академик 84.
Тамара Александровна, см. Колпакова Т.А.
Танеев Сергей Иванович (1856—1915), композитор, пианист, музыкальный теоретик, профессор 308.
Тарасова Алла Константиновна (1898—1973), актриса МХАТа 238
Тарле Евгений Викторович (1875—1955), историк, академик 102, 222, 308.
Тарновская Мария Викторовна (урожд. Тарле), сестра Е.В. Тарле 102, 308.
Татьяна Львовна, см. Щепкина-Куперник Т.Л.
Твелькмейер Виктор Федорович (1902—1954), архитектор, профессор 304.
Тереховко В., вр. и. о. зам. управляющего делами АН (1929) 142.
Тест Б.И., петрограф, сотрудник НИИАиА 260, 261.
Тетяев Михаил Михайлович (1882—1956), геолог, профессор Горного института, доктор геолого-минералогических наук 260.
Толль Эдуард Васильевич (1858—1902), геолог, гидролог, полярный исследователь 30, 68, 73, 74, 132, 197, 253, 261, 312, 320, 325, 327, 338-341, 343-345, 347, 360, 366, 376.
Толль Эммелина Николаевна, жена Э.В. Толля 74, 327. Толмачев Иннокентий Павлович (1872—1950), геолог, впоследствии эмигрант (США) 36, 46, 47, 58, 66.
Толстой Алексей Николаевич (1883—1945), писатель 80.
Трешников Алексей Федорович (1914—1991), полярный исследователь, академик 376. Троицкий Владимир Александрович, инженер-гидрограф 74, 360. Тыдельская Мария Ивановна, см. Виттенбург М.И. Тыдельская Мэри (урожд. Черч), прабабушка Е.П. Виттенбург 11. Тыдельский Вильгельм-Адольф Иванович (1849—?), горный инженер, брат М.И. Тыдельской 11.
Тыдельский Джон, лютеранский пастор, прадедушка Е.П. Виттенбург 11. Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943), писатель, литературовед 237.
Удимова Нина Иллиодоровна (1905—1968), музейный работник, библиограф научной библиотеки Академии художеств 369, 371.
Уланова Галина Сергеевна (1909/1910—1998), солистка балета Театра оперы и балета им. С.М. Кирова и Большого театра 239, 270.
Улин А.А., скульптор, впоследствии эмигрант 132.
Урванцев Николай Николаевич (1893—1985), геолог, географ, полярник, доктор геолого-минералогических наук 203, 346.
Утилов Н.С., заключенный топограф, член полевой партии П.В. Виттенбурга в Вайгачской экспедиции ОГПУ (1932) 168.
Ушаков П.Н., геолог, исследователь севера Сибири 203.
Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870), педагог 43.
Фарих Фабио Брунович (1896—1970-е), полярный летчик 176, 199, 228.
Федоров Евгений Константинович (1910—1981) геофизик, академик 204.
Федоров Евграф Степанович (1853—1919), минералог, петрограф, геолог, академик 295.
Федулов Н.А., топограф Северо-Западной Таймырской экспедиции (1936—1938) 193, 208, 220, 222, 226, 228, 229.
Федченко Борис Алексеевич (1872—1947), ботаник, профессор, один из организаторов краеведческого движения в 1920-е гг. 44.
Федюнинский Иван Иванович (1900—1977), военачальник, генерал армии 281.
Ферсман Александр Евгеньевич (1883—1945), минералог, геохимик, академик 54, 56, 68, 78, 84, 87, 110, 118, 139, 142, 151, 152, 363, 364.
Ферсман Екатерина Матвеевна, жена А.Е. Ферсмана 363.
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), поэт 112.
Фигатнер Юрий Петрович (Яков Исаакович) (1889—1937), советский ответственный работник 137, 140, 141.
Фидлер Владимир Владимирович (1911—1978), солист балета Театра оперы и балета им. С.М. Кирова 349, 352.
Фирин Семен Григорьевич (1896—1938), чекист 167.
Флеров Андрей Николаевич (1887—1932), геолог, заключенный Вайгачской экспедиции ОГПУ, умер на о. Вайгач 167.
Флиге Ирина Анатольевна, и.о. председателя историко-архивной комиссии общества «Мемориал» 159.
Флитнер Наталия Давыдовна (1879—1857), профессор, специалист по искусству Древнего Востока 315.
Фролов С.Л., художник 345.
Фролова Вероника Николаевна (урожд. Сапрыкина) (1947 г.р.), врач, дочь Валентины Павловны Сапрыкиной 380.
Халтурин Д.Н., управляющий делами правления АН 152.
Хвольсон Орест Данилович (1852—1934), физик, академик 91.
Херасков, геолог 213.
Хисамутдинов Амир Александрович, историк Дальнего Востока, кандидат исторических наук, профессор 8, 10, 40, 42.
Хмелев Николай Павлович (1901-1945), актер МХАТа 238.
Хольтедаль Олаф, норвежский исследователь Арктики, профессор 68.
Холявко Василий Матвеевич (1899—?), дьякон, заключенный Вайгачской экспедиции ОГПУ 179.
Хрущев Никита Сергеевич (1894—1971), советский партийный и государственный деятель 342, 348, 349, 355, 360, 366.
Хуль Адольф, см. Гуль А.
Целлер Ф., геолог, профессор Тюринбергского университета (Германия) 20.
Цивьян Лидия Александровна (уродж. Рыкушина) (1922-2001), врач, школьная подруга Е.П. Виттенбург 251, 284, 304.
Циммерман, семья 188.
Чабукиани Вахтанг Михайлович (1910—1992), артист балета, балетмейстер 239.
Чайковский Петр Ильич (1840-1893), композитор 237, 273, 319, 359.
Черников A.M., ученый секретарь архива АН (1960-е) 355, 366.
Чернышев Феодосии Николаевич (1856—1914), геолог и палеонтолог, академик, директор Геолкома и Геологического музея АН 22, 29, 30, 33, 38, 59, 60, 62, 107, 132, 295, 362, 363.
Честертон Гилберт Кит (1874—1936), английский писатель, религиозный философ 80.
Чехов Антон Павлович (1860—1904), писатель 25, 238.
Чехова Мария Павловна (1863—1957), сестра А.П. Чехова, учительница гимназии Л.Ф.Ржевской 25.
Чкалов Валерий Павлович (1904—1938), летчик-испытатель 223.
Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич) (1882—1969), писатель, литературный критик 65, 80, 81.
Чухновский Борис Владимирович (1898—1975), полярный летчик 134.
Шаляпин Федор Иванович (1873—1938), певец 25.
Шамахов С.А., преподаватель латинского и старославянского языков в Карело-Финском университете 297.
Шауб Василий Иванович (1834—1905), архитектор 64.
Шварц Антон Исаакович (1896—1954), артист, мастер художественного слова 239.
Швегждо Станислав Бонифатович, врач, литовец 300.
Шведе Евгений Евгеньевич (1890—1977), контр-адмирал, военный гидрограф 339-341, 356, 374.
Шевелев Марк Иванович (1904—1991), начальник управления полярной авиации, зам. начальника ГУСМП с 1939 г. 231.
Шеклтон Эрнест Генри (1874—1922), английский полярный исследователь 321.
Шемилова Маргарита Ионовна (г.р. 1922), филолог, кандидат наук 298.
Шеншин Александр Алексеевич (г.р. 1927), капитан дальнего плавания 113, 380.
Шеншин Алексей Парменович (?—1935), военный 112.
Шеншина Эрна-Елена Эрнестовна (урожд. Шуман-Делакроа) (1891—1975) 19,34, 112, 113, 380.
Шер Вениамин Иосифович (1900—1962), скрипач, композитор, профессор Ленинградской консерватории 269.
Шимкевич Владимир Михайлович (1858—1923), зоолог, академик 44.
Шипчинский Николай Валерианович (1886—?), ботаник 51.
Широков, чекист, пом. начальника Вайгачской экспедиции ОПТУ (1933—1934) 180.
Ширшов Петр Петрович (1905—1953), гидробиолог, академик 204.
Шишкин Иван Иванович (1832—1898), живописец 96,
Школьникова Валерия Александровна, правнучка П.В.Виттенбурга 10.
Школьникова Ольга Диевна (урожд. Сапрыкина) (1953 г.р.), техник-строитель, дочь Вероники Павловны Сапрыкиной 10, 329, 376, 380.
Шмидт Отто Юльевич (1891—1956), математик, государственный деятель, академик, начальник ГУСМП (1932-1939) 121.
Шмунк Берта-Анна-Мария Людвиговна (Анна Львовна), см. Разумихина А.Л.
Шмунк Людвиг, столярных дел мастер, прадедушка Е.П. Виттенбург 24.
Шмунк Мили, жена брата А.Л. Разумихиной 115.
Шмунк (урожд. Мейссель), прабабушка Е.П. Виттенбург 24.
Шопен Фридерик (1810—1849), польский композитор, пианист 102, 239, 240.
Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ 21.
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906—1975), композитор 239.
Шпаро Дмитрий Игоревич, полярный путешественник 230, 231.
Шредер Э.Г., сотрудник геологического музея 73.
Шрейбер Семен Ефимович (1865—?), эпидемиолог, врач-гигиенист Якутской комиссии АН 91.
Штеренберг, капитан парохода «Глеб Бокий» (1930-е) 163.
Штеренберг Лев Яковлевич (1861—1927), этнограф, член-корреспондент АН 88, 121.
Шульгин Василий Витальевич (1878—1976), известный политический и государственный деятель 28.
Шуман Роберт (1810—1856), немецкий композитор и музыкальный критик 359.
Шуман-Делакроа Ванда-Эдит-Валида (Валида Эрнестовна), см. Несмелова В.Э.
Шуман-Делакроа Виолетта Владимировна, см. Делакроа В.В.
Шуман-Делакроа Владимир Эрнестович (Павел-Владимир-Лео) (1892—1943), радиоинженер, погиб в заключении 19, 312, 380.
Шуман-Делакроа Гуйдо-Эрнест (Эрнест Августович) (1856—1907), телеграфист 15, 19.
Шуман-Делакроа Елена Владимировна (Каролина-Хелена-Адольфина, урожд. Виттенбург) (1871-1927) 17, 19, 34, 69, 126, 312, 380.
Шуман-Делакроа Эрна-Елена Эрнестовна, см. Шеншина Э.Э.
Шумилов Александр Васильевич, географ, полярник 231.
Щеголев Дмитрий Иванович (1894—?), гидрогеолог, доктор геолого-минералогических наук 296.
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952), писательница, переводчик 63, 65, 70, 79, 80, 90, 94, 97, 102, 104, 114, 123-125, 135, 153, 156, 255, 298-300, 308.
Эглит, сотрудник ГУСМП (1930-е) 222.
Энгельфельдт П., заключенный Вайгачской экспедиции ОГПУ (1932—1935) 183. Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967), писатель, публицист 330, 342. Эрна, см. Шеншина Э.Э.
Юденич Николай Николаевич (1862—1933), генерал, один из руководителей белого движения 15.
Юн Чан Сик (1927—?), архитектор садов и парков, гражданин КНДР, 1-й муж Е.П. Виттенбург 349, 350.
Юрьев Юрий Михайлович (1872—1948), актер Александрийского театра, педагог 238, 314.
Юстус Антонина Венедиктовна, писательница, сестра композитора В.В. Пушкова 331.
Яичкины, семья жителей п. Ольгино (1920-е) 148.
Яковлев Николай Николаевич (1870—1966), геолог и палеонтолог, академик 57.
Яковлев Сергей Александрович (1878—1957), геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор 60.
Якубенко Владимир Яковлевич, чекист, директор научной библиотеки Академии художеств (1952-1953) 343.
Яхонтов Владимир Николаевич (1899—1945), актер, мастер художественного слова 239.
Amundsen Roald, см. Амудсен Р.
Chizamutdinov А.А., см. Хисамутдинов А.А.