О времени и о себе. Жизнь, воссозданная в письмах, документах и мемуарных записках
О времени и о себе. Жизнь, воссозданная в письмах, документах и мемуарных записках
Виленская, Э. С. О времени и о себе. Жизнь, воссозданная в письмах, документах и мемуарных записках / Виленская Эмилия Самойловна; – Текст : непосредственный.

На фото – автор воспоминаний Виленская Эмилия Самойловна.
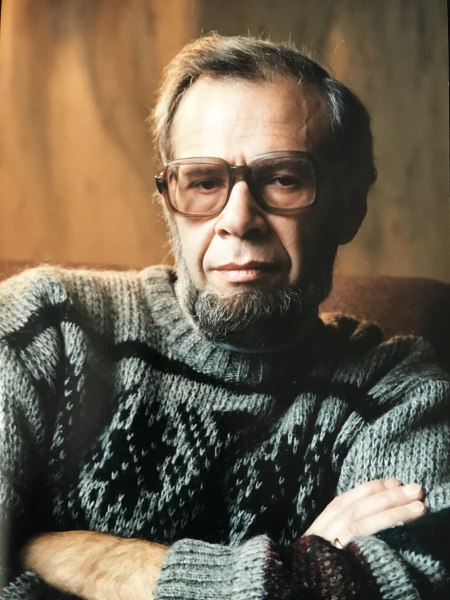
На фото – составитель и автор обширных комментариев – Виленский Николай Алексеевич (1943–2010), сын Виленской Эмилии Самойловны.
Благодарим публикатора воспоминаний, любезно приславшего нам их компьютерный набор и фотографии, Виленского Андрея Николаевича, сына Виленского Н. А. и внука Виленской Э.С.
* * *
Настоящая работа – дань любви и почтения к памяти мамы и тех людей, с которыми ее и меня свела судьба. Это запоздалая благодарность маме, которая в нелёгких жизненных условиях, преодолев массу препятствий, не сломалась, не опустилась, и, в конце концов, добилась своего, стала заниматься своим любимым делом – наукой. Мама не только вырастила и воспитала меня, дала образование, вывела в люди, но и была моим самым большим другом.
Н. А. Виленский
* * *
Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.
О. Бергольц
ЧАСТЬ I
КОММУНАЛКА
Мы с мамой, [Виленской Эмилией Самойловной, – прим. ред.], жили на Большой Коммунистической улице, недалеко от Андроньевской площади, в маленькой комнатушке небольшой коммунальной квартиры. Здесь, в пяти комнатах проживало 16-17 человек, была общая кухня с пятью столами, над которыми висели занавешенные марлей полки с посудой. Тут же находился умывальник с холодной водой и туалет, к которому по утрам выстраивалась живая очередь. В общем – «воронья слободка».
В качестве бабушки, жившей в антресолях, у нас была старуха Масленникова, которая отравляла существование всей коммуналки. Старуха была вредная, с претензией на образованность и светские манеры. Была она до революции не то певичкой в кафешантане, не то содержанкой, а может быть и то и другое. Выйдя по возрасту в тираж, она, видимо, в 1920-е годы приютила у себя цыганскую девочку Алю, которую соответствующим образом воспитала, а затем, во время войны, когда юная цыганка подросла, приторговывала ею. Так у Али родилась дочь Наташа, моя ровесница – девочка неглупая и сообразительная, которая обожала мать и вполне по-взрослому, с применением ненормативной лексики ругалась со своей бабушкой.
Лидия Порфирьевна, так звали эту старушку, была постоянным источником скандалов. То влезет в чужую кастрюлю, и её содержимое приходилось выливать. То утром, когда все спешат на работу, а тогда за опоздания могли отправить и в края достаточно отдалённые, старуха надолго займёт туалет или начнёт плескаться в единственной на всю кухню раковине. Но самым любимым временем старушки были вечера, когда все хозяйки собирались на кухне для приготовления ужина или обеда.
Лидия Порфирьевна, которую «за глаза» вся квартира называла «Порфишкой», была тут как тут: на четырехконфорочную плиту ставился чайник и огромная кастрюля с водой, после чего, с чувством исполненного долга, она удалялась в свою комнату. Мама эту процедуру называла: «Порфишка жарит воду». Иногда это оканчивалось утратой посуды, вода из которой выкипала, или кто-то из соседей снимал «жареную воду», занимая нужную конфорку. Это была прелюдия шоу-скандала.
Во время своих торжественных выходов на кухню, следя за своим варевом, которое могло готовиться в любой посуде, в том числе и в ночном горшке, Лидия Порфирьевна любила рассказывать о своем, большею частью выдуманном, прошлом: о встречах и любовных приключениях с известными людьми. В том числе она живописала, например, о своих встречах с А.И. Герценом, на что мама как-то заметила: «Лидия Порфирьевна, неужели Вам уже за девяносто, а вы так молодо выглядите. Ведь Герцен умер в Ницце в 1870 году. Когда же вы могли с ним встретиться?» Порфишка была смущена, но продолжала свою фантазию: «Как раз в Ницце-то, на моих руках он и умер». Мама хохотала, как и вся кухня. (А.И. Герцен умер в Париже. Позже его прах был перевезен в Ниццу. – Прим. ред.)
Или другой эпизод. Начало 1950-х годов. Вовсю идет и ширится борьба с безродными космополитами. Как-то вечером на кухне, в присутствии всего честного коммунального народа, Порфишка обращается к маме: «Эмиль Самолна! Скажите, пожалуйста, почему это евреи обижаются, когда их называют «жидами»? Ведь в этом нет ничего оскорбительного. «Жид» происходит от французского Juif, что и означает «еврей».
Вся кухня притихла, ожидая маминого ответа. И мама, острая на язык, никогда за словом в карман не лезшая, тут же ответила: «Да, Лидия Порфирьевна, вы правы. В русских летописях мы можем прочесть: «Шёл князь со бояры, да дворяны и прочей разной сволочью». Но когда ваша внучка называет Вас сволочью, она же не имеет в виду скопище людей незнатного происхождения вокруг князя». Вся кухня грохнула смехом. Порфишка была посрамлена и ретировалась в свою комнату.
Но вообще-то, надо сказать, что, хотя народ в коммуналке был весьма разношёрстный, жизнь в основном протекала мирно, бывали, конечно, и скандалы, и пьяные дебоши, но они были непродолжительны и быстро затухали.
АРХИВ
Где-то в году 1952-м Лидия Порфирьевна весь свой гнев решила обрушить на меня (я провинился тем, что неплотно закрыл входную дверь). По доброте душевной, она назвала меня еврейским ублюдком, а заодно сообщила, что и моя мать недалеко от меня ушла. «Твоя мать тюремщица, она – враг народа!» – с неподдельным пафосом кричала Порфишка. Мамы дома не было, и достойного ответа старуха от меня не получила.
К тому времени я уже хорошо понимал, что слова «еврей» и «жид» – бранные. Ко мне и к моим родственникам они не раз применялись. Даже учительница начальной школы, за какую-то мою очередную шалость (а делал я это довольно часто) выгоняя меня с урока, при всём классе прошипела: «Убирайся в свою жидовскую конуру и без матери в школу не являйся».
Бедная мама, как на Голгофу, ходила в школу, где её отчитывали, как провинившуюся школьницу, за мои, в общем-то, невинные проделки.
Когда я жаловался маме на то, что меня обзывают, она научила меня отвечать тем же: «А ты, сынок, называй их русскими». Иногда это помогало и противников ставило в тупик.
Слово «ублюдок», как крепкое словцо, я тоже знал – оно было общеупотребительным в той уличной среде, в которой я рос. Разумеется, дома ненормативная лексика не употреблялась – мама её органически не переносила. Этимологию этого слова я самостоятельно изучил гораздо позже.
Однако я не очень-то понял, почему мама – «тюремщица». О тюрьмах и колониях, как об исправительных учреждениях, я слыхивал, ведь жили-то мы в районе Таганки. Я знал, что где-то недалеко находится знаменитая Таганская тюрьма, в которой содержатся преступники. Меня за мои проделки нередко стращали колонией для несовершеннолетних правонарушителей. Конечно же, я всего этого боялся.
По-видимому, Порфишка имела в виду, подумал я, что моя мама, вероятно, когда-то и почему-то находилась в тюрьме. Но я в это никак не мог поверить и в мои «тюремные» представления моя мама совершенно не вписывалась. Она была стройной, всегда со вкусом одетой и тщательно следящей за собой женщиной. Она не воровала, не убивала, «вела себя хорошо», а потому не могла быть преступницей. Работая не покладая рук, мама днём занималась в библиотеках и архивах, а вечерами писала статьи, стрекоча их на пишущей машинке. Под эти звуки я нередко засыпал. Иногда, просыпаясь ночью, я заставал маму в том же положении, с папиросой в зубах и пепельницей, переполненной окурками.
Мама заботилась обо мне, пела песни, читала стихи, рассказывала, когда я болел, разные истории, учила читать и сама читала мне вслух. А кроме того, делала обычную женскую, не очень-то ею любимую, работу: готовила, убирала, стирала. Какая же она «тюремщица»?
Расспросы соседей по поводу сообщённых мне сведений оказались тщетными. Кто-то прятал глаза, кто-то отнекивался, кто-то отмалчивался или говорил, что Порфишка сказала это по злобе и на её сумасбродное пустословие не стоит обращать внимания.
К моим родственникам я не мог обратиться за разъяснениями: «А правда ли, что моя мама тюремщица?». Я понимал, что на свой вопрос я ответа не получу, а кроме того, это было бы (как я сейчас бы сказал, а тогда интуитивно чувствовал) величайшей бестактностью по отношению к маме, оскорбляющей её, а заодно и моё, достоинство.
Из всего скандала я понял, что мою маму какая-то выжившая из ума Порфишка просто хотела обидеть и ударить побольнее. Конечно, можно было бы отомстить и напакостить сумасбродной старухе, но уважение к её почтенному возрасту (так я был воспитан) не позволяло мне этого сделать.
Однако детская память чрезвычайно цепкая. Она подсознательно запоминает многое из того, о чём взрослые, не подозревая этого, невольно проговариваются. Память особенно чутко реагирует на малейшую несправедливость по отношению к родителям. Слово, брошенное зловредной старушенцией, врезалось в моё сознание и требовало неопровержимых доказательств, что это не так, что этого не может быть. Какие опровержения, какие доказательства мне были нужны? Я этого не знал. Мама в то время избегала рассказов о былых временах, считая, видимо, что я ещё не дорос до обсуждения этих вопросов. А меня, тогда 9–10-летнего мальчишку, как раз эти предметы очень интересовали.
В комнате, в которой мы жили, буквой «Г» стоял стеллаж со старыми книгами, а в тёмном углу, возле печки, находился большой дубовый книжный шкаф. Шкаф назывался «архивом», поскольку в нём, кроме книг, на нижних полках, лежало большое количество папок, связанных стопок бумаг и фотографий. Из этого шкафа я мог брать книги или фотографии, которые я любил в детстве рассматривать, но трогать «архив» мне было категорически запрещено. Ведь я мог там все перепутать, объясняла мне мама, и ей пришлось бы вместо работы его разбирать.
И, тем не менее, однажды, улучив время, когда у меня были каникулы и все взрослые ушли по своим делам, я решил все же посмотреть, что находится в «архиве». Ведь в архивах, в которых занималась мама, она находила множество интересных и неизвестных фактов о А.Н. Радищеве или посессионных крестьянах, которыми она в ту пору занималась и о чем с упоением рассказывала по телефону своим друзьям. Особенно долгими были беседы с загадочным Зигой, с которым мама в буквальном смысле часами могла обсуждать интересовавшие их вопросы. Потом уже, гораздо позднее, я узнал, что это был молодой историк, выпускник истфака МГУ Сигурд Оттович Шмидт, сын известного уже и мне учёного и полярного исследователя Отто Юльевича Шмидта. Под эти бесконечные телефонные разговоры я частенько засыпал, «усваивая азы исторической науки».
Вот я с детской наивностью и подумал, а не сделаю ли я в нашем домашнем «архиве» открытия? Но, как это часто бывает, меня застали врасплох и «застукали» за этим недозволенным занятием. Мамина тётка Фаня, жившая со своим семейством за фанерной перегородкой, которой была разделена комната, и на попечении которой я был, по-видимому, в тот день оставлен, страшно всполошилась, отругала меня и сообщила о моих архивных похождениях маме. Мама меня, конечно же, отчитала, но, не зная, насколько далеко я зашел в своих исследованиях, стала кое-что о себе рассказывать.
Так я узнал, что у меня были сестренка Таня и братик Юра, но они умерли еще до моего рождения, до войны (а это был для меня совсем другой век). О братике я долго грустил, поскольку все время мечтал о нем, и еще лет в 10 просил маму родить мне братика. О сестричке я не просил, ведь рядом за перегородкой уже росла моя троюродная сестра Наташа – внучка тети Фани, которая была младше меня и к которой я относился как к сестре.
В свой первый поход в «архив» я так ничего интересного для себя не обнаружил, лишь заметил, что в шкафу имеются разные папки, в том числе и с надписями: «документы», «письма», «разное» и папка с загадочными инициалами «Ю.М.Б».
Но любопытство брало верх.
Во время другого рейда по «архиву», уже в году 1954-м, мои поиски были более целенаправленны. Я извлек папку «разное», стал ее просматривать, и тут-то мне попался большой блокнот, на первой странице которого было написано красивым маминым почерком без единой помарки с обращением: «Родной мой мальчик!». Меня это чрезвычайно заинтересовало. Ведь «родным моим мальчиком» мог быть только я и, следовательно, это предназначалось мне. Но тогда почему мама это мне не отдала? Я знал, что чужие письма читать нельзя, но здесь и внешние признаки письма отсутствовали – оно не было вложено в конверт, да и по формату больше напоминало рукопись, чем письмо. Я и подумал, что ничего страшного не произойдёт, если я прочитаю то, что и так мне было предназначено. Да и читать мамин почерк было легко. Это было мое первое знакомство с «архивом», в котором я сделал для себя удивительные открытия.
Так началось мое знакомство с маминой жизнью и ее судьбой.
[ПИСЬМО СЫНУ][1]
Родной мой мальчик! Для тебя одного я хочу написать свою горькую историю, тяжелые годы моей жизни, которые непосильным грузом ещё и сейчас, когда я пишу эти строки, давят на мои не такие уже сильные плечи. Но я даю тебе клятву вынести эту тяжесть – для тебя маленького, для того, чтоб, став большим – честным, мужественным, хорошим, ты не должен был бы краснеть за слабости твоей матери.
Сумей понять это трудное время. Не осуди его только за то, что оно было бременем для твоей мамы. Оно было печальным, но нужным. Сейчас еще рано делать выводы, подводить итоги. Многое еще в тумане, многое еще не ясно. Но ясно одно – история не осудит этих лет. Она покажет их истинное значение, их суровую необходимость, их закономерность.
Старая русская пословица говорит, что когда рубят лес, летят щепки. Я и оказалась такой щепкой. Так было нужно. Без щепок не бывает. Не горюй о том, что твоей маме так тяжко далась жизнь. Я не ослабела, я не потеряла веры, не потеряла чувства жизни, чувства нового, прекрасного, в тяжких муках рождающегося нового. И если сейчас у меня бывают минуты слабости, минуты отчаяния – то это не от слабости, не от того, что я чувствую себя сломленной, а только потому, что выбитая из колеи, я слишком много сил трачу на то, чтоб опять попасть в эту колею, чтоб почувствовать своим плечом плечи всех тех, с кем вместе я иду к большой цели.
24 марта 1936 года – начало моей грустной истории. В то время я училась на историческом факультете. Училась с интересом и мечтала о научной работе. У меня был муж, он был старше меня на 22 года. Но я его любила. Он был умный, мягкий, даже излишне мягкий человек, с тонкой душой, с широким кругозором, с предельной честностью. Все, кто знал его, любили и уважали, считали кристально чистым. Он много работал, очень много. Мы мало времени бывали вместе. Материально нам было нелегко. У него были дети от первого брака, была старуха мать. Я же оказывала незначительную помощь нашему бюджету – стипендия и заработки от эпизодической литературной работы – это был маленький, весьма маленький вклад. В это время я была на 4-м курсе. Оставался последний – 5-й – и были надежды на аспирантуру, так как я была рекомендована еще на 3-м курсе. Муж мой, дальше я буду называть его по имени – Юрием, был профессором истории, членом партии.
Утром последнего дня он ушел в институт на лекцию. У меня был небольшой грипп, я сидела дома. Позвонила жена одного приятеля Юрия, тоже историка Лапина Николая Антоновича[2]. Она сообщила, что предыдущей ночью был арестован ее муж. Я передала это Юрию, когда он пришел. Известие неприятно поразило его. «Очевидно, у историков что-то произошло», – сказал он. «Неделю назад арестовали Романчука[3] (это был аспирант того института, где работал Юрий), говорят, что арестован Егоров»[4]. Егоров – соавтор Юрия по учебнику, часто бывал у нас.
Юрий высказал предположение, что при такой ситуации могут и к нам придти и всего досадней, что у него лежит без разрешения наган.
История этого нагана такова. В годы гражданской войны Юрий был комиссаром военных сообщений Южного фронта. Наган остался у него с тех пор. Тогда это разрешалось. На него было выдано разрешение. Примерно в году 1933-м или 1934-м все, имевшие наганы, должны были их сдать и получить взамен другое оружие. Разрешение для оформления сдавалось в секретную часть.
Юрий сдал разрешение, тысячу раз собирался зайти в издательство, куда оно было сдано и где он уже не работал, но, загруженный сверх всякой меры, он как-то откладывал это на «другой раз». Так наган и лежал у него на дне серенького сундучка, а разрешение – в издательстве.
Пообедав, Юрий ушел на вечерние лекции. Он пришел поздно, часов в 11. Мы сели ужинать. За ужином он предупредил, чтоб завтра его не будили, сколько бы он ни спал. Он очень устал, ему необходимо выспаться, так как завтра он должен заняться серьезным делом – написать в ЦКК о возвращении ему партийного билета, забранного у него в ноябре 1935 года без мотивировки при проверке партийных документов, происходившей в то время.
Около 12 часов, когда мы еще сидели за столом, кто-то постучал в дверь. Звонка в передней мы не слышали. Вошёл человек в форме НКВД.
– Бочаров Юрий Михайлович? – спросил он.
Юрий встал и подошёл к нему. Он подал ему какую-то бумажку. Надев очки, Юрий прочёл, сразу почернел и не изменившимся голосом сказал: «Пожалуйста, приступайте». Вошло еще три человека. Возглавлявший эту операцию предложил закончить ужин. Но есть не хотелось.
– Оружие и запрещенная литература (подразумевались книги Троцкого, Зиновьева и других им подобных) есть?
– Есть. Оружие в чемодане. Книги в шкафу.
Юрий показал, в котором.
– Кроме этой комнаты есть еще другие?
– Комната матери, но там моих вещей нет.
– Может быть, ваша супруга пройдет туда с нашим работником?
Я вышла с человеком одетым в штатское. Последний, убедившись в том, что в комнате свекрови отсутствует что-либо его интересующее, быстро оттуда ушёл, тем более что для Веры Алексеевны (свекрови) это превратилось в развлечение, и она охотно и настойчиво демонстрировала свои, полувековой давности, дипломы и другие документы.
Когда мы вернулись в комнату, наган лежал на столе. Глава операции сидел за письменным столом и разбирал бумаги – рукописи, письма и т.д. Другой был занят библиотекой, разглядывая каждую книгу, надписи на ней и т.д. Это была сложная работа, так как книг было свыше 7-ми тысяч. Третьему был поручен шкаф с носильными вещами и мой письменный стол. Четвертый дежурил в передней, и никто из жильцов квартиры не мог выйти до конца обыска.
Мы сидели на диване. Я тихо спросила:
– Это только обыск или и арест?
– И то и другое, – ответил Юрий.
– Ты уверен?
– Да, так написано было в ордере.
На несколько секунд сердце перестало биться. Нам предложили разговаривать только вслух. Я просила Юрия прилечь и поспать. Он не соглашался, но затем, не выдержав усталости, напряжения лег и проспал с час. Я не спала. Вся процедура закончилась к 10 часам утра. Был солнечный весенний день. Я собрала Юрию вещи, сунула множество совершенно ненужных, например часы и бритвенный прибор. Распрощалась. Тогда я не знала, что это навсегда. Я была убеждена, что не позже чем через 4-5 дней он будет дома и даже спрашивала у руководителя, какой может быть самый короткий срок, так как должен был быть суд по поводу комнаты, которую мы должны были получить.
Я и Наталия Михайловна, наша домработница, стояли у окна и смотрели уходившему Юрию вслед. Он обернулся, перед тем как садиться в машину, и помахал рукой. Наталия Михайловна разрыдалась. Я накричала на неё и не велела выходить на кухню, пока не высохнут слезы. Вышла сама, поставила чайник, абсолютно спокойная под любопытными взглядами соседей. Это внешнее спокойствие дорого стоило мне. Мы привели в какой-то порядок комнату. Спать не хотелось.
Днем пришла мама. Она ничего не знала.
– Где Юрий Михайлович? – спросила она.
– На Лубянке, – ответила я.
Мама не поняла. Я объяснила. Её пугало мое спокойствие.
Потянулись долгие дни. Я ждала. Я шла домой, представляя себе, как встретит меня возвратившийся Юрий.
Из Учпедгиза звонили, требовали хрестоматию, которую он составлял. Она не была закончена. Кое-какие комментарии дописывала я. Почему-то первое время факт ареста не послужил основанием для того, чтоб отказаться от хрестоматии. Я сообщила о случившемся директору своего института и его (Ю.М. Бочарова) учреждения. Вызвала запиской бывшую жену Юрия. Сказала ей, что пока она занимается на курсах, я найду средства для того, чтобы помогать ей в той же сумме, которую она получала от Юрия. Я сдержала свое обещание.
Прошла весна, начались экзамены. Я боялась их, так как мне казалось, что меня будут «резать». Особенно боялась экзаменов у Городецкого[5]. Действительно, он дал мне вопрос по программе, который никому не давал и даже предупредил на консультации, что поскольку по этому вопросу нет литературы, он его не будет ставить. Это был вопрос о национальной политике временного правительства в 1917 г. после корниловского мятежа. Однако пятерку он мне всё же поставил.[6]
Дальше шли пустые листы. Рукопись закончилась. Я был потрясен. Эмоциональная стилистика написанного, его тональность, его искренность были просто ошеломляющие, ни на что не похожие из того, что я в то время читал. Мне это помнится очень хорошо.
Я стал тихонько плакать от жалости к маме и её письму ко мне. Я интуитивно понимал, что просто так, без веских причин, такого рода письма не пишут. Оно больше напоминало прощание со мной, особенно его начало. Видимо, должно было стрястись что-то такое из ряда вон выходящее, что поставило маму перед необходимостью написать эту исповедь для сына.
Гораздо позже я узнал, что письмо писалось после того, как маму неожиданно вызвали в МГБ, было это в 1949 году. После неоднократных продолжительных «бесед», которые напоминали допросы, она полагала, что дни ее пребывания на воле уже сочтены и даже хотела, как потом она вспоминала, свести счёты с жизнью. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей и занять себя чем-то (мама была без работы – её никуда не брали), она тщательно убрала комнату, перемыла всю посуду, постоянно покупала цветы, готовила аппетитные завтраки и обеды, которые сервировала на белой скатерти с серебряными приборами. Она готовилась «красиво» уйти из жизни и получить от неё последние радости.
От этого опрометчивого шага маму спас её давний довоенный приятель – дядя Юра Архангельский. Инженер, далёкий от политики, он сказал: «Потерпи немного. Он же не вечен». Он имел в виду Сталина. Мама была в ужасе. Она в него верила как в Бога.
Письмо открыло передо мной другую, незнакомую мне жизнь, незнакомые имена. Я узнал, что у мамы был муж, о котором она никогда не говорила, но он не был моим отцом. Правда, ни о никакой тюрьме, в которой находилась бы мама, в письме не было ни слова, но её предчувствие витало где-то рядом.
Кроме того, по прочтении письма, возникло множество вопросов. Почему мама оказалась щепкой? Для какой такой высокой цели было нужно, чтобы она, а потом мы узнали, что не только она, а миллионы людей, стали щепками? Эта удобная пословица «лес рубят – щепки летят» потом не раз встретится как в маминых рассказах, так и в воспоминаниях людей, прошедших ГУЛАГовский людоповал. Отношение к этой пословице у мамы потом радикально изменится.
Но что это за печальное и нужное время, о котором писала мама? Я почему-то в тайне от мамы начал читать «Краткий курс истории ВКП (б)». Там было всё так гладко, логично и понятно, что я был преисполнен гордости в постижении этого взрослого «труда». Но при всем притом, на возникшие вопросы я там ответа не нашёл. Дома имелось много книг по истории ВКП (б), изданных еще до войны, в начале 1930-х годов. Но для меня они были скучны, и я их бросил читать.
Маму я расспрашивать не мог, иначе она тут же догадалась бы о моих розысках в архивном шкафу.
Но и мама, по-видимому, по каким-то признакам догадывалась о том, что мне стало кое-что известно (что именно, она не знала). Как умная женщина, она взяла инициативу в свои руки. И как-то, идя по улице (была весна 1954 г.), она завела разговор о разных политических новостях и невзначай, как бы мимоходом, обронила: «А ты знаешь, Сталин был не очень-то хорошим человеком. Обрати внимание, в газетах о нём пишут всё меньше и меньше».
Для меня это был гром среди ясного неба. Моя любимая мама так говорит о моём обожаемом вожде Сталине, которого я боготворил, кому, засыпая, жаловался на своих детских обидчиков и верил, что он меня от них защитит и каким-то образом их накажет. Значит, она против Сталина, значит, она – враг народа, значит, Порфишка права. К такому повороту событий я не был готов.
Мне вспомнились совсем недавние времена, когда в 1951–1953 годах мои родные при моём появлении вдруг прекращали разговор или переходили на идиш, а иногда бесцеремонно, не удовлетворив моего любопытства, а мне всегда были интересны разговоры взрослых, выпроваживали гулять.[7] Значит, уже тогда, мама и её знакомые, и мои родные могли что-то злоумышлять и говорить гадости о «Самом любимом, родном человеке», о котором «прекрасные песни слагает народ».
Но тогда почему мама так плакала, а плакала она редко, когда умер Сталин, и стыдила меня за то, что я трауру по вождю предпочёл кинофильм про «Золушку», который почему-то в дни всенародной скорби крутили в ближайшем Доме пионеров.
Я решил, что если мама ещё раз скажет что-нибудь плохое про Сталина, я, как пионер, должен буду поступить подобно Павлику Морозову – донести на неё, как на врага народа.
Павлик Морозов был моим любимым героем тех лет, о котором я много читал, смотрел театральные постановки, слушал о нём по радио и даже встречался с его матерью в Крыму, в детском санатории. Эта женщина – мать Павлика Морозова, стыдила нас за то, что мы дерёмся подушками, что было в действительности, и воспитывая нас, утверждала, что её сын так бы не безобразничал.
Я был сталинистом, таким наше поколение воспитывали с младенческого возраста. До сих пор помню, как в детском саду любимая нами воспитательница Софья Наумовна, которая разрешала нам, ребятишкам, называть себя просто Сонечкой, уменьшая тем самым дистанцию между нами и ею, в 1949 году, когда громко и пышно отмечали 70-летие Сталина, велела нам выучить стихи и песни о вожде. Был устроен грандиозный праздник, уже стояла ёлка, и в присутствии наших родителей мы дружно, с неподдельным энтузиазмом, друг за другом исполняли свои номера. Концерт закончился хором, где солировала наша Сонечка с кантатой «О Сталине», а мы с восторгом ей подпевали.
Имя и портреты вождя висели всюду. В детских книжках, по радио говорилось и пелось только о нём, или о защите мира, или об американских империалистах – поджигателях войны. В «Пионерской правде», которую мама выписала для меня, было то же самое. В школе, начиная с первого класса, нас, кроме обучения, воспитывали в духе преданности Сталину и рассказывали о пионерах-героях, акцентируя наше внимание на Павлике Морозове. Идеологическое воспитание особенно усилилось, когда нас принимали в пионеры. Мы должны были быть готовы бороться за «дело Ленина-Сталина».
Однако вскоре наступили другие времена. В 1954 г. мама стала референтом академика Н.М. Дружинина и её наконец-то приняли на работу в Институт истории Академии наук СССР. Она была счастлива, поскольку на протяжении девяти лет перебивалась случайными заработками и даже вязала на заказ шапочки и другие вещи. Но этот заработок вскоре закончился весьма плачевно для нашего бюджета. Одна из соседок в бабушкиной квартире на Тверском бульваре, где мы в то время жили (бабушка была парализована и прикована к постели), сообщила в финансовые органы о «нетрудовых доходах» мамы, и ее, беднягу, оштрафовали на весьма внушительную сумму.
Вскоре после приема на работу в Институт истории АН СССР мама стала хлопотать о реабилитации себя и Юрия Михайловича. Слово «реабилитация» была для меня новым, и что оно означает, я не совсем понимал, но оно мне нравилось. Мама стала больше рассказывать о минувшем, о своих друзьях, многие из которых приезжали в Москву и останавливались у нас. Они о чём-то шептались с мамой, называли какие-то имена и незнакомые фамилии, и мама убеждала их «подать на реабилитацию», как тогда говорили. А потом мамины друзья уезжали, и мы с нею провожали их на вокзале. Вскоре они вновь возвращались в Москву уже реабилитированными, и некоторые, в ожидании жилплощади, жили у нас.
Для меня реабилитация, прежде всего, была связана с переменой места жительства. Мама объяснила, что реабилитированным возвращают их старую жилплощадь или дают новую в новостройках на Юго-западе Москвы. Мне очень хотелось, чтобы маму поскорей реабилитировали, и мы бы переехали в новую квартиру.
Ребёнком я был весьма политизированным, читал газеты, слушал радио, возмущался вместе со всеми казнью в США супругов Розенбергов, следил за ходом Корейской войны.
В один из мартовских вечеров 1956 г. я не засыпал, ожидая маму. В Институте истории читался закрытый доклад Хрущёва на ХХ съезде КПСС, с разоблачением, как тогда принято было говорить, культа личности Сталина. Мама пришла поздно, вся чёрная и, увидев, что я не сплю, переполненная услышанным, стала пересказывать мне содержание доклада, куря одну папиросу за другой.
Не выдержав, груз предательства лежал на моей душе, я рассказал ей о своем намерении повторить «подвиг» юного пионера Павлика Морозова. Мама разрыдалась, и я долго ее утешал. Мы проговорили всю ночь. Впервые мама разговаривала со мной, как с взрослым.
Мама была чудесной рассказчицей, она помнила множество случаев из своей жизни и умела их живо представить. Не забывая основного сюжета, она часто уходила в сторону, в те или иные подробности, которые сами могли бы быть отдельным повествованием. Я много раз слушал ее, раскрыв рот, хотя основу маминых «историй» знал почти наизусть. Но всегда в знакомой фабуле появлялись неизвестные детали, новые подробности, которые затерялись в закоулках маминой памяти. Да что я, и другие слушатели сидели, как завороженные, и с интересом слушали мамины рассказы. Она рассказывала очень просто, без рисовки и позерства. Она не считала себя героем, и лишь сожалела, что лучшие годы для творческой работы ушли на борьбу за выживание.
И я, и мамины друзья, и её многочисленные слушатели уговаривали написать воспоминания, сделать хотя бы наброски. Однако она всё отговаривалась чрезмерной занятостью и обещала, что по окончании очередной работы непременно начнет писать. Но надвигалась либо новая статья, либо срочная редакторская работа, либо командировка, или ещё что-то неотложное, и своего намерения мама в полной мере так и не осуществила.
Остались лишь отдельные наброски воспоминаний, которые я постарался смонтировать, собрав их воедино, расположив в хронологическом и «тематическом» порядке, дополняя там, где это было возможным и удобным, письмами и документами тех лет. Я постарался восстановить недостающие места маминых записок тем, что запомнилось мне по её рассказам, и по необходимости там, где это было допустимо, дополнить своими комментариями.
Мамины тексты, а также документы и письма выделены жирным шрифтом, а мои дополнения и комментарии – обычным. В квадратные скобки вставлены слова, недостающие по смыслу, а также сокращения.
Общее заглавие: «О времени и о себе» мама дала сама в 1987 г. и предполагала главным образом рассказывать о времени, нежели о себе. Поскольку мемуары писались спонтанно и от случая к случаю, в них отсутствуют связки и подзаголовки. Поэтому собранные тексты я решил разбить на главы и дать им своё название.
В сносках даются реальные комментарии, ссылки на источники и литературу.
Настоящая работа – дань любви и почтения к памяти мамы и тех людей, с которыми ее и меня свела судьба. Это запоздалая благодарность маме, которая в нелёгких жизненных условиях, преодолев массу препятствий, не сломалась, не опустилась, и, в конце концов, добилась своего, стала заниматься своим любимым делом – наукой. Мама не только вырастила и воспитала меня, дала образование, вывела в люди, но и была моим самым большим другом.
Пора преодолеть в себе эту лень и инертность. Ведь кто знает, сколько еще отпущено человеку, которому стукнуло 71, и который был современником таких событий, как две мировые войны, две революции, НЭП и сталинские репрессии, хрущевская оттепель и брежневская ... даже не знаю, как назвать, но хорошим словом не назовешь.
Говорят, что воспоминания, так называемых простых людей, не выдающихся ни талантами, ни занимаемым положением, сейчас ценятся потому, что в них отражается эпоха. Я, конечно, принадлежу к числу этих «простых».
На днях прочла в рецензии некоего Иг. Бубнова на книгу Олега Мороза (Н.М., 1980. с. 281) такую фразу: «научные работники (не хочу сказать – ученые)...» Так вот я и есть научный работник, которому так и не удалось стать ученым.
Что здесь виной – недостаток таланта или время, которое мне для научной работы было отпущено весьма недостаточно? Впрочем, это не суть важно. Важно, что простой научный работник, бывший старший научный сотрудник головного академического института, выставленный оттуда в одно из сокращений, то ли из-за еврейского происхождения, то ли из-за биографических подробностей. А в общем-то, какое это имеет значение?
Биография моя действительно не совсем обычна, так сказать с изъянами. Я позволила себе родиться не там, где положено советскому человеку – на территории КВЖД (Китайской Восточной железной дороги), на какой-то маленькой станции Ханьдоухедзы (мама родилась 29 января 1909 года), откуда вместе с родителями в пятинедельном возрасте переехала в Харбин и там провела свое детство до 14 лет (не считая 2-х выездов – в 1914 г. в Крым на лечение, и в 1916 – в Киев, где жил в то время отец и где я вместе с семьей прожила до осени 1917 г., когда мы все вернулись в Харбин).
Я помню себя очень рано. В четыре с половиной года я вообще была уже грамотным товарищем. Я читала не только вывески, но и детские книжки и имела сведения о жизни, существовавшей вокруг.
Я хорошо помню свое детство, а потому и обстановку в Харбине, которую так исказила Наталья Ильина[8] в пользу белоэмигрантов. Но об этом в другой раз.[9]
Из своих детских воспоминаний мама любила рассказывать о Февральской революции, которую она встретила в Киеве и помнила очень хорошо.
Мой дедушка, вместе с мамой, гуляя по Крещатику, надев красные революционные банты, пошли на Думскую площадь. Здесь проходил революционный митинг. Было это 16 марта 1917 г. (по старому стилю). Результатом этого митинга был снос памятника П.А. Столыпину. Памятник, а вернее бюст, был снят с постамента, и за наброшенные на шею веревки, его стали приподнимать так, что некоторое время он повис в воздухе. Это вызвало бурную реакцию толпы – Столыпин-вешатель сам оказался повешенным. Кто-то в порыве энтузиазма поднял над толпой маленькую наряженную девочку с красным бантом, как символ будущего, что привело собравшихся в неописуемый восторг. Этим символом будущего оказалась моя мама. Конечно, никто из присутствовавших и предположить не мог, насколько биография «символа» будет соответствовать этому будущему. (Когда в Москве в августе 1991 снимали памятник Дзержинскому, который тоже какое-то время находился в подвешенном состоянии, медленно раскачиваясь над толпой, это тоже вызвало ее бурный экстаз, – мамин рассказ о давних событиях вдруг приобрел черты реального, будто когда-то и мною виденного, но позабытого).
ПЕРВОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: ДЕДУШКА
Мой дед, Виленский Самуил Семенович, родился в Киеве в 1883 г. в небогатой еврейской семье Симхи (Семена) Юдолиевича Виленского, который занимался строительством железных дорог. Его жена, моя прабабушка Михля (в память которой и назвали мою маму), была домохозяйкой. Семья, по меркам того времени, была не очень большая: три девочки и два мальчика, среди которых самым младшим был мой дед. Он довольно рано, в 14 лет, ушёл из семьи и принялся самостоятельно строить свою жизнь. Не имея ни образования, ни какой-либо специальности, он, переезжая с места на место, перебивался случайными заработками. Являясь свидетелем еврейских погромов в 1903 г. в Кишиневе, Гомеле, дед, как и многие еврейские мужчины, жившие в черте оседлости, вошел в отряды еврейской самообороны, а вступив в партию Бунд, стал вести политическую агитацию среди рабочих г. Ровно, за что и попал в 1903 г. в тюрьму. Но уже в 1905 г. он оказался в Киеве, где также принимал активное участие в политических демонстрациях. Во время одной из них его избили нагайкой, шрам от которой остался на всю жизнь. В начале 1906 г. деда призвали в армию и он проходил военную службу в 148-м пехотном Каспийском полку, расквартированном в Новом Петергофе. Однако служил дед недолго и в конце 1906 года оказался в селе Романовка Балашовского района Саратовской губернии. Здесь, в земской больнице, работала старшая сестра моего деда Анна Семеновна, которая так же какое-то время принимала участие в распространении нелегальной литературы. В Романовке дедушка, по его словам, даже работал в комитете РСДРП, а от земства принимал участие в организации столовых для голодающих крестьян, среди которых распространял популярную марксистскую литературу. Однако, не имея возможности со своим «волчьим билетом» устроиться на работу в России, постоянные преследования властей заставили деда в 1907 г. уехать в Харбин, где к тому времени уже обосновались со своими семьями его старшие брат Лейвик-Борис и сестра Софья. В Харбине от политической деятельности дед отошёл и трудился в самых разнообразных областях: продавал книги, был управляющим аптечным складом, представителем и доверенным отечественных и иностранных фирм. В 1908 году он женился на моей бабушке Кларе Ильиничне, урожденной Кричевской. В Харбине дед прожил 16 лет.
С 1920 по 1925 гг., являясь доверенным фирмы Юды Исаевича Гринца, дед в 1922 году был командирован в Читу и занимался снабжением Центросоюза зерном для голодающих районов РСФСР, а позже, по поручению фирмы, работал по экспорту сырья и импорту разнообразных товаров. Так дед попал в Читу, куда в 1923 г. переехала и его семья.
После того, как фирму Гринца власти разорили, дед работал десятником в читинском горхозе. Затем служил в издательстве «Огонек» – заведовал распространением печатных изданий на территории Сибири и Дальнего Востока. Во время одной из командировок в декабре 1928 г., находясь в поезде, дед умер от разрыва сердца и был похоронен в Тайшете[10].
[ХАРБИН][11]
Придется все же не целостные воспоминания писать, а отрывками о том или о сём.
Беба[12] сообщила, что в «Октябре» печатаются новые воспоминания Натальи Ильиной, прочла по телефону кусок, как они ехали в теплушках вместе с Ромой. О Роме в примечании сказано, что он и теперь живет в Казани – врач.[13] Вспомнились ее первые воспоминания о Харбине, которые она, видимо, писала больше со слов матери, чем по собственной памяти.
Если ей поверить, то никакой общественной жизни в городе не было, пока не прибыли белоэмигранты, к тому же вполне хорошие, заблуждавшиеся, конечно. Училась она во французской школе, так как других не было. Всё это выдумки.
До 1917 года общественная жизнь города действительно отсутствовала: были клубы (Коммерческое собрание, железнодорожное собрание и какие-то еще), но там главным образом играли в карты или лото.
Что же касается учебных заведений, то в районе Пристани были частные гимназии Андерса (мужская), Генерозовой (женская), в Новом городе – женская Оксаковской и, кажется, в Модягоу – гимназия Хорвата. Хорват был чем-то вроде генерал-губернатора[14]. Гимназии эти существовали и после 1917 г. Кроме того, было высшее начальное училище, дававшее не полный курс гимназического образования. Это было казенное учебное заведение.
В связи с большим наплывом, как белоэмигрантов, так и беженцев (от Колчака, Семенова), цены за обучение в гимназиях повысились настолько, что даже для людей среднего достатка, было не по средствам обучать там детей.
И вот тогда на средства, собранные передовой общественностью, была основана Первая общественная гимназия. Потом основали и Вторую, а затем их слили. Возглавлял ее комитет или совет, не помню. Почетным ее членом или же главой (тоже не помню) был бывший политссыльный (а может, и каторжный) Ровенский[15] (или Новинский). Он носил седую окладистую бороду, помню, что жил в небольшом особнячке на Коммерческой улице с палисадником, где выращивались цветы. Мы, малыши, иногда совершали набеги на эти цветники, за что нам нещадно попадало, как от хозяев, так и от родителей.
Ровенский был, кажется, эсером, при этом к Советской власти относился отрицательно, о чем говорил вслух и даже на всяких торжествах в гимназии. Но потом он приехал в Москву, и к нашему, харбинских учеников Общественной гимназии, возмущению, стал членом общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, получил жилплощадь, паёк, пенсию и т.д. Кажется, он все же был из народовольцев.
Что касается общественной жизни, то после 1917 года и в значительной мере с эмигрантами и беженцами, она пышно расцвела.
В районе железнодорожных мастерских был основан Дом трудящихся. Там читались лекции по самой различной тематике. Родители мои регулярно на них ходили, и лекции эти собирали множество слушателей. Ведь сменовеховство (Устрялов) имело своим центром именно Харбин.
А белогвардейцы, которые под пером Н. Ильиной выглядят такими добродетельными «заблужденцами», были отнюдь не такими.
Приведу несколько фактов, которые могла не знать Н. Ильина.
Примерно в 1922 году был убит белогвардейцем прямо на бульваре студент, приехавший к родителям на каникулы, сын редактора газеты «Новости жизни» Чернявского[16] (или Чернецкого). Похороны его превратились в могучую демонстрацию, в которой участвовала вся наша гимназия[17].
Позже, году в 1926 или 1927 был убит мой дядя, брат отца – так, за здорово живёшь. На вокзале подошел к нему человек, как потом выяснилось из белоэмигрантов, спросил: «Ты жид?» Дядя ответил: «Еврей». И он тут же всадил в него нож. Похороны дяди также превратились в демонстрацию.[18]
Как-то мы, группа учащихся, решили после занятий покататься на лодке. Обычно лодочниками были китайцы. Но с прибытием беженцев лодки и шаланды приобретали и безработные русские. Мы и обратились к одному из таких. А в лодке, конечно, пели песни, в том числе и «Как ныне сбирается вещий Олег» с припевом: «Так за Совет Народных Комиссаров». Вдруг наш лодочник как закричит: «Вы мне попойте за совет комиссаров, я всех вас живо за борт побросаю. Одна из наиболее задиристых девочек спросила: «А за кого же прикажете петь, за Колчака, за Семенова?»
– Да, – ответил лодочник, – за Семенова мы скоро запоем!
Наша гимназия в 1923 году вошла в сеть школ ДВР[19] и для [соответствующего] оформления кто-то из руководства ездил в Читу. Потом гимназия вошла в сеть советских школ, и затем стала школой при советском консульстве. Старшие ребята были комсомольцами, и сколько раз бывало выйти из школы не могли, так как она была окружена фашиствующими молодчиками во главе с сыном бывшего жандармского офицера. Кстати, сестра его приехала в СССР одним эшелоном с Ильиной.
Были и прямо черносотенные организации. Помню фамилию считавшегося душой такого рода союзов – Саровский-Ржевский[20]. Был он редактором какой-то оголтелой газетки и на эстраде про него пелись частушки. [...][21]
В харбинской гимназии мама занималась не только обязательными предметами, но принимала живое участие и в театральном объединении, и в литературном обществе (сохранились её стихи этого периода). А ещё 12–14-летние подростки образовали тесный дружеский кружок любителей спорта. В Харбине на большом городском стадионе летом устраивались различные легкоатлетические, а зимой конькобежные соревнования. У мамы даже сохранился с десяток грамот за победы в различных состязаниях, что для меня было неожиданным открытием. По моим наблюдениям мама спортом не занималась, а спортивные передачи её совсем не интересовали, но та физическая подготовка, которую она получила в Харбине, очень ей в жизни пригодилась. Этот спортивный кружок на всю жизнь сохранил приятельские отношения, несмотря на жизненные перипетии различного свойства (многие из них, жившие с родителями на КВЖД, прошли через тюрьмы и лагеря в качестве японских шпионов). В 1960–1970 гг. мамины харбинские друзья часто собирались у нас в Москве.
[ЧИТА][22]
В 1923 г. я с родителями переехала из Харбина, где мы до этого жили, в Читу.
Что же представлял собой этот город? Он был центром сначала Дальневосточной буферной республики, затем Дальневосточного края, уже входившего в систему Советской России. Возглавлял и то и другое некий человек по фамилии Краснощёков[23], тогда очень популярная личность. Через несколько лет он попал в очень трудное положение и был осуждён за какие-то крупные растраты и связи с нэпманами. На базе процесса по делу Краснощёкова была создана в своё время комедия «Воздушный пирог», которая шла в театре Революции (ныне театре имени Маяковского).
Чита – небольшой старинный сибирский городок, в котором были: огромный храм на Соборной площади, хорошо оснащенный театр, библиотека, кинотеатр. Все это были монументальные постройки, так же, как и двухэтажное, с высокими потолками здание 4-й школы, в котором мы учились. Это была бывшая мужская гимназия. Территория школы была окружена большим парком с маленькой церковью, которая стала клубом. В алтарной части был сооружен помост-сцена, а перед ней для спектаклей или концертов ставились стулья или скамейки. Затем стулья убирались и начинались танцы.
В Чите был уже совсем другой моральный воздух, чем тот, каким в детстве дышалось. И он мне очень нравился, этот воздух. Люди общались между собой, в том числе и подростки, не разглядывая модный ли на тебе костюм, американские ли чулки, сумочки и даже волосяные заколки, определявшие твоё положение в «обществе». Там (в Харбине) это все было привычно. Здесь (в Чите) на меня оборачивались, я испытывала неловкость, особенно в то время, когда ещё не имела знакомых.
Вообще город был очень бедно одет. Это собственно было и модой своего времени: на парнях – толстовки, на девушках – длинные юбки, иногда более короткие, то, что мы сейчас называем миди. Молодёжная мода того времени ниже колен не опускалась.
Но благополучно было с продуктами. Нэп уже освоил этот город. Я помню, например, превосходный фруктовый магазин, которым владели родители одной из наших соучениц по школе. Здесь имелись фрукты, которых не было в то время и в Москве.
В 1924 году в Москву был командирован один мальчик, школьник на открытие сельскохозяйственной выставки. По возвращении им был сделан доклад. Он рассказал о том, что напрасно думают, что Москва находится в тяжёлом положении, поскольку плохо снабжается продовольствием. Им, говорил он, давали, например, мясные котлеты и всякие другие мясные блюда, что, по его мнению, являлось показателем того, что голод уже миновал Москву.
Это действительно было так. Когда я переехала в Москву в 1925 году, можно было без труда купить и мясо, и масло, и другие продукты. Но они, по сравнению с зарплатой, были очень дороги. Моя тётка – врач, у которой я жила, получала 102 рубля. Мы с ней питались либо дома без мяса, либо, довольно часто, в вегетарианских столовых, где стоимость обеда была намного ниже. Таких столовых по Москве тогда было очень много, и там очень вкусно готовили.
Однако уже тогда, применяя формулу «кто кого», не столько использовали НЭП, сколько с ним боролись. Характерный эпизод, иллюстрирующий этот курс. Мой отец был доверенным лицом харбинской фирмы Гринца. Фирма– это, конечно, очень громко сказано, потому что она состояла из этого самого Гринца и его шурина.
Фирма, очевидно, через местные органы заключила договор с Советским правительством на поставку пушнины. Служащие фирмы где-то в верховьях Лены или в районе Бодайбо скупали пушнину и привозили её в Читу. Здесь она сдавалась соответствующим советским заготовительным организациям. И вот какой-то служащий, подчиненный отцу, поехал за пушниной, но по дороге в Читу часть закупленной пушнины продал кому-то, не скрывая этого обстоятельства. Почему-то за это должен был отвечать мой отец. Причем на суд, который был тогда назначен, приехал один из хозяев фирмы, но его к ответственности не привлекли, не привлекли и того самого служащего, который эту продажу совершил. Все дело состояло в том, что власти решили ликвидировать данную фирму. Таким вот способом и решался вопрос «кто кого». Не тем, чтобы своими силами добиться более высоких результатов, чем результаты нэпмана, а тем, что бы его просто так ликвидировать.[24]
Уровень культуры политического руководства Читы был весьма примитивен.
Приведу курьезный случай. Какие-то старик со старухой, имевшие собственный дом (скорее развалюху), должны были к советским праздникам, к 7-му ли ноября, к 8-му ли марта или к 1-му мая, вывесить красный флаг. Так как, во-первых, в это время достать кумач было чрезвычайно трудно, во-вторых, возможно, у них даже не было средств на то, чтобы его купить, был сделан флаг из юбки хозяйки. Это было расценено как вызов Советской власти и надругательство над её символами. Их обоих осудили, я уже не помню на какой срок, но оба сидели в читинской тюрьме.
В это время ещё были банды, скрывавшиеся в лесах. Я помню, как некоторых комсомольцев, даже из нашей школы (был такой Леня [...], он так и не вернулся в школу), мобилизовали на борьбу с бандитами.
Помню также, весной 1924 года, ездила я в Олентуй. Это курортный городок недалеко от Читы, где в это время отдыхала семья доктора Вехтера, приехавшего из Харбина вместе с моей харбинской подружкой Гедой. В то время туда довольно часто ездили харбинцы. Геда приехала в Читу, чтобы со мной повидаться, а потом я поехала к ним в Олентуй, на несколько дней отдохнуть. Но вот когда нужно было ехать от станции на лошадях (я не помню, сколько километров), это считалось опасным путешествием, потому что случались, и не раз, нападения бандитов. Вероятно, бандиты знали на кого нападать. На такую голь, как я, наверно, не стоило.
В первое время по приезде в Читу, я опасливо относилась к комсомольцам. Меня успели поставить в известность, что это очень сомнительная организация, которая, несмотря на ранний возраст, занята всякими такими любовными делами, что в них много дурного и аморального. Я с большой осторожностью даже разговаривала с ними.
Но правда, когда мне пришлось столкнуться в школе с первыми комсомольцами (их было очень мало, человек 6-7 и школьной ячейки не было, а каждый был прикреплён к одной из городских ячеек), – у меня несколько изменилось представление об этой организации, потому что все это были очень хорошие ребята, очень честные, вдумчивые, какие-то последовательные в своих устремлениях и в своих взглядах.
В Чите была довольно большая комсомольская организация. Она имела свой клуб, где обычно собирались ребята и достаточно часто проходили городские комсомольские собрания. Считалось правилом после работы или школы, хотя это были годы весьма существенной безработицы, побывать в клубе, пообщаться, выяснить последние новости или сообщить свои.
Но вообще, если брать нашу школу (что мне было лучше известно, и кого я лично знала) здесь комсомольцам противостояло аполитичное фрондерство «несоюзной молодежи». Возможно, это было скрытое антикомсомольство.
Так, например, я помню, нам надо было заполнять какую-то анкету, где была графа о социальном происхождении. Я даже не знала, что нужно писать. Но мне объяснили, что необходимо написать, кем являются мои родители: служащие, рабочие, крестьяне и так далее. Ну, отец мой был всегда служащим, я так и написала.
А был у нас в классе очень развитой мальчик, с весьма злым умом – Коля Войт (потом говорили, что он очень печально кончил, но, может быть, и виноват был). В этой анкете о социальном происхождении он написал: «дворянин», причем все это было сделано с вызовом, с гордостью. Жил он с матерью очень бедно. Мать – светская дама, в это время занималась тем, что шила шляпки. Это был их единственный источник существования.
Между комсомольцами и этой аполитичной молодежью часто бывали настоящие побоища. В школьный парк приходило очень много не школьников, в частности ребят, которые хотели сразиться с аполитичными элементами: детьми нэпманов, инженеров или крупных железнодорожных работников. Их вытаскивали в парк, и там обычно происходили баталии.
Однажды я была даже свидетельницей такой драки. Вернее, не совсем свидетельницей. Я танцевала с одним мальчиком, комсомольцем, вдруг к нему подошли другие ребята, что-то ему шепнули. Он извинился передо мной и они все вышли в парк. Когда они вернулись, он сказал: «Ну, мы ему дали жизни!». Кого-то они побили. Вот в таком роде шла жизнь в Чите.
В это время, я говорю о 1924 годе, когда мне пришлось ближе столкнуться с этими людьми, читинский комсомол (и это было не только в Чите) в своем большинстве шёл за Троцким, причем открыто, в непрерывных дискуссиях, вплоть до потасовок.
Сейчас об этом не говорят, как не говорят и о том, что в те времена рядом с именем Ленина обычно ставилось имя Троцкого («Ленин и Троцкий»). Троцкий был тогда очень популярен, просто несравнимо более популярен, чем Сталин, как в центре, так и, особенно, на периферии. А фигура Сталина была мало известна, сравнительно с именами Троцкого, Зиновьева и Каменева.
Это отражалось и в художественной литературе, например, в рассказе Лидии Сейфулиной «Правонарушители» мальчишки дразнили монашек словами: «Ленин, Троцкий, Софнарком[25]». Позже [в других изданиях. – Н.В.] эта фраза была изъята.
Мой поклонник, из комсомольцев, с которым мы очень подружились, решив приобщить меня к общественным интересам, принес мне две книги, до сих пор помню – «Выступление Ленина на III съезде РКСМ» и «Вопросы быта» Троцкого.[26]
В середине 1925 года я переехала в Москву и могла убедиться, что популярность Троцкого совсем не падала и все, что было в газетах, говорило только о том, что идет дискуссионная борьба двух направлений. Выигрышным для Сталина было то, что его направление называлось генеральной линией партии, всё остальное было оппозицией.
Популярность Троцкого имела под собой почву хотя бы вследствие того, что он был блестящим оратором, да и перо его отличалось яркими красками.
Мне помнится, что как раз в то время, когда я ехала из Читы в Москву, я познакомилась с одной женщиной, которая провела свою молодость в Швейцарии. 0на рассказывала мне, что была на каком-то докладе или лекции Троцкого. В зале собралось очень много народа. И Троцкий, характеризуя царский режим в России и убожество тех, кто не борется с ним, заключил свое выступление словами: «Чем так жить, лучше вовсе не жить». В ответ на это раздался выстрел – какой-то русский студент покончил с собой. Так сильно могло влиять его слово.
Еще один факт, случайно запомнившийся, который способствовал популярности Троцкого. В Москве мои подружки учились в одной школе с сыновьями Троцкого. О Льве Седове они отзывались не очень хорошо и активно его недолюбливали, но говорили, что очень хороший парень Сергей. Сергей не уехал с родителями, он остался в Москве, но вскоре был выслан в Красноярск и был, чуть ли не главным инженером Красмаша в Красноярске, затем был посажен в тюрьму и уничтожен[27].
Что же касается Льва, как-то, еще будучи школьником, он попал в какие-то военные казармы и там нахулиганил. Я не помню, в чём состояло его хулиганство, но красноармейцы его побили. Он пожаловался отцу. Троцкий отправился в эту казарму и поблагодарил солдат за то, что проучили его сына, который, видимо, рассчитывал на вседозволенность и безнаказанность, как сын наркома.
Борьба между Сталиным и Троцким, однако, поубавила популярность последнего. Он был снят с поста наркома, исключен сначала из ЦК, потом из партии, высылался из Москвы и, наконец, был выслан из Советского Союза. При этом ни одна страна не хотела его принять, опасаясь его пропагандистского влияния. Как известно, с ним было покончено в Мексике подосланным лицом, который был осужден, а в конце 1950-х гг. его встречали в тогда еще новом районе Москвы, на Ленинском проспекте.
Хочу обратить внимание вот на что. Даже в наши дни, когда речь заходит о Брестском мире и о позиции Троцкого, нарушившего решение ЦК, это рассматривается как измена и как взрослый читатель, так и школьник и даже студент, вправе полагать, что уж во всяком случае, Ленин с ним окончательно порвал. Однако это не так. Именно Троцкий был у основания Красной армии в феврале 1918 г., именно он был назначен наркомом по военным и морским делам и председателем Революционного Военного Совета Республики (РВСР). Вот так.
Эта часть маминых воспоминаний была ею наговорена на магнитофон, специально для этого купленный осенью 1987 года. У нее уже была дикая одышка, она быстро дряхлела физически и быстро уставала, но голова оставалась светлой и память ей мало изменяла. Наговаривать или диктовать она не умела – более привычным орудием производства была механическая пишущая машинка. Когда же и печатать ей стало трудно, она стала писать от руки. Поэтому в магнитофонной записи много повторов, шероховатостей, свойственных устной речи. Мама пробовала редактировать магнитофонные записи, но не успела этого сделать. Эту работу закончить пришлось уже мне.
Ее рассуждения о Сталине и Троцком в ту пору раннего этапа «гласности и перестройки» были ещё новы, ведь имя Троцкого в советской печати того времени даже упоминать было нельзя (цензуру отменили уже после маминой кончины). Не имея под рукой источников, мама воспроизводила то, что сохранилось в памяти: свои впечатления о том времени, о неизвестных и забытых тогда фактах. Конечно же, она знала о судьбе Троцкого, о том, что его убил альпенштоком Рамон Меркадер (знала и это имя). Знала и то, что Меркадер стал Героем Советского Союза. Также она предполагала, что убийство Троцкого было санкционировано Сталиным и проведено энкаведешниками. Но книги Павла Судоплатова, и всех подробностей, связанных с организацией и убийством личного врага Сталина, мама знать не могла. То, что считается общеизвестным сейчас, тогда было тайной за семью печатями.
Однако пора вернуться в Читу. В 1925 году мама окончила школу. Для получения высшего образования, кроме аттестата об образовании, следовало получить рекомендацию школьного совета. Вот этот любопытный документ, весьма характерный для своего времени.
Выписка из протокола заседания школьного совета школы второй ступени № 4 от 11 июня 1925 года
СЛУШАЛИ: заявления выпускных классов 5 «Б» и 5 «А» о желании получить со стороны школьного совета рекомендации отзывов о их работе в школе, в целях возможности подвергнуться испытаниям в аттестационной комиссии для поступления в ВУЗЫ и ВТУЗЫ СССР. В процессе обсуждения вопроса о требованиях, предъявляемых в отношении рекомендуемому, школьным советом отмечается необходимость широкого всестороннего выявления пригодности учащегося, как с классовой точки зрения, так и со стороны его способностей и общего развития. При предъявлении, из подавших заявления тех учащихся, кои вполне отвечают требованиям, предъявляемым к поступающему в ВУЗ
РЕКОМЕНДУЮТСЯ: №12 ВИЛЕНСКАЯ Миля, дочь служащего, находящегося на иждивении СОБЕЗА. Принимала участие в общественной работы школы :член правления литкружка, заведующая литотделом редколлегии живого журнала «Набат», председатель стенографического кружка, секретарь класса, секретарь хозяйственной комиссии, председатель политкружка; выявила хорошее развитие и незаурядные способности по всем предметам (за исключением математики, по которой у Виленской выявлены средние познания).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Принимая во внимание хорошее общее развитие и хорошие способности Виленской, школьный совет находит возможным рекомендовать её в ВУЗ, выставляя кандидатуру Виленской на 12-е место в порядке первой категории.
С подлинным верно. Секретарь школьного совета Орлов[28].
Что такое 12-е место в порядке первой категории, выяснить не удалось. В конце июня 1925 года мама навсегда уехала из Читы. Путь её лежал в далёкую Москву
ВТОРОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: АСЕНЬКА
Летом 1925 года мама переехала в Москву и поселилась в доме своей тетушки, старшей сестры моего деда, врача Анны Семеновны Виленской-Зеликиной. Поскольку в дальнейшем она будет играть важную роль и в маминой и моей жизни, о ней стоит рассказать особо.
Ее называли по-разному: пациенты и сослуживцы – официально Анна Семеновна, родные и старые друзья – чаще всего Анюта, Анечка, а её двоюродная внучка (своих детей у Анны Семеновны не было) дала ей новое имя – Асенька.
Анна Семеновна (Эстер-Хана) родилась в 1877 году то ли 4-го, то ли 22 июня (в разных документах дата дается по-разному) в местечке Бровары, что в 20 километрах от Киева. Ее отец, а стало быть, мой прадедушка Симха (Семен), работал на строительстве железных дорог, а мать Михля (в память которой и назвали мою маму) была домохозяйкой. Семья по меркам того времени была не очень большая: три девочки и два мальчика, младшим из которых был мой дедушка – Самуил.
В местечке, где жила семья, была только церковно-приходская школа, куда, естественно, еврейских детей не принимали. Но Анна, отличавшаяся целеустремленностью, во что бы то ни стало желала получить полноценное образование. Для этого в 1893 году шестнадцатилетней девушкой она отправилась в г. Переяславль Полтавской губернии, где проживала её тетка по матери, и поступила в женскую четырехклассную прогимназию, которую и окончила через семь месяцев, получив соответствующий документ. [29]
Однако продолжать учебу из-за отсутствия средств Анюта не смогла. Вернувшись в Бровары, она открыла бесплатную школу для бедных еврейских девочек. Школа эта, основанная на благотворительные пожертвования, просуществовала несколько лет. Детей учили грамоте, какому либо женскому ремеслу и в дальнейшем определяли к ремесленникам: шить платья, бельё, чулки; выделывать шляпки и т.д.
Кроме отсутствия в семье средств на образование, мать Анны Семеновны (по моим воспоминаниям) категорически возражала против получения еврейской девушкой какой-либо специальности, считая, что ее предназначение – прилично выйти замуж, рожать детей и вести домашнее хозяйство. Однако «в 20 лет, – как пишет Анна Семеновна, – у меня проснулась жажда знаний. Я в секрете от матери стала изучать массаж и 2 раза в неделю ездила в Киев на практические занятия»[30]. Через 4 месяца она получила диплом массажистки, а в 1900 году поступила на годичные фельдшерские практические курсы в Киеве.
Киевская губерния входила в черту оседлости. Но в самом Киеве, поскольку там находилась Киево-Печерская лавра, евреям, не имевшим специальности, жить запрещалось. Тогда, как и сейчас, мир был не без добрых людей. Один знакомый прописал Анюту бонной к своим детям, что давало ей право проживать в Киеве.
Однако бдительный участковый пристав стал замечать, что бонна не выполняет своих педагогических функций и не занимается своими воспитанниками и аннулировал вид на жительство. Тут-то и начались ее мытарства. Анюте пришлось купить желтый билет, который давал возможность проживания женщинам древнейшей профессии, в том числе и еврейкам, даже в богоспасаемом Киеве. Но, тот же пристав потребовал его обслужить и ей, бедняге, приходилось прятаться и постоянно менять место ночлега. Через год, получив диплом фельдшерицы, она приобрела законное право проживания в Киеве и поступила на службу в инфекционное отделение Киевской еврейской больницы. В 1903 году она окончила еще и акушерские курсы и на протяжении пяти лет служила фельдшерицей и акушеркой сначала в Самарском, а потом в Саратовском земствах.
В Саратовском земстве Анюта служила в амбулатории земской больницы в селе Романовка Балашовского уезда Саратовской губернии. Здесь же, не прекращая службы, она экстерном сдала экзамены за полный гимназический курс, что давало ей право поступить в университет. В Саратовском земстве она сблизилась с революционерами, по-видимому, социал-демократического направления и принимала участие в деятельности нескольких подпольных кружков. Через своих киевских знакомых она по почте на адрес больницы получала и распространяла «Искру». К этой же деятельности был привлечен и мой дедушка. Кружки эти просуществовали всего 8–9 месяцев и были разгромлены полицией. Анюта случайно осталась на свободе, поскольку ночевала при больнице, но ее «жених» и многие ее друзья были арестованы. Молодой фельдшерице пришлось оставить место и уехать в Полтавское земство, но и оттуда ее вскоре уволили, как политически неблагонадежную. С таким волчьим билетом она никуда на службу поступить не могла[31].
Стремясь получить высшее медицинское образование, Анюта осенью 1908 г. поступила на медицинские курсы, организованные в то время при Юрьевском университете. Но и здесь она столкнулась со своим еврейским происхождением. Юрьев (Дерпт) не входил в черту оседлости, а потому неработающим евреям в этом городе жить не разрешалось. Анюта, пытаясь обойти закон, получила вид на жительство как практикующая фельдшерица-акушерка (в виде на жительство так и написано: «повивальная бабка»). Но это обязывало ее еженедельно давать сведения врачебному инспектору о количестве принятых родов. Поскольку родов «повивальная бабка» не принимала, вид на жительство был отменен и ей вновь пришлось некоторое время жить по желтому билету. А в 1909 году она вышла замуж за своего двоюродного брата Льва Яковлевича Зеликина, имевшего звание потомственного почетного гражданина, которое снимало все ограничения для евреев в передвижении по территории Российской империи. Лев Яковлевич, которого все домашние называли не по имени, а просто дядя, был управляющим имением в Смоленской губернии и одновременно работал в лесном хозяйстве. (Что это значит, я не знаю, но думаю, что он торговал лесом или древесиной, о чем в советское время говорить, а тем более писать в анкетах, было не принято: последствия могли быть самыми печальными). С тех пор в официальных бумагах она именовалась А.С. Виленская-Зеликина.
Проучившись в Юрьеве три курса, Анюта перевелась в только что открывшийся женский медицинский институт харьковского медицинского общества, который и закончила в 1914 году в возрасте 37 лет, предварительно сдав многочисленные выпускные экзамены. Наконец-то долголетняя мечта Анны Семеновны реализовалась – она получила диплом врача-терапевта и врача-инфекциониста. Она была в числе первых выпускников института, который затем стал называться Харьковским мединститутом.
По окончании мединститута Анна Семеновна работала участковым врачом в земской больнице в поселке Жуковка Брянской губернии, а затем в Смоленской губернской земской больнице и, кроме того, имела частную практику. На ее визитке так и значилось: «женщина-врач по внутренним, инфекционным и детским болезням». Частная практика, которая и должна была приносить основной доход, как тогда, так и потом была у Анюты весьма своеобразна. Денег с неимущих пациентов она не брала, более того, она им помогала всем, чем могла – деньгами, едой, одеждой и т.п. Такой порядок был заведен до революции и сохранился до конца ее дней. Оплачивали визит только состоятельные пациенты. Еще в 50-е годы прошлого века ее близкие могли получить примерно такую телеграмму: «Двум мужчинам быть в такое-то время на таком-то вокзале у такого-то вагона Анюта». Это означало, что Анна Семеновна, находясь, например, в Цхалтубо, закупила фрукты и пересылает их с проводником в Москву. К тяжеленным посылкам прилагался длинный список, в котором перечислялось кому, куда и сколько этих фруктов нужно доставить.
После революции, примерно в 1918-1919 году, Анна Семеновна пыталась уехать из голодной и неприветливой Советской России поближе к родным, в Харбин. Но из этой затеи ничего не получилось. Ее обманул проводник, который, получив задаток, довел Анюту до границы и исчез. Несолоно хлебавши, ей пришлось вернуться к мужу в Смоленск.
В начале 1924 г. Анна Семеновна переехала в Москву, куда ранее перевели на работу дядю Леву. Здесь она продолжала свою врачебную деятельность: заведовала домом матери и ребенка, была врачом-терапевтом амбулатории Госбанка, одновременно трудилась в терапевтическом отделении больницы им. Снегирева.
С 1930 г. по 1941 г. служила в больнице им. Боткина, сначала ординатором инфекционного отделения, а затем с 1939 г. заведующей инфекционным отделением и, одновременно с этим, была врачом-терапевтом в клинике профессора Вовси при Боткинской больнице. В 1937 году по навету соседки Анну Семеновну арестовали, и несколько недель продержали под следствием. Ей инкриминировали участие в каком-то антисоветском заговоре. Ее муж бегал по всяким инстанциям, поднял на ноги чуть ли не всю Москву. И, о чудо, Анну Семеновну отпустили и все обвинения были сняты. Она никогда об этом эпизоде своей биографии не вспоминала.
С начала Великой Отечественной войны, до отъезда в эвакуацию, заведовала здравпунктом на станции метро «Динамо».
Анна Семеновна эвакуировалась из осажденной Москвы со 2-м часовым заводом, взяв с собой всех ближайших родственников, в том числе и мою родную бабушку Клару Ильиничну.
До 1942 г., находясь в Казани (навигация уже закончилась, и в Чистополь завод не попал), Анна Семеновна работала ординатором больницы и наряду с этим старшим врачом временной инфекционной больницы, а также обслуживала рабочих часового завода. В Казани в январе 1942 г. умер дядя Лева. Переехав в Чистополь в мае 1942 г. она организовала поликлинику завода и была ее директором до декабря 1943 г.
По возвращении в Москву, она служила терапевтом-консультантом в поликлинике 2-го Мединститута. Асенька работала бы и дальше, но ее в период борьбы с космополитизмом, как и многих других, уволили с работы. Но ее пациенты приходили к ней домой, и она их бесплатно пользовала. Анюта во всякое время суток выезжала к больным в любой конец Москвы. Иногда она брала и меня с собой, и я с гордостью нес ее медицинский саквояж, точно такой, какой был на картинке у доктора Айболита.
Даже тогда, когда ее любимая сестра «баба Соня» умирала, Анюта пошла на вызов к серьезно заболевшему соседскому ребенку, поставила диагноз, назначила лечение. За время ее отсутствия Софья Семеновна скончалась. Это не было бездушие. Сестре она помочь уже не могла, зато могла помочь ребенку. Когда родные и близкие пытались отговорить Асеньку от далеких, особенно ночных вызовов, она неизменно отвечала: «Я дала торжественное институтское обещание помогать людям и этого обещания я никогда не нарушу». Спорить было бесполезно.
Анюта единственная из всех братьев и сестер получила высшее образование, чем очень гордилась, поскольку всего добилась сама.
Анна Семеновна была абсолютно бескорыстным человеком и материально помогала не только многочисленной родне, но и своим пациентам. При этом она была очень энергична и властна – ее решения были абсолютны и не подлежали обсуждению. Весь дом держался на ней. Я ее застал уже больной старушкой, похоронившей мужа, всех своих братьев и сестер, и называл ее бабушкой. Когда мама получила комнату, а потом и квартиру на Университетском проспекте, бабушка переехала к нам и обязанность ухаживать за ней лежала на мне. Она была к тому времени парализована и не могла сама себя обслуживать. Умерла Анна Семеновна 7 февраля 1964 года.
С 1924 г. параллельно с учебой Э.С. Виленская работала в различных организациях: машинисткой в читинском клубе совработников, счетоводом в московской конторе Госбанка, помощницей редактора в издательстве «Огонек», Финиздате. В 1931 г. Виленская перешла в издательство массовой партийно-политической литературы «Маспартгиз». Эта организация в 1931 г. и командировала ее на учебу в Редакционно-издательский институт ОГИЗа. После его ликвидации в 1933 г. Виленская была переведена в Историко-философский институт (МИФЛИ) на исторический факультет. Однако и здесь закончить образование Эмилии Самойловне не удалось.
МОСКВА
Окончив школу, мама в 1925 году переехала в Москву и поселилась в квартире своей тетки Анны Семеновны.
В Москве мама некоторое время училась в Высшем литературно-художественном институте, ректором и профессором которого был известный поэт В.Я. Брюсов. Мама любила и знала поэзию, а в школьные годы и сама писала неплохие стихи. Этому занятию она и хотела себя посвятить. Но Брюсов в октябре 1924 г. умер, а институт через год после смерти его основателя распустили. Других учебных заведений подобного рода тогда не было, и маме заново пришлось искать место учёбы.
В 1926-1927 гг. она последовательно пыталась поступить в Московский промышленно-экономический институт им. Рыкова, институт Народного хозяйства им. Плеханова, в I МГУ. В 1929-1930 гг. Виленская училась на курсах заочного образования при I МГУ. Однако перевестись на очную форму обучения ей никак не удавалось.
Не желая сидеть на шее своих родственников, мама, видимо по протекции Анюты в феврале 1926 года, поступила на работу в Госбанк и проработала полгода в его Московском отделении младшим счетоводом. Человеку творческого склада, каким была мама, эта работа вряд ли приносила удовлетворение. Но в жизни, казалось бы, ненужные знания, потом оказываются нужными и востребованными. И навыки счетного работника, которые она получила в Госбанке, не раз потом помогли маме выжить и сослужили ей неплохую службу.
Одновременно мама активно занималась самообразованием и подготовкой к поступлению в институт. Но с институтом дела обстояли сложнее. Дело в том, что в то время на вступительных экзаменах даже в гуманитарный институт сдавались все предметы школьного курса, но это было преодолимо. Мама хорошо училась в школе и потом не раз помогала мне решать школьные задачи по алгебре и геометрии.
Непреодолимым было другое: гуманитарные вузы были почти все коммунизированы и беспартийных туда не принимали. К тому же, поступлению в институт мешало ее социальное происхождение. «Из семьи служащих» в Вузы почти не принимали. Изменить же свое социальное происхождение никто не в силах, мы же не выбираем себе своих родителей. Советская власть всегда учитывала это обстоятельство, проводя свою анкетно-классовую политику. Служащие, особенно на ранних этапах существования Советского государства, были не то чтобы классово чужды новой власти, но классово ненадежны. Одним словом, «попутчики» – словцо, которое было пущено в оборот одним из руководителей РАПП И. Вардиным и имело в то время широкое распространение.
Мама была принципиально честной и правдивой, часто во вред себе. Она не могла написать неправду в анкете даже ради достижения поставленной цели, и поэтому на протяжении шести лет, вплоть до 1931 года, дорога к высшему образованию для нее была закрыта.
В декабре 1928-го во время командировки в поезде от сердечного приступа умер мой дедушка Самуил Семенович Виленский. Похоронили его на станции Тайшет. Было ему всего 45 лет. В то время он работал распространителем в Акционерном издательском обществе «Огонек» и от его имени развозил продукцию или заключал коммерческие договоры. Семья лишилась единственного кормильца. Издательство пошло навстречу и, хотя в стране была безработица, взяло на службу дочь своего умершего сотрудника. Так мама впервые попала в издательство, в котором работала помощником редактора или, как она говорила, девочкой на подхвате.
[ВЫДВИЖЕНЦЫ[32]]
Так называемый ленинский набор в партию происходил после смерти Ленина. Впрочем, если бы и при жизни, то не он бы его осуществлял и контролировал. Дело, видимо, происходило так: в районы или на предприятия давалась разнарядка. Укрепило ли это партию морально? Прием в партию – дело сугубо индивидуальное, а не массовая кампания, особенно, когда речь идет об однопартийной системе и о господствующей партии. Много ли имен знаем мы, которые выросли в видных деятелей из числа привлеченных по ленинскому набору?
А потом кампания выдвиженцев... С двумя выдвиженцами мне пришлось столкнуться.
Первый с завода «Борец» – Ратнер. Он был из числа рационализаторов и изобретателей. На рубеже 20 – 30-х гг. он был привлечен на работу в журнал «Изобретатель» (издательство «Огонек») то ли на должность консультанта, то ли литработника. Человек он был малограмотный, но хорошо разбиравшийся в производстве на уровне тех лет. Он целыми днями ходил по предприятиям, выявляя рабочих – изобретателей и рационализаторов. Не считал для себя зазорным, консультироваться с главным консультантом редакции профессором (в то время) Чудаковым. То же, что писал Ратнер, приходилось переписывать заново зав. редакцией[33], а иногда он прибегал к моей помощи. Не знаю его дальнейшей судьбы, но он явно был перспективен и не кичился ни своим классовым происхождением, ни новой своей ролью.
Впрочем, такого же рода выдвиженцем являлся Юзеф Полевой[34]. Безо всякого образования, и к тому же с чисто одесским вариантом русского языка, он попал прямо в Институт красной профессуры.
Важно, что как один, так и другой относились к своему выдвижению без мысли о том, чтобы сделать карьеру, без высокомерия и спеси.
Иным был третий известный мне выдвиженец. Кажется, фамилия его была Кондратьев. Он тоже был выдвинут в редакцию в качестве секретаря выпускающего журнала «Финансы и народное хозяйство»[35].
Заведующей редакцией была Елена Яковлевна Ревзон, женщина образованная, интеллигентная, большая приятельница Куйбышева. Она не могла сработаться с Кондратьевым и из-за его малограмотности, и из-за того, что тогда называли комчванством. Она ушла, а он сумел быстренько занять ее место, и в редакцию требовался ответственный секретарь, он же и выпускающий.
Я была назначена на эту должность, которая для меня была совершенно новой. На помощь Кондратьева рассчитывать не приходилось. Мне повезло в типографии с метранпажем, старым опытным типографщиком. Он обучил меня строить номер, так что другие метранпажи не догадывались о моем недавнем невежестве и говорили: «наконец-то в журнале появился человек, за которого нам не надо работать».
Кондратьев, проработав в должности выпускающего год с лишним, так и не заинтересовался тем, как монтируется номер. Зато он любил писать статьи. Чаще всего это было изложение каких-нибудь инструкций или сокращенный вариант передовицы «Правды». За это платили гонорар, а править статьи, как ответственному секретарю, полагалось мне.
Работая в издательстве, мама упрямо готовилась к вступительным экзаменам и одновременно занималась английским языком на курсах, которые вел С.К. Боянус. Благодаря этим курсам, мама свободно читала на английском языке научную и художественную литературу. Сохранился ее перевод полузапрещенной в СССР работы К. Маркса «Тайная дипломатия», который она сделала в 1930-е годы.
Вечера, когда на курсах не было занятий, она проводила в Ленинской библиотеке, осваивая мировую классическую литературу. Здесь же она и познакомилась в 1929 году с Митей Веретенниковым и вскоре стала его женой.
[МИТЯ ВЕРЕТЕННИКОВ[36]]
Я в долгу, в неоплатном долгу перед двумя людьми, погибшими в сталинской мясорубке 30-х годов, тогда как я сама отделалась «малой кровью».
Они не являлись государственными деятелями, их жизненные масштабы были намного скромнее. И все же история каждого из них отличается своей неповторимостью и шире освещает наше трагическое прошлое.
Один из них – Дмитрий Владимирович Веретенников. Это был мой первый муж, разойдясь с которым в 1931 г., я продолжала сохранять самые дружеские отношения.
Раньше, чем начать рассказ о Мите Веретенникове, объясню, откуда взялась вторая фамилия.
Поженившись, мы в ЗАГСе не оформляли наш брак. Это в те времена было не только не обязательно, но и не принято. Однажды, уже на втором году совместной жизни, мы проходили мимо ЗАГСа и Митя, шутя, сказал: «Давай зарегистрируемся». Я поддержала шутку. Паспортов в то время не было, только удостоверение – либо студенческое, либо с работы[37]. Когда нас спросили о смене фамилии, я ответила, что остаюсь при отцовой, а Митя вдруг заявил, что будет менять. Он не прочь был оригинальничать и здесь явно соригинальничал. По его заявлению был издан на рабфаке искусств (где он учился) приказ о замене фамилии[38]. Но фактически он оказался с двумя фамилиями.
Он был единственным сыном у своих рано скончавшихся родителей. Его отец Веретенников Владимир Иванович, математик по специальности, был двоюродным братом детей И.Н. и М.А. Ульяновых и вместе с ними и родными братьями и сестрами проводил летние каникулы в Кокушкине. От политики и всякого рода общественно-политической деятельности он был далек.
Мать Мити, урожденная Подарина, преподавала музыку и языки. В начале первой мировой войны она вместе с Митей ехала в Сибирь, заразилась по дороге сыпняком и скончалась в Шадринске. Митю приютил какой-то крестьянин-сапожник, затем его разыскала бабушка (Подарина) и увезла к себе в Осу – маленький городок на берегу Камы.
Думаю, что еще в Осе Митя занялся языками и к тому же много читал. Человеком он был весьма необычным и, несомненно, одаренным. Обладая прямо-таки фотографической памятью, Митя был полиглотом, знал не только все европейские языки (читал и переводил), но и восточные – арабский, хинди, а также санскрит, древнегреческий, латынь, древнееврейский и др. Превосходно знал мировую литературу. Кроме того, он хорошо рисовал и лепил, писал и переводил стихи. Но был совершенно не способен к обобщениям и чужд общественно-политических проблем. Были у него и другие странности, он не воспринимал музыки и активно не любил театр.
Не помню, почему его 15-16 летнего, бабушка отправила в Москву. Сначала он жил в семье своего родного дяди Николая Ивановича Веретенникова, его жены Ольги Петровны и старшей сестры Любови Ивановны. Затем Анна Ильинична Елизарова-Ульянова забрала его к себе и настояла, чтобы он поступил на рабфак искусств. Был такой при Высшем художественно-техническом институте, который позже был преобразован в Архитектурный институт.
Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление, характеризующее эпоху и людей. Николай Иванович, позже выпустивший книгу «Володя Ульянов», жил с семьей в каком-то полуразрушенном флигеле по улице Маркса-Энгельса, напротив старого здания библиотеки им. В.И. Ленина. Это было весьма убогое жилище, но позже территория двора потребовалась для каких-то целей, и их переселили на Арбат, тоже во флигель, еще более убогий. Там Николай Иванович и умер.
Вот так тогда было – ни льгот, ни привилегий. Ведь много еще рабочих жили в подвалах, но сталинская бюрократия обеспечивалась жильем в первую очередь.
Но вдруг, в конце 50-х годов, когда Ольга Петровна оказалась одной из немногих родственниц Ульяновых хотя бы по мужу, к ней явились «дяди из Моссовета» и предложили переехать в отдельную квартиру в доме первой категории по ее выбору. Она просила поселить ее вместе с приятельницей, т.к. была стара и больна и поблизости от Новодевичьего кладбища, где была могила Николая Ивановича. И ей дали квартиру в новом доме, там, где кинотеатр «Спорт».
Когда в 1936 году меня выслали из Москвы за мужа (второго), за комнату в коммунальной квартире судились НКВД и секция научных работников, на учете которой было жилье московской профессуры. Не помню уж, кого поддержал суд, но управдом, живший в этой квартире с женой и детьми, взломал дверь и занял эту комнату. Его не выселяли.
Но вернемся к Мите. Были мы почти ровесниками – он старше на 2 года. Но с его высокой родней я была знакома только по телефону. Стеснялась. Ведь когда начался роман с Митей Веретенниковым, я ничего о нем не знала. Я познакомилась с ним, когда он был студентом рабфака, а я работала «на подхвате» в издательстве «Огонек», жургазобъединении, основанном Михаилом Кольцовым.
Рабочий день тогда составлял 6 часов, и после работы и обеда дома (жила я у Никитских ворот, у родной своей тетки – врача Боткинской больницы), отправлялась в читальный зал библиотеки им. В.И. Ленина, в старое здание («Пашков дом»). Нового ещё не было в замысле. Занималась там до вечера, за исключением тех дней, когда были занятия на курсах английского языка (позже эти курсы были преобразованы в Институт иностранных языков им. М. Тореза). Митя также после занятий на рабфаке все вечера проводил там же.
Сейчас трудно сказать, почему я обратила внимание на несколько странного паренька в сером, вечно мятом костюме и рубашке без галстука и с необыкновенным взглядом серо-синих, почти сиреневых глаз и с сиреневатыми веками. Какой-то он весь был необычный, особенно когда в кулуарах очень оживленно о чем-то беседовал, как позднее узнали, с Алексеем Николаевичем Лебедевым[39].
Заинтересовавшись им, я решила в его отсутствие за столом взглянуть на книги, которыми он занимается. Медленно идя по ряду, я взглянула по правую руку – это было нечто, напечатанное латинским шрифтом, но это был не английский, французский, немецкий или итальянский языки. Я попросила приятельницу Галю [Коробьину] взглянуть и высказать свое мнение. Но она посмотрела на книги по левую руку и обнаружила арабский шрифт и какой-то похожий на арабский, но ей неведомый. Конечно, мое любопытство возросло. К тому же я обнаружила, что он тоже интересуется, чем занимаюсь я, это было заметно, потому что, войдя в зал позже меня, разыскивает, здесь ли я и где сижу.
Ничего-то я о нем не знала. Когда спросила кого-то из завсегдатаев читального зала, мне только и сказали, что все зовут его «капитаном Немо», что он занимается языками разных народов и великолепно знает мировую классику разных эпох.
В курилке во время какого-то общего разговора, мне пришлось не то ему в чем-то возразить, не то, напротив, поддержать, а скорее всего, спросить о чем-то спорном, чего я попросту не знала. Этих незначительных реплик оказалось достаточно для того, чтобы он стал со мною при встрече раскланиваться. Но кроме «Немо», я о нем ничего не знала. Видно было только, что он из интеллигентной семьи и знает, как надо себя вести воспитанному человеку, что было в те годы редкостью.
Как-то мы почти одновременно вышли из библиотеки. Я на курсы, а он еще куда-то, но в мою же сторону, к Остоженке. Вот тогда-то мы и разговорились. Митя любил блеснуть своими познаниями и прямо-таки ошарашивать слушателя.
Не помню, пошла ли я в тот день на курсы, но в последующие вечера часто пропускала занятия. [...]
В 1938 году была арестована группа молодых архитекторов, года за три до того окончивших Архитектурный институт в Москве, что сейчас находится на Рождественке (предпочитаю называть по-старому, а не улицей Жданова). В их числе был Веретенников (Виленский) Дмитрий Владимирович. В том же году дело по этой группе было прекращено за отсутствием обвинительных материалов, все освобождены и отпущены по домам. Веретенникова среди них не было, его еще раньше остальных от тюрьмы освободила смерть.
Когда все это случилось, я находилась далеко от Москвы – в красноярской тюрьме. Об аресте Мити узнала от своей мамы, приехавшей ко мне в Красноярск, уже освободившейся, во время войны. Судьбы его она не знала. Но, как известно, мир наш тесен. Окончилась война, прошло несколько лет, и я вернулась в Москву. Как-то во второй половине 40-х годов приехала из Курска и жила у меня моя подружка с 1-го курса института.[40] И надо же было ей в тот короткий срок, что она здесь находилась, встретить своего школьного приятеля, одного из арестованных в 1938 году архитекторов, и узнать от него о смерти Мити от туберкулеза в тюремной больнице.
Я никак не могла понять, откуда туберкулез? И об этом я узнала благодаря той же банальной тесноте мира. Это произошло уже в благословенные пятидесятые. В сектор Института, где я работала, поступил новый сотрудник, доктор наук. Зная уже мою фамилию, он спросил о моем отношении к Веретенникову-Виленскому. Оказалось, что жена этого сотрудника работала вместе с Митей, была с ним дружна, поэтому знала и обо мне, и она рассказала, что перед арестом Мити, у него был гнойный плеврит. Видимо не долеченный, он получил в тюрьме благоприятную почву для развития туберкулеза. Вот так это было. Он прожил на белом свете всего 31 год.
ТРЕТЬЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
У матери Ленина – Марии Александровны, урожденной Бланк, был один брат Дмитрий и четверо сестер: Анна, Любовь, Екатерина и Софья. Старшая из сестер Анна (родилась в 1831 г.) вышла замуж за Ивана Дмитриевича Веретенникова. От этого брака родились две дочери: Любовь и Екатерина и четыре сына: Дмитрий, Александр, Владимир и Николай. Владимир Иванович был отцом Мити, а Николай Иванович– его дядя, автор книги «Володя Ульянов».
К моменту составления завещания сын Александра Дмитриевича Бланка – Дмитрий умер (он покончил жизнь самоубийством). И по завещанию имение Кокушкино было разделено на четыре доли, по количеству дочерей. В Кокушкино «более или менее оседло», по выражению Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, проживали семьи двух сестер Любви Александровны Ардашевой-Пономаревой и Анны Александровны Веретенниковой. Остальные наследницы приезжали в Кокушкино лишь на летние месяцы. Поэтому многочисленное потомство дочерей Александра Бланка, т. е. его внуки и внучки, а между собой двоюродные братья и сестры, проводили летние каникулы вместе. Особой дружбы между родителями, судя по всему, не было, также как и между двоюродной родней. [41]Таким образом, Митя приходился двоюродным племянником Ленину и его сестрам.
Стоит привести еще один фрагмент маминых воспоминаний, написанных ранее, в середине – конце 1970-х годов, дополняющий образ и характер Мити.
Митя Веретенников был человеком весьма сложной психической организации с резко перемежавшимися настроениями – от беспричинной веселости до состояний глубокой душевной депрессии. Раздражался любым массовым скоплением людей, предпочитал камерную обстановку и длительные беседы, но главным образом с одним только собеседником. Избегал поэтому театра, кино, концертов и других массовых зрелищ. Жил преимущественно чисто интеллектуальной жизнью, обладая в некоторых областях незаурядной эрудицией. Помню, что в 193I г., когда ему по некоторым делам пришлось встречаться в официальной обстановке с Н.И. Бухариным, он поразил последнего объемом и характером своих знаний и интересов, и официальный визит превратился в длительную литературную беседу.
Митя обладал феноменальной памятью. По аналогии с понятием «абсолютный слух» можно сказать, что у него была абсолютная память. Это способствовало его лингвистическим увлечениям. Он изучил самостоятельно, по нашим с ним подсчетам, свыше 30-ти языков. Свободно читая и переводя, он, однако, знал разговорно, и то не в совершенстве, только французский. Кроме всех европейских и ряда не европейских языков в его активе были и древние, в том числе санскрит.
На моих глазах он начал заниматься одним из труднейших европейских языков – венгерским, а через 2-3 недели переводил уже стихи Гидаша, и автор остался доволен его переводами. Позже он поступил вольнослушателем на японский факультет Института востоковедения.
Превосходно знал мировую литературу разных эпох. Писал и сам в стихах и прозе. Сохранилась первая часть его биографического романа.
Одним из главных увлечений Мити были живопись и скульптура. Он окончил рабфак искусств при ВХУТЕИНе по изо-факультету. С ликвидацией ВХУТЕИНа, реформированного в Архитектурный институт, поступил в последний, а по окончании работал референтом на постоянной Строительной выставке. Писал красками и лепил «для себя», но почти ни одной работы до конца не доводил, так же как и поэтические переводы.
Любил поражать неожиданностью мыслей или поступков. К числу последних отношу и перемену фамилии на мою, что явилось и для меня полной неожиданностью. Был кристально честен, не способен на малейшую ложь или неискренность, но не был лишен и элементов рисовки, в чем также честно признавался.
В 1956 году мама стала хлопотать о реабилитации Мити. Но в Главной военной прокуратуре ее попросили отложить свое ходатайство, так как реабилитировали в первую очередь оставшихся в живых.
В 1960 году мама вновь подала заявление и 26 мая 1961 года она получила справку о реабилитации Д.В. Виленского (Веретенникова). Мамину фамилию он сохранил и после развода.
В либеральные горбачевские времена, но уже после маминой кончины, в 1989 году я обратился в КГБ СССР с просьбой ознакомить меня с делом Мити. Дела мне не дали, поскольку я не был его близким родственником, но прислали письмо, в котором уточняются некоторые подробности Митиной биографии.
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР
Управление по городу Москве и Московской области
Группа реабилитации
12.07.90г. № 6/В-934
Москва
Виленскому Николаю Алексеевичу
117261 г. Москва,
Ленинский пр – т, д. 70, кв. 531
Уважаемый Николай Алексеевич!
В Управлении КГБ СССР по г. Москве и Московской области рассмотрено Ваше заявление в отношении Виленского Д.В.
По имеющимся документальным материалам Виленский Дмитрий Владимирович 21 июня 1907 г, р., урож. г. Ленинграда, беспартийный, проживал по адресу: г. Москва, Манежная ул., д. 9, кв. 11. Работал референтом Центральной строительной библиотеки. Арестован 6 ноября 1938[42] года по необоснованному обвинению в антисоветской деятельности, т.е. по ст.58 п.п. 8, 10, 11 УК РСФСР. Находясь под следствием, 3 мая 1939 года он скончался от мелиарного туберкулеза. Содержался в Таганской тюрьме.
Решением Подготовительного заседания Военного трибунала МВО от 19 мая 1939 года уголовное дело в отношении Виленского Д.В. производством прекращено на основании п.1 ст.4 УПК РСФСР в связи со смертью обвиняемого.
Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР № 1н-221/61 от 23 мая 1961 года решение подготовительного заседания Военного трибунала МВО от 19 мая 1939 года изменено, дело производством прекращено на основании п.2 ст.5 УПК РСФСР, т.е. за отсутствием состава преступления. Виленский Дмитрий Владимирович реабилитирован. Справка о реабилитации была выдана гражданке Виленской Э.С.
Согласно документальным материалам, данными о конфискации каких-либо книг и документов не располагаем.
Из протоколов допросов Виленского Д.В. следует, что его отец Веретенников Владимир Иванович, до революции работал доктором медицины и преподавателем математики, по происхождению дворянин, умер в 1914 году. Мать Веретенникова (Падарина) Лия Михайловна до революции преподавала иностранные языки в средних учебных заведениях, умерла в г. Шадринске, куда эвакуировалась при отступлении белых из г. Оса.
После смерти родителей, Виленский Д.В. воспитывался у бабушки Падариной Леониллы Аркадьевны, умершей в г. Лосино-Островский, куда она переехала за год до смерти из г. Оса.
Виленский Д.В. впервые приехал в г. Москва в 1923 году. Проживал у своего дяди по отцу Веретенникова Николая Ивановича по адресу: г. Москва ул. Волхонка, д.7. Веретенников Н.И. в этот период работал в Наркомфине.
В 1924 году Виленский Д.В. заболел сильным нервным заболеванием и провел 10 месяцев в Покровском-Стрешнево, затем возвратился в г. Оса.
В 1928 году он опять приехал в г. Москву, где обратился к А.И. Елизаровой с просьбой помочь устроиться на работу или получить возможность продолжить учение. Некоторое время проживал у нее. В 1929 году он поступил на рабфак искусств. В этот же период женился на Виленской Эмилии Самойловне, с которой встретился в Ленинской библиотеке. В 1932 году она с ним развелась, чтобы выйти замуж за профессора-историка Бочарова Юрия Михайловича[43].
По окончании рабфака, он обратился за помощью к М.И. Ульяновой с просьбой о содействии в поступлении в институт. Она посоветовала ему обратиться к Бухарину в ВСНХ, с которым переговорит. После этого, получив от Бухарина записку, Виленский был принят на вечернее отделение Архитектурного института, который окончил в 1936 г.
По имеющимся данным, в г. Харькове проживал дядя по матери Падарин Александр Михайлович, работавший инженером железной дороги.
В материалах дела имеется выписка, из истории болезни Виленского Д.В., где сказано, что 21.06.1932 года он по просьбе М.И. Ульяновой поступил в санаторий больницы им. Кащенко. Выписан 28.07.1932 года. Вторично поступил в санаторий 08.07.1933 года и выписан 08.08.1933 года. Диагноз: Инактивная форма шизофренического процесса.
Другими данными из биографии Виленского Дмитрия Владимировича не располагаем.
Высылаем в Ваш адрес фотокопию фотографии Виленского Д.В. из удостоверения водителя.
Учитывая, что Вы не являетесь родственником Виленского Д.В., и в связи с действующим в настоящее время уголовно-процессуальным кодексом РСФСР, удовлетворить Вашу просьбу об ознакомлении с делом не представляется возможным.
С уважением
Заместитель начальника Отдела исп. Логинов А.Н.
Н.В. Грашовень
В мамином архиве долгое время хранились фотографии Мити, его рукопись неоконченной автобиографической повести, автограф А.И. Елизаровой-Ульяновой и другие документы. Но, как-то по просьбе Ольги Петровны Веретенниковой (жены Николая Ивановича), в конце 1969 г. мама передала для ознакомления эти материалы некоему проходимцу Артуру Юстусу, который якобы писал книгу о детях, воспитывавшихся в семье Ульяновых (сам он тоже у кого-то из них воспитывался). Я был против этого и уговаривал маму ничего не давать. Но тот уверял, что через неделю – 10 дней все вернет, что ему можно верить и за него ручается Ольга Петровна. Так фотографии и рукописи перекочевали к Юстусу, который их передал как свои собственные в ИМЭЛ.
В маминых бумагах случайно сохранилось единственное, весьма своеобразное по стилистике, письмо Мити, написанное в 1930 г.
МИТЯ ВЕРЕТЕННИКОВ – МАМЕ[44]
8 апреля 1930 г.
Почему ты не пишешь, Миля, – как говорит Эмма. Честное слово меня начинает это беспокоить, или я уже тебя «потерял»? Впрочем, это, конечно, чушь, но все-таки я не понимаю в чем дело.
Я вообще живу. Пью млеко, рисую, есть, кажется, интересные работы. 20 мая увидишь. С Шиловым (педтехпедагог, упоминается в романе) собираемся покататься по разливу. Играю в пинг-понг. В техникуме опытная школа приняла в себя балетную школу имени Луначарского. Все скачут, и мальчишки (фи!) и де-во-чки ма-лень-ки-е через веревочку. Женя (Галина подруга) определенно отяжелела, как Гельцер. Я провел соцсоревнование и присудил награду, постоянную «скакалку», которую я разыскал у бабушки, некоей Але, по выражению Сувиджнаты – он здесь в школе коммуне, «очень художественно исполненной» девочке. Она мне определенно делает авансы. Но не беспокойся, мое сердце не поддается на ее кокетничанье.
Был раз с Маэстро в кино и смотрел антифашистскую драму «Непобедимые». Сидел недалеко от Тамары и не обращал на нее внимания (она, в интересах истины, замечу, тоже не обращала на меня внимания, как это ни грустно).
Еще встретил идущую с подругой Авочку. Увидев меня, она явственно, «ах!», покраснела, поздоровалась ангелоподобно и... не обращает на меня внимания.
Эх, жисть!
По вечерам рассказываю в техникуме девчонкам отрывки из детских романов – аудитория всегда полная. Скоро будет вероятно и крокет, в общем, это все ерунда, только отвечай, пожалуйста.
Как поживают women?
Мне как-то не верится, что впереди еще так много времени и здесь встречу весну. А она уже на носу. Вчера я в санях одного субъекта принимал у Базарной площади солнечную ванну. Мужички дивовались.
Д. Виленский.
С Митей Виленским-Веретенниковым мы ещё встретимся в последний раз во второй части этой работы.
С Митей Веретенниковым мама официально разошлась 25 декабря 1932 года, и в тот же день был зарегистрирован новый брак с Бочаровым Юрием Михайловичем. Митя не стал менять свою «девичью» фамилию, а так и остался по всем документам Виленским.[45]
В январе 1931 г. мама перешла на работу в новое издательство ОГИЗ – Государственное издательство массовой партийной и политической литературы. Думаю, что переход был обусловлен тем, что при этом издательстве существовал свой учебный редакционно-издательский институт (РИИН).
В этом же году в маминой жизни произошли значительные перемены, оказавшие влияние на всю ее последующую жизнь. Во-первых, наконец-то в 22 года, она стала студенткой РИИНа. Во-вторых, в издательстве ОГИЗ она познакомилась с Ю.М. Бочаровым, и вскоре они поженились.
Ю.М.Б.[46](ЧАСТЬ I)
Мой второй муж, который был старше меня на 22 года, Бочаров Юрий Михайлович, историк по профессии, в свое время был чрезвычайно известен. Член партии с 1905 года, то что называется, рафинированный интеллигент. Внук художника Саврасова по матери и сын художника Михаила Ильича Бочарова, главного декоратора Мариинского театра в Петербурге, человек кристальной чистоты, профессор Пединститута им. Бубнова (теперь Ленина), Государственного (потом коммунистического) института журналистики, автор, в те времена, пожалуй, единственного учебника «История классовой борьбы»[47], который за короткий срок выдержал 6 изданий, преподаватель коммунистических курсов милиции, курсов марксизма-ленинизма и ответственный секретарь журнала «Историк-марксист».
Он был арестован 24 марта 1936 года. Больше я его не видела – 10 лет без права переписки. В Военной прокуратуре мне сказали, что это формула расстрела.
24 марта 1981г.
Сегодня 45 лет как был арестован Ю.М. Сегодня последний день, когда я его видела 45 лет назад. Он уходил с людьми, проводившими обыск, высокий, чуть ссутулившийся. На улице ждала машина – обычная, легковая. А я стояла у окна и смотрела вслед идущим по двору. Так это было.
Вчера Сергей Сергеевич[48] напомнил мне о моем долге. Я и сама о нем знала. Но ведь всегда кажется, что есть еще завтра, а сегодня так много других дел. А вдруг это завтра не настанет. Ведь я уже пережила Ю.М. минимум на 43 года. А может и больше. Кто знает, когда кусочек свинца оборвал его жизнь. Официальная дата смерти 5 октября 1937 г. А может она с «потолка». Скорее всего, так.[49]
Ю. М. родился в Петербурге 21 февраля (4 марта) 1887 г. Его отец – академик живописи Михаил Ильич Бочаров[50]. Он был главным декоратором Мариинского театра. Он и теперь еще фигурирует в энциклопедиях, и говорят, современные историки живописи его высоко ценят. Мать Ю.М. – Вера Алексеевна Саврасова, дочь знаменитого художника, была гражданской женой Бочарова, законной – была ее тетка, не помню по материнской или отцовской линии.
У них было несколько детей, но все умирали маленькими. Боюсь, именно поэтому, В.А. катастрофически опасалась открытых форточек. Выжил один Ю.М. Ему было 7 лет, когда умер отец[51]. Фамилию и отчество отца Ю.М. получил потому, что его восприемником (при крещении) был старший сын Михаила Ильича от законного брака – Михаил Михайлович Бочаров.
ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ.
Алексей Кондратьевич Саврасов (12.05.1830 – 26.09.1897) и Михаил Ильич Бочаров (03.01.1831 – 13.07.1895) одновременно учились в Училище живописи, ваяния и зодчеств и остались друзьями на всю жизнь. Оба были женаты на сестрах Герц: Саврасов в 1858 г. женился на Софье Карловне, а Бочаров на Аделаиде Карловне и, таким образам, товарищи породнились – стали свояками. У Саврасовых в мае 1861 года родилась дочь Вера – мать Юрия Михайловича, а позже, в ноябре 1867 года – дочь Евгения. Но трое детей умерли в младенчестве.
Вера училась в разных частных школах, переходя из одной в другую, так как у родителей не было материальных возможностей заплатить за обучение сразу за полгода, поэтому платили помесячно. Была попытка определить девочку за казенный счет в московский Екатерининский институт благородных девиц, но Вера заявила, что намерена учиться только в гимназии, куда она и поступила. Тяжелое материальное положение в семье было связано с тем, что А.К. Саврасов стал часто пить и долго не выходил из запоя. Это и привело к тому, что в начале апреля 1876 г. Софья Карловна вместе с дочерьми на время уехала к своей сестре Аделаиде и поселилась у Бочаровых в Петербурге. Адель брала с сестры за стол 25 рублей в месяц. Деньги немалые по тому времени. В семье Бочаровых в то время росли две дочери – Лиза и Соня, и сын Миша.
Осенью 1876 г. Софья Карловна вновь вернулась к мужу в Москву, но в августе 1878 г. она навсегда рассталась с А.К. Саврасовым.
В 1882 г. Вера Алексеевна, которой исполнился 21 год, уехала в Петербург, желая поступить на врачебные курсы при Военно-медицинской академии. Однако курсы, после убийства Александра II народовольцами, были закрыты, и девушке пришлось поступать на курсы акушерок. Жила она у Бочаровых. Но и в этой семье наступил разлад. Дети выросли, а Аделаида Карловна основное время посвящала не мужу, а своим финансовым делам. Михаил Ильич целыми днями пропадал в мастерской, там же и обедал, а жена сторожа стирала ему белье.
Племяннице вначале было жаль неустроенного дядю. Но вскоре она влюбилась в этого нервного, худощавого, с крутым лбом с высокими залысинами мужчину, отца трех детей. Она стала помогать Михаилу Ильичу – делала ажурные вырезки к макетам для новых постановок.
С 1883 г. Вера стала гражданской женой М.И. Бочарова, который был старше ее на 30 лет. Михаил Ильич ушел из дома и поселился с молодой женой отдельно. Вера Алексеевна вела маленькое хозяйство, продолжала посещать акушерские курсы и помогать мужу в его работе. В 1887 г. у них родился мальчик, названный Юрием.
После смерти М.И. Бочарова в 1895 году, Вера Алексеевна переехала в Москву, где проживала ее сестра Евгения с мужем, и мать – Софья Карловна, которая не признавала брака дочери с Бочаровым, считая законным лишь брак, освященный церковью. Она умерла в 1900 году. Евгения Алексеевна вышла замуж за Петра Петровича Павлова, который работал в фирме издательства «Шерер, Набгольц и Ко». Он учился фотографии в Вене, и в Москве владел собственной фотостудией. От этого брака было три сына[52].
Вырастила Ю. М. мать, женщина несколько деспотического склада. Я знала ее уже старухой. Она не отличалась чистоплотностью, постоянно старалась влиять на жизнь окружающих и была весьма бестактна. Ю.М. не очень-то ее любил, она его раздражала, но все сыновние долги выполнял свято.
Вера Алексеевна всю жизнь работала, чтобы вырастить сына. Знаю, что много лет она прожила в Валуйках, работала в каком-то ремесленном училище и преподавала там прикладное искусство. Мастерски выделывала детскую мягкую игрушку.
Потом они жили в Москве. Здесь жила и ее родная сестра Евгения Алексеевна, муж которой был известным в свое время фотографом, и даже в советское время эта студия фотографии на Арбате продолжала существовать, и в ней работал сын Евгении Алексеевны[53].
В Москве Ю.М. учился, насколько помню, в 4-й мужской гимназии,[54] по окончании которой поступил в Университет. Хотел на историко-филологический факультет, но по настоянию матери поступил на юридический. В котором году, не помню, знаю лишь, что в 1905 г. был уже студентом, вступил в РСДРП большевиков, был пропагандистом и агитатором в Замоскворецком районе, короче, участником первой русской революции.
В Университете был учеником Герье[55] и опубликовал даже какую-то статью, то ли о детской преступности, то ли о наказаниях за детскую преступность.
Будучи студентом, стал сотрудничать в московских газетах. Главным его прибежищем было «Раннее утро». Не мог он, взрослый юноша, сидеть на шее матери. Были у него какие-то псевдонимы, в том числе «Литль Бой». И что забавно, как раз английского-то он не знал, зная, кроме древних языков французский и немецкий. При этом достаточно свободно. В 1927 г., будучи делегатом на международном конгрессе журналистов в Германии, он делал доклад на немецком языке, хотя перевод с русского был сделан в Коминтерне.
Свое юридическое образование, в прямом отношении, Ю.М. фактически почти совсем не использовал. Кроме упомянутой статьи, этой специальности были отданы еще два года – работал помощником присяжного поверенного и газетчиком. Затем целиком ушел в журналистику.
Позже в Москве был основан не то Археологический, не то Архивный институт. Кажется, во время войны или перед самой войной Ю.М. поступил туда, так как очень хотел получить историческое образование. Не помню, то ли институт долго не просуществовал, то ли Ю.М. был мобилизован, но институт он не окончил. По мобилизации попал в Александровское юнкерское училище, окончив которое, должен был уже идти на фронт. Но тут началась февральская революция и все перемешалось.
Да, забыла сказать, что в 1910 г. Ю.М. потерял связь с партией, т.к. были арестованы его связные. В 1917 он вступил в партию Интернационалистов, был членом ее ЦК (вместе с О.Ю. Шмидтом[56], Лозовским[57], Максаковым[58]и др. – больше не помню). Сохранился его доклад «Съезд в цифрах», по поводу апрельского съезда партии Интернационалистов 1919 года. А в декабре 1919 г. партия целиком влилась в РКП (б) и Ю.М. с этого времени числил свой стаж. Ему предлагали, это было уже при мне, в Горкоме партии восстановить стаж с 1905 года, но он отказался, поскольку был перерыв. В личное дело, однако, подпольный стаж был внесен.
В эти же годы Ю.М. поступил на историко-филологический факультет в Университет, но опять же его не окончил – ушел на гражданскую войну.
ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ.
Общие факты биографии Ю.М. Бочарова мама хорошо знала и довольно точно помнила, но другие стерлись из ее памяти.
В 1926-1927 гг. проводилась Всесоюзная партийная перепись. Всем членам и кандидатам в члены ВКП (б) были розданы анкеты. В анкете, заполненной 14 января 1927 г., Юрий Михайлович сообщил о себе следующие сведения.
Два года он обучался в Подготовительном училище, после чего 8 лет в 3-й Московской гимназии. В 1905 – 1909 гг. учился на юридическом факультете Московского университета и получил специальность криминалиста.
Стремясь получить систематическое историческое образование, Ю.М. Бочаров два раза пытался осуществить это свое желание, но оба раза неудачно.
В первый раз помешала Первая мировая война. В 1913 г. Юрий Михайлович поступил в Московский археологический институт, который был основан в 1907 г. по инициативе Д.Я. Самоквасова[59]. Институт этот имел два отделения – археологическое и археографическое. Срок обучения 3 года. За обучение взималась плата 80 рублей в год. Здесь Ю.М. Бочаров проучился всего один курс. В связи с начавшейся войной, институт пришлось оставить. В 1922 г. Археологический институт слился с факультетом общественных наук Московского университета[60].
Вторая попытка относится уже к послеоктябрьскому периоду. В 1918-1919 гг. Ю.М. Бочаров вновь становится студентом первого курса историко-филологического факультета Московского университета. И вновь, но уже гражданская война, отрывает его от занятия историей.
С 1905 года, учась на 3-м курсе, студент Бочаров стал членом РСДРП (б). Закончив 6-месячную школу пропагандистов при социал-демократической фракции Московского университета, он вел пропагандистскую работу в Замоскворецком районе среди учащихся средних учебных заведений и военных. Видимо за это Бочаров и был арестован в 1907 г.[61]. С 1910 года связь с большевиками прервалась, и вновь к партийной работе Юрий Михайлович вернулся в 1917 г.
Трудовая деятельность Ю.М.Бочарова началась с 16 лет[62], когда он еще учился в гимназии. Но в чем она выражалась, установить не удалось.
С 1906 г. Ю.М. Бочаров начал сотрудничать с московскими газетами и журналами. В основном он писал статьи для ежедневной политической и литературной газеты «Раннее утро», которая издавалась в Москве с ноября 1907 г. по июль 1918г. на средства Рябушинского. Редакторами-издателями были Н.П. Прединский и Э.М. Павчинский. Здесь печатались поэты В. Брюсов, А. Белый, М. Волошин, Н. Гумилев и др. В газете Ю.М. Бочаров печатался под псевдонимами: «Карено», «Литль Бой», «Юрий Б.»[63]. Кроме того, он был литературным редактором ряда московских газет. Потом, в 1935 г. во время партийной чистки, это ему припомнят как сотрудничество в буржуазных и монархических изданиях.
В 1913–1916 гг. был лектором Московского общества народных университетов (было, оказывается, и такое.). Жил Юрий Михайлович в это время в Курбатовском переулке д.7.[64] По странному совпадению, в этом же переулке, но в 1930 г. проживала и мама.
Во время первой мировой войны, в мае 1916 г. Ю.М. Бочаров был призван по мобилизации ратником второго разряда в 193-й запасной полк. Но его сразу же откомандировали в распоряжение штаба Московской военной цензуры, где он прослужил до сентября 1916 г.
Затем, окончив Александровское военное училище (ускоренные четырехмесячные курсы с октября 1916г. по февраль 1917 г.), Ю.М. Бочаров были зачислен младшим офицером в тот же 193-й стрелковый полк, где его избрали председателем полкового парткомитета.
В сентябре–октябре 1917 г. Юрий Михайлович был политкомиссаром 193-го полка, отправленного на подавление Корниловского мятежа. В ноябре 1917 г. его избрали председателем воинской участковой избирательной комиссии по выборам в Учредительное собрание. В декабре 1917г. по болезни он был уволен с военной службы.[65]
В 1917 году Ю.М. Бочаров вступил в партию, но не большевистскую, а в РСДРП (интернационалистов). В 1918 г. в этой партии произошел раскол. Образовались две самостоятельные интернационалистические организации: Российская партия независимых социал-демократов левых интернационалистов (РПНСД), куда кроме Ю.М. Бочарова вошли В.В. Максаков, О.Ю. Шмидт, и др., и Российская Социалистическая рабочая партия интернационалистов (РСРП (и) ), в которой состояли С.А. Лозовский, И.С. Юзефович[66], Г.М. Крамаров[67], В.Ф. Плетнёв[68] и другие . Раскол был недолгим – сил было мало. В апреле 1919 года состоялся Объединенный Всероссийский съезд РПНСД и РСРП (и). В новой партии, получившей название РСРП (и), Ю.М. Бочаров был даже членом ЦК и редактором газеты «Пролетарий».
Большевики не давали РСРП (и) развернуть свою деятельность, и хотя численность ее была невелика (в апреле 1919 года – всего 1072 члена), интернационалистов изгоняли из местных Советов, арестовывали, запрещали их деятельность, приостанавливали выпуск газеты. ВЦИК и ЦК РКП (б) на все жалобы о преследованиях объясняли, как обычно, «головотяпством на местах» и настоятельно предлагали объединиться с правящей партией.
В декабре 1919 г. РСРП (и) полным составом влилась в РКП (б). Ю.М. Бочаров был против слияния с РКП (б), мотивируя это тем, «что необходима свобода критики в интересах революции», невозможность нести ответственность за политику правительства, состоящего из членов РКП (б)[69]. Но, подчиняясь партийной дисциплине, он как и многие другие несогласные с политикой Советской власти и правящей партии, вошел в РКП (б).
В 1919 г., ещё до слияния, по решению ЦК РСРП (и) все военнообязанные члены партии должны были вступить в Красную Армию.
Юрий Михайлович сначала был, кажется, на Западном фронте (против белополяков), потом переброшен на Южный. Был комиссаром, помню, что комиссаром фронта по военным сообщениям и в каком-то высоком чине. Так мало мы придавали значение высоким чинам, что подробности не запомнились. Был награжден часами за взятие Перекопа, хотя, сколько помню, в этой операции непосредственно не участвовал.
Потом несколько лет (?) жил в Харькове, будучи начальником Политотдела (чего?). И наконец демобилизовался и возвратился в Москву. Здесь началась его педагогическая работа. Еще во время гражданской войны выявились необыкновенные лекторские способности Ю.М.. Он считался вторым оратором после Пятакова[70].
ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ
В январе-августе 1918 г. Ю.М. Бочаров работал секретарем «Бюллетеня МГПК» (Московского городского продовольственного комитета).
Вступив добровольцем в Красную Армию, он с сентября 1919г. по февраль 1920 г. был младшим делопроизводителем Управления Военных Сообщений Западного фронта. С февраля по ноябрь 1920 г. – Военным комиссаром по поручениям Управления военных сообщений Украины и Крыма (сокращенно – Упвосоукркрыма! [Надо же такое придумать! А попробуйте выговорить) Юго-Западного фронта. С ноября 1920г. по декабрь 1921 г. Юрий Михайлович был помощником по политической части начальника военных сообщений Украины и Крыма. С декабря 1921 г. по февраль 1922 г. находился в отпуске по болезни.
Приказом № 73 командования войск Украины и Крыма от 18 января 1921 г. за особые заслуги по ликвидации Врангелевского фронта Бочаров Юрий Михайлович награжден именными часами с надписью «Честному Воину Красной Армии от Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов». (Часы в 1936 г. во время обыска и ареста были конфискованы).
С мая 1922 г. по март 1923 г. Ю.М. Бочаров работал в Политуправлении РВСР, где занимал должность начальника партшколы Агитпропотдела. Одновременно он был начальником Учебной части Московских Окружных курсов комсостава. В марте 1923 года его освободили от занимаемой должности, и он перешел в распоряжение учетно-информационного отдела. В августе 1923 г. он был демобилизован из РККА и направлен в распоряжение Московского ГВК[71].
Не могу поручиться за последовательность, но в Москве Ю.М. преподавал в педтехникуме им. Троцкого на Поварской улице (ул. Воровского) и позже, или одновременно, в Государственном институте журналистики, затем ставшим коммунистическим институтом журналистики – КИЖем, где, не помню с какого года, заведовал кафедрой.
Звание «профессор» тогда считалось буржуазным, оно применялось лишь в общении с заграницей.
ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ
С августа 1918 г. по сентябрь 1919 г. Юрий Михайлович был помощником Управляющего Московского Историко-Революционного Архива (Управляющим этого архива в тот период был В.В. Максаков). В это же время являлся лектором Лекторского отдела Кинокомитета. С 1922 по 1925 гг. преподавал на рабфаке им. Мандельштама и одновременно в Совпартшколе Хамовнического района. С 1922 по 1927 гг. [ был преподавателем и председателем кафедры печати Государственного института журналистики, и по совместительству с 1923 г. преподавал в Педагогическом техникуме им. Троцкого. [72]
В 1920-е годы статьи Ю.М. Бочарова публиковались в газете «Книгоноша» под псевдонимами «Б-в, Ю», «Б-ов, Ю», «Ю. Б.».[73]
В 1929 – 1934 гг. – редактор ГИЗ Партиздата.
С 1934 по 1936 гг. – научный сотрудник Института истории Комакадемии и ответственный секретарь журнала «Историк-марксист».
С 1933 по 1936гг. – профессор Педагогического института им. Бубнова и, одновременно, по совместительству, профессор Коммунистического вуза политработников милиции.
В 1919 году он уже был женат на В.В. Скрипниковой (?).
За время пребывания в партии имел два партвзыскания:
Первое – в 1923 г. по настоянию Р.С. Землячки, дамы до жестокости суровой, Юрий Михайлович получил выговор за несвоевременную уплату членских взносов (вот какое строгое было время!).
Второе – в 1935 г. Бюро Фрунзенского райкома ВКП (б) своим решением от 7 апреля вынесло Ю. М. Бочарову строгий выговор с предупреждением за политическую ошибку[74].
Ю.М. очень много писал по истории журналистики и по истории революционного движения. Был постоянным сотрудником[журнала «Каторга и ссылка», где выходили и его брошюры-книжки.
Затем он был «брошен» на редакторскую работу.
Я и узнала его, когда он заведовал отделом партучебников и литературы для парткадров в издательстве «Московский рабочий» (совсем не том, что сейчас), входившим в систему ОГИЗа под наименованием «Маспартгиз» (издательство массовой партийно-политической литературы). На основе этого издательства году в 1933-м (?) было создано издательство «Партиздат», позднее преобразованное в «Политиздат».
ГИЗ, ОГИЗ, МАСПАРТГИЗ[75]
Книга всегда рассматривалась большевиками как мощное оружие идеологической борьбы. На исходе 20-х годов, с окончательным поворотом в сторону создания тоталитарного государства, остро встала потребность в создании централизованной и управляемой издательской системы. Ведь на 1 января 1930 г. в РСФСР насчитывалось 995 издательских предприятий. ВКП(б) было трудно уследить за всеми большими и малыми издательствами. Все громче раздавались голоса в пользу реорганизации Госиздата в единый книжно-издательский концерн, с объединенной торговой сетью, с единой производственной и материально-финансовой базой.
Процесс создания книжно-издательского концерна начался с того, что в 1929 г. Совнарком РСФСР принял постановление «О мероприятиях по рационализации работы книгоиздательств и упорядочению книгопроводящей сети». Реализация этого постановления привела к концентрации издательств, их укрупнению.
30 июля 1930 г. было опубликовано постановление ЦК ВКП (б) «О работе Госиздата РСФСР и об объединении издательского дела». В нем отмечалось, что развитие издательского дела отстает от требований эпохи социалистической реконструкции, и определялась задача его организационной перестройки на основе дальнейшей типизации издательств.
8 августа 1930 г. Совнарком РСФСР принял решение, в соответствии с которым, вместо множества самостоятельных издательств, в стране создавалась единая и практически монопольная организация – Объединение государственных книжно-журнальных издательств (ОГИЗ) при Наркомпросе РСФСР.
Функции ОГИЗа были всеобъемлющими: в его задачи входили планирование, управление и техническое руководство полиграфическими, издательскими, книготорговыми предприятиями; снабжение, финансирование и кредитование; капитальное строительство; подготовка и распределение кадров.
В состав ОГИЗа влились 27 крупных и мелких издательств со всеми подчиненными им предприятиями – Госиздат, ставший ядром объединения (его руководитель А.Б. Халатов был назначен председателем правления и заведующим ОГИЗом).
Первоначально в составе ОГИЗа образовалось 13 типизированных издательств, которые выпускали книги определенной тематики или для определенной группы читателей: Учпедгиз, Соцэкгиз, Маспартгиз и др.
В систему ОГИЗа были также переданы отраслевые научно-исследовательские учреждения и учебные заведения (РИИН, например).
Таким образом, был создан в своем роде первый в истории и единственный в мире издательско-производственный комплекс, сконцентрировавший значительную часть издательского и полиграфического производства страны и почти всю книготорговлю.
15 августа 1931 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «Об издательской работе». В нем на первый план выдвигалось издание политической и технической литературы – «Книга должна быть боевой и актуально-политической, она должна вооружить широчайшие массы строителей социализма марксистско-ленинской теорией и технико-производственными знаниями».
Из системы ОГИЗа был выделен Маспартгиз, а из Соцэкгиза – издание массовой партийной литературы по марксизму-ленинизму и на их базе образовано Издательство партийной литературы (Партиздат), подчинявшееся непосредственно Культпропотделу ЦК ВКП (б).
В 1941 г. Партиздат был переименован в Государственное издательство политической литературы – Госполитиздат и вновь перешел в подчинение ОГИЗа. Соцэкгиз был преобразован в Государственное издательство экономической литературы.
ИЗ ПИСЬМА Э.С. ВИЛЕНСКОЙ А. ВАКСБЕРГУ[76].
Весной или летом 1931 года Секретариат ЦК вынес решение о написании новых политучебников для политсети разных уровней. Чтобы содержание их стало более доходчивым, на каждую из перечисленных в постановлении книг назначался и автор, свободно владеющий пером. Один из учебников поручалось писать М.Е. Кольцову. Издание же всех книг осуществлялось издательством «Маспартгиз», в состав которого входило издательство «Московский рабочий», в то время, имевшее совсем иной профиль, чем нынешнее. На его базе через некоторое время был основан Партиздат, ставший еще позднее Политиздатом.
Я работала в «Маспратгизе» помощником редактора и должна была, как и другие помреды, везти заготовленные издательством договоры к авторам для подписания. Мне среди других авторов достался М.Е. Кольцов (до «Московского рабочего» я работала в его газетно-журнальном объединении «Огонёк»).
Ознакомившись с договором, М.Е. в голос закричал: «Это невозможно! У меня просто нет на это время. Ведь я пишу биографию товарища Сталина, мне поручено писать эту биографию!». Я возразила, что апеллировать надо не к нашему издательству, что мы такой вопрос не вправе решать. Он метался от одного телефона к другому (кажется, у него была и вертушка), но никого не застал. Договорились, что если ему удастся отбояриться, он с курьером пришлет договор и письмо от себя. Не помню, как было дело дальше, да это и не суть важно. Интересен, конечно, вопрос – была ли написана эта биография, и если была, то как к ней отнеслись? Возможно, Ефимов что-нибудь вспомнит».
1931 ГОДМАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
9 мая 1931 г.
Юрий Михайлович!
Забыла Вам сообщить, что вчера приходил Вардин[77] и я с ним беседовала относительно его стенограммы. Обещал дать ее к 12-му. Удивился, что дискуссию издаем мы. Мне пришлось объяснить ему в «вежливой» форме, что это пожелание руководства и т.д.
Может быть, и Войринского сдавать вместе с Вардиным? Войринский свою стенограмму отредактировал довольно поверхностно. Мне думается, что Вам основательно придется разделить его труд.
Я сегодня после работы буду в Вашем районе. Если Вы успеете к тому времени прочесть Войринского, разрешите зайти за ним, вместо того, чтобы посылать завтра курьера. В том случае, если Вы считаете нужным сдать Войринского, не дожидаясь Вардина. Если не затруднит, сообщите об этом по телефону. Если есть какие-нибудь вопросы – к Вашим услугам здесь и дома (5-13-13). С приветом. Эм. Виленская.
Это первое, вполне деловое, письмо из двух десятков сохранившихся писем мамы Юрию Михайловичу. Несколько писем самого Юрия Михайловича не были утрачены во время обыска и ареста. В мамином архиве сохранилось небольшое количество документов, принадлежавших ему: подготовительные материалы к лекциям, выписки из источников, библиография и т.п. Пачка писем личного характера, в том числе и к маме[78].
Как-то еще юношей, находясь в больнице, я оказался в одной палате со стариком, который служил в войсках НКВД. Он рассказал, что в октябре 1941 года, когда немцы рвались к Москве, во дворе Большого дома на Лубянке несколько дней полыхал костер из каких-то бумаг. Чекисты уничтожали следы своей деятельности. Возможно, среди сжигаемого могли находиться и «вещественные доказательства»: письма, дневники, рукописи, фотографии арестованных. Сами «дела» репрессированных не уничтожались, они «хранились вечно».
Видимо, роман с Юрием Михайловичем развивался довольно бурно. В домашней библиотеке сохранился томик «The works of Shakespeare»[79] volume the eighth. London. Printed for J. Tonson in the Strand. MDCCXXVIII. То есть, томик был издан аж в 1728 году. Мама им особенно дорожила, поскольку здесь имелась надпись: «В день скромного юбилея с горячим пожеланием вместе встретить другой. Не возражал бы, если бы он насчитывал столько же лет, сколько этот томик. Юрий. 14 августа 1931 год». А 25 декабря 1932 года между мамой и Юрием Михайловичем был официально зарегистрирован брак[80].
Юрий Михайлович называл маму не по имени, а сокращенно ласкательно – «Ли». Возможно не без влияния фразы из модной в то время песенки Вертинского: «Где вы теперь? Кто Вам целует пальцы? Куда ушел Ваш китайчонок Ли?..» и по ассоциации маминого «китайского происхождения» (КВЖД).
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
28 сентября 1931 г[81].
Юринька, родной! Повезло мне необычайно. В самую последнюю минуту удалось переменить билет на сегодняшний московский. Очень рада, что не нужно валандаться сутки в Сочи.
Ехали в автобусе превосходно. Без остановок до Гагр и от Гагр до Сочи. И совсем не утомительно.
Что у тебя с пансионатом? Если не удастся заселиться, переходи в гостиницу вверх. Пока. Спешу опустить письмо. Целую. С дороги напишу подробное письмо. Привет всем. Твоя Ли.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Москва 1 октября 1931 г.
Юринька мой! Даже не думала, что способна так соскучиться. Очень тоскливо без тебя.
Как ты? Устроился ли в пансионат? Или получил койку во втором этаже гостиницы?
Как устроились Котины родители? Как Цецилия Григорьевна? Иосиф Владимирович? Пиши, пожалуйста, родной, обо всем.
Теперь о делах. Первое – о налогах. Ты, вероятно, получил письмо Веры Алексеевны[82], в котором она писала тебе, что описан буфет за налоги, кажется за 1929 год. На это у тебя была повестка, которую нашла в столе Евгения Алексеевна. Кроме того, пришла повестка на налог с суммы 1500 рублей с октября 1929 г. по октябрь 1930 г. на сумму 16 рублей 75 копеек плюс штраф 10 рублей. Завтра-послезавтра пойду выяснять. Во всяком случае, новую сумму придется уплатить во избежание повторения описи. В общем, выясню. Потом сообщу результаты.
Второе – квартира. В ремонте ванны отказано. Разрешен ремонт только в столовой. В.А. (Вера Алексеевна) подает заявление об увеличении маленькой комнаты за счет кухни. Это, может быть, разрешат. На ремонт столовой нужно получить разрешение Губинжа. Но это формальность. Ремонт за твой счет.
Третье – по сведениям, имеющимся у Евгении Алексеевны, Валентина Васильевна[83] должна приехать на днях. Деньги на дорогу уже высланы.
Четвертое – Маспартгиз. Изменений никаких. Партиздата еще нет, нет и хозяина нового. В партучебниках все по-старому. Есть новый редактор. Но об этом всем обещал написать Розанов[84], так как того, чего нельзя знать нам, смертным, он мне не скажет, а тебе напишет. Олекша в отпуске.
Пятое – звонила Егорову[85]. Он сообщил, что введение он сдал совсем на днях с большим опозданием и со скандалом. Денег не получал. Спрашивает, когда срок сдачи второго выпуска, сколько глав не достает и где рукописи существующих глав[86].
На Президиуме общества историков («Историков-марксистов») выбрана «новая» тройка методсекции: Кравцов – председатель, Бочаров – зам., Егоров – врид (временно исполняющий должность), секретарь.
Вот и все дела.
Теперь можно о себе. Была в институте[87]. Занимались уже. Ничего. Были: научные основы русского языка – Устинов, история Запада – Преображенский[88]. Устинов не понравился. Как только он начинает излагать Маркса, так сразу читает по конспекту. Кроме того, заумно, для аудитории непонятно из-за нелепого упрощенчества и из-за того, что все это не комментируется. В общем, скверно. Преображенский понравился. От языка освобождена.
Был у меня Митя. Его приняли в Архитектурный и он тоже начал заниматься. Очень хорошо с ним говорили. Обещал познакомиться с тобой.
Пока все. Хочу спать. Жаль еще, что нет у тебя учебника Преображенского. Пиши мне, Юринька, уж очень тоскливо без тебя. Так бы и уехала обратно к тебе в Афон.
Обнимаю тебя и крепко целую. Пиши. Твоя Ли.
Привет от мамы и Веры.
Юрушка, стащила у тебя одну толстую тетрадь. Обещаю отдать. Не сердись, ладно?
«Каторга и ссылка» просит сообщить, когда ты сдашь рукопись «Пролетариат в революции 1905 г.».
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Москва 6 октября 1931 г.
Только что получила две твои открытки от 1 и 2 сего месяца. Все время беспокоилась, что нет от тебя ничего. Вчера узнала от Евгении Алексеевны, что они получили от тебя телеграмму, и мне стало спокойней. Но было очень обидно, что я ничего от тебя не получаю. Очень тоскую без тебя. Даже занятиями не могу отвлечься. Жду не дождусь того дня, когда пойду встречать тебя (ведь поезда приходят в 5 – 6 часов, а занятия у меня кончаются в три).
Как тебе живется в пансионате? Если кормят не обильно, то прикупай в столовой и на базаре. Обязательно покупай масло и фрукты. Уничтожай и то и другое побольше. Об этом не только прошу, но и настаиваю, чтоб ты слушал меня.
Поправляешься ли? Как нервы? Смотри, Юренька, используй все возможности.
Я себя чувствую очень хорошо. Кушаю много. Все у нас есть. Мама следит за моим питанием. Нервы пошаливают только. Но я не знаю, где начинаются нервы, а где кончаются капризы. Раздражаюсь с исключительной легкостью. А кроме всего угнетает то, что от тебя писем не получаю. Сейчас стало лучше. Иду, поэтому, искать туфли. Если в иностранном распределителе найду – куплю. А нет – так трагедия. Совсем босая осталась.
Теперь о делах. Только что уплатила налог за 1929-1930 гг. – 26 рублей. Это вместе со штрафом. Налог за 1928-1929 гг. не платила (там 77 рублей). Была в Райфо и заявила, что ты приедешь к 20-му октября. Они дали мне свой № телефона и записали мой, чтоб к 20-му октября тебе позвонить. В общем, пока с налогами вопрос улажен.
Была в издательстве. Так мне никто ничего говорить не хотел. Одни не знают сами, другие не находят нужным сообщать мне даже для тебя. Но пошла к Удалову и он сообщил под большим секретом последние новости. Хозяин назначен – Рабичев[89] – заместитель Стецкого[90]. Кантору предложили остаться главным редактором (?!), но он, конечно, отказывается. Удалов принял меня очень радушно. Поругал тебя, что ты ничего не пишешь, сказал, что скучает по тебе и просил передать большой-большой привет. Я была очень тронута его отношением к тебе. Спрашивал, не нужны ли тебе деньги. Я сказала, что возможно нужны будут для ремонта, если не смогу достать, то обращусь к нему.
Ремонт, как я тебе писала, в большой комнате разрешен. Приходил управдом и приводил рабочего, который объявил цену ремонта с его материалом в 250 рублей.
Дядя[91] и Миша говорят, что красная цена ремонту 100 р. Собираюсь зайти в Мосремонт, или же надо будет достать материалы через домоуправление, а рабочих пришлет Миша.
Валентина Васильевна должна на днях приехать. Телеграмму ей не давали, так как она сама писала, что выезжает и просила перевести ей деньги. Евгения Алексеевна перевела. Дама с Вузовского переулка, с которой я говорила перед отъездом об обмене, кажется, согласна на обмен столовой и Марусиной комнаты. Надо будет об этом сообщить Валентине Васильевне.
Петра Васильевича Егорова еще не видела, только по телефону с ним говорила.
Я занимаюсь. Есть у нас уже бригады. В той бригаде, где я, пять человек. Всего в группе 22 человека. У нас уже были занятия по всем предметам 1-го семестра. Очень мне нравится Преображенский. Подала я на стипендию. Еще не знаю результатов.
Приезжал мой читинский приятель Казик (старая любовь). Была вчера с ним в Художественном на «Женитьбе Фигаро». Это уже в третий раз. Смотрела с неменьшим удовольствием, чем раньше.
Встретила там Женю Шарер с мужем. Поговорили немного. Ее не приняли, как тебе известно. А Усиевич приняли в надстроечный, она туда и подавала.
Заканчиваю, потому что надо идти за туфлями, а потом заниматься. Привет от мамы. Она, кажется, тоже беспокоится, что от тебя нет писем.
Как живут Котины родители Цецилия Григорьевна? Иосиф Владимирович? Пиши мне, родной, чаще. Очень без тебя тоскливо. Сама не заметила, как крепко к тебе привязалась. Снился мне без конца, и все боюсь, что разлюбишь.
Целую очень крепко. Жду. Твоя Ли.
Адрес пиши: Москва 9. Тверской бульвар 6, кв. 53.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Москва 8 октября 1931 г
Юринька, любимый мой! Только что пришла домой из читальни и на столе твое письмо. Я когда шла, твердо знала, что меня ждет письмо от тебя. Я не шучу. Ой, как тоскливо без тебя! Нервничаю по каждому пустяку. Реветь охота.
Ты пишешь, что получил обе телеграммы. А ведь я только одну посылала. Какая же другая?
Чувствую себя отлично. Не хуже, чем в Афоне. По приезде возобновилось «московское» самочувствие, но очень скоро прошло. Мама говорит, что будет дочка.
В РИИНе занятия идут полным ходом. Сегодня уже даже конференция была по Западной истории.
Читал ли ты в «Правде» от 7 октября статью Кантора о «Партиздате»? Я на всякий случай сохраню для тебя газету. В издательстве нет новостей, кроме тех, о которых писала.
Неужели у вас все еще дожди? Какая досада. Совсем испорчен твой отпуск.
Вера Алексеевна в письме к тебе перепутала. Описали налог за 1928-29 гг. Несмотря на то, что от тебя пришла телеграмма о том, чтобы уплатить, я решила отложить до твоего приезда это дело, а в Райфо об этом договорилась. Они все это у себя записали. Сумма налога не 160 рублей, а 78 рублей. А налог за 1929-1930 гг. – 26 рублей я уплатила из денег, которые взяла у тебя перед отъездом из Афона. Завтра утром письмо закончу и пошлю спешной. Узнаю имя Милявского.
Я, как будто, буду зачислена на стипендию. Это очень хорошо. А то совсем нет денег. Фаня Маре денег не шлет и мама вся в долгах. Просто безобразие со стороны Фани[92]. Ведь она же знает, что я в отпуске, если не знает, что я не работаю вообще. Ведь когда я работала и жила у тебя, я все деньги им отдавала. Но сейчас, где я возьму? Могла бы посчитаться.
Туфли я себе купила. Полуботинки на мужском каблуке. Из грубой кожи. Уже ноги в них болят.
Маркса возьму
Пока, до завтра. Крепко, много целую, моего хорошего, любимого, родного Юриньку. Твоя Ли.
9 октября.
А вот и сегодня пришло письмо. Милявский Александр Аронович. Но почему ты хочешь ему посылать задание? Ведь он же зав. отделением худо[ественной редактуры, а не проректор по учебной части.
Юринька, привези, пожалуйста, орехи и фрукты. Хоть немного. Привет всем знакомым Целую. Твоя Ли.
Для себя из маминых писем этого периода я сделал несколько маленьких исторических «открытий». Во-первых, бригадный метод обучения.
Сдавая историю педагогики на Истфаке МГУ, я полагал, что на рубеже двадцатых – начала тридцатых годов, только в средней школе проводились всякие эксперименты, такие как «бригадный метод обучения». Метод заключался в том, что класс делился на бригады: по несколько человек в бригаде. Им давали какую- то тему по предмету и теоретически все члены бригады должны были вместе ее учить. На практике бригадир или кто-либо из назначенных сдавал все зачеты и экзамены за всю группу. Если отвечавший получал «пять», то такую же оценку ставили и всем остальным, восьми – десяти человекам. Каждый в бригаде отвечал за всех. Один за всех и все за одного. Такая вот круговая порука в системе образования. Из маминого письма я узнал, что этот метод практиковался и в Вузах и дожил он, кажется, до середины 30-х годов.
Специалисты, подготовленные подобным образом, да еще из лиц, имевших к моменту поступления в вуз крайне низкий образовательный уровень (рабфаковцы, например), не могли, естественно, идти ни в какое сравнение с учащимися, получившими систематическое образование.
Немногочисленные носители старой культуры совершенно растворились в этой массе полуграмотных образованцев. Сформировавшаяся в 20–30-х годах рабоче-крестьянская интеллигенция в качественном отношении продолжала как бы воспроизводить себя в дальнейшем. Качеством подготовленных тогда специалистов был задан эталон на будущее. Образ типичного советского учителя (его и называли-то «шкраб»), инженера, врача и т.д. сложился именно тогда – в довоенный период. В 1950–1960-е годы эти люди, заняв все руководящие посты и полностью сменив на преподавательской работе остатки дореволюционных специалистов, готовили себе подобных и никаких других воспитать не могли.
Второе «открытие»: я не знал, что уже в начале 1930-х годов получил широкое распространение термин «хозяин», для обозначения не только Сталина – уж тот-то был хозяин так хозяин, но для обозначения всякого ответственного руководителя.
Третье «открытие»: налоги с доходов. Мне всегда казалось, что с отходом от нэпа налоги с государственных рабочих и государственных служащих пролетарское государство взимало централизованно, через бухгалтерию, с зарплаты, как и теперь. И уж тем более не мог предполагать, что за неуплату налогов вводились штрафные санкции: описывалось имущество и производились другие «экономические действия».
И наконец, последнее «открытие». Ремонт квартиры даже за свой счет требовал специального разрешения «Мосремонта», причем, в «ремонте ванны» могли и отказать.
1932 ГОДТАНЯ
В конце апреля 1932 года в родильный дом имени Г. Л. Грауэрмана, находившийся по адресу Большая Молчановка, д. 5, в сопровождении эскорта акушерок во главе с Еленой Соломоновной Атлас и Анны Семеновны поступила роженица, которая вот-вот должна была произвести на свет новое чадо. Это была моя мама. Естественно, все волновались и писали бодрые подробные записки.
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ[93]
30 апреля 1932 г. 1 час 30 минут. «.Ли! Можно ли тебя уже поздравить? Сима, вернувшись утром (в 1 час) сказала, что уже вывешено на доске – «девочка»??!! Не верю, что так скоро. Посылаю еду. Целую. Юра.
Сведения оказались ошибочными, о чем мама и известила Юрия Михайловича.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
30 апреля 1932 г. 4 часа 35 минут.
Юринька! Увы, поздравлять меня еще не с чем. Схватки стали реже, меньше…Вообще, я способна вернуться домой. Лежу. Читаю. Сплю. Чувствую себя совсем хорошо. Мне завтра пришли зубную щетку, пасту, мыло. Потом газеты. Если можно – фрукты и конфеты. Как ты? Что в РИИНе, Партиздате? Звонила ли мама? До завтра. Твоя Ли.
Сами по себе записки из роддома самые обычные – о здоровье, самочувствии, желаниях и т.п. Но записки Юрия Михайловича небезынтересны, поскольку отражают краешек эпохи.
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ
1 мая 1932 г. 8 часов утра.
С праздником!
Ли, роднусенька! Пошел на демонстрацию. Сима (вероятно домработница) стояла в очереди в распределителе за курами – не достала, не хватило. В «сотом» за мясом – не достала. Пошлю тебе хлеб, масло, яйца всмятку, сахар, яблоки. Из обиходных вещей, что просила (зубная щетка и так далее), «Шагреневую кожу» – для чтения. Газет вчерашних не достал, сегодняшних еще нет. Клара Ильинична вернулась. Вчера говорил несколько раз с Анной Семеновной. /…/ Все идет хорошо – мужества не теряй. Девочка оказалась легендой, вероятно, будет мальчик. Крепко целую. Юра.
PS. Cейчас звонила Елена Соломоновна. У них сейчас идет маленький консилиум о тебе.
1932 год в стране – голод. Продуктов, после сталинской коллективизации, на всех не хватает, даже в привилегированных распределителях. Юрию Михайловичу, вероятно, не очень приспособленному к домашнему быту, загруженному редакторской, педагогической, научной работой, постоянно приходится заниматься «не своим делом». Ходить на многочасовые демонстрации, дежурить в редакции, читать лекции, а кроме того, к приезду жены и новорожденной, заниматься ремонтом комнаты. Работа эта ему явно не по плечу – ведь надо куда то сложить 7 тысяч томов книг, версток, корректур, писем и т.п. А кроме того, убрать посуду, отодвинуть мебель. Маляры, как всегда, подводят – то не приходят совсем, то с большим опозданием. Белила и медный купорос проливаются куда им вздумается. Немолодой мужчина, счастливый отец безмерно устает от всего этого бедлама.
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ
1 мая 1932 г.
/…/Обо мне не беспокойся: хотя смертельно устал, но на ногах держусь. Писать много не могу, потому что от усталости весь день болит голова (с 8-ми утра до 5-ти вечера не присел. Из них битых 4 часа стоял на одном месте). /…./. Смертельно хочу спать. Завтра днем дежурю. Вернусь домой к 5 часам.
На улицах великолепная иллюминация (не пришлось нам с тобой отправиться смотреть, как ты хотела, на такси). Самое зрелище сегодняшнего дня – 300 самолетов (как сказано в «Вечерке»). Небо буквально гудело.
Завтра пришлю книг. Нашли мы «Известия» – сегодня принесли. Что прислать из еды?
С Кларой Ильиничной уговорился, что если ночью ей позвонит Елена Соломоновна, то Клара Ильинична передаст мне последние новости.
Крепко, крепко целую. Будь спокойна. Юра.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
1 мая 1932 г.
Юринька! Получила твою записку. Получила все что просила. Спасибо большое. /…/.
Как ты? Есть ли у тебя что кушать? Как с обедом? Очень соскучилась по тебе. Не знаю как ты. Жду от тебя сегодня большое письмо со всеми подробностями. Завтра пришли еще книг. Отвлекаюсь от болей и скуки книгой. Видела 2-х новорожденных. Завидно стало. Правда, один плохой. Недоношенный. Вряд ли выживет. Но мой-то выношен. Ему как раз время рожаться. Ну, пока. Пиши мне. Я ведь здесь почти совсем одна. Только Елена Соломоновна со мной. Не тревожься обо мне. /…/. Целую крепко. Твоя Ли.
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ
2 мая 1932 г. 9 часов утра.
/…/Сейчас еду дежурить в издательство. /…/ Пожалуйста, не волнуйся за меня. У меня все по расписанию. Посылаю книгу, газет сегодня нет. Напиши, что купить в распределителе. Целую крепко, крепко. Твой Юра.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
2 мая 1932 г.
Юреночка мой родной! И тебя поздравляю с новой дочкой. Увы, мои многочисленные тетушки так обрадовались концу моих мук, что забыли мне показать нашу девочку. Анна Семеновна, которая торжественно прибыла на мои роды, и Елена Соломоновна в один голос заявляют: вылитый Юрий. /…/. Дочку кормить буду только под утро. Чувствую себя на верху блаженства. Все прошло. Есть дочка. Между прочим, недоношенная. Ведь всего 6 1/2 фунтов[94]. Лежала она не совсем правильно. Поэтому процесс самих родов продолжался долго – 4 часа. Ну, пока. Целую. Спешу. Твоя Ли.
БИРКА ИЗ РОДДОМА
2 мая 1932 г. родилась девочка. Живая в 16 ч. 10минут
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ
2 мая 1932 г.4 часа 15 минут
Роднусенька моя, поздравляю. Знаю, что девочка. Какой вес? На кого похожа? Черненькая или светленькая? Напиши подробно, если можешь. Поцелуй от меня нашего маленького и скажи ей (надо было написать «нашу маленькую»), что папа приветствует ее появление. Вероятно, кричит – она была все время такая буйная и кувыркалась. Кормила ли ее к тому времени, когда будешь отвечать? /…/Целую обоих крепко. Твой Юра.
Как ты себя чувствуешь – пиши.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
3 часа
Юренка, мой хороший! Познакомилась уже с нашей дочкой. Она маленькая. Щечки темно-розовые (цвета южного загара), полненькие. Глаза – твои (разрез). Вообще на тебя похожа. Весит 6 1/2 фунтов. Оказывается недоношенна. Поэтому кормлю через 2-3 часа. Но девочка жизнеспособная. Кричит хорошо. Грудь сразу взяла. Кормила ее уже три раза. На второй раз она хуже ела. Минут через 20 ее принесут опять. Я себя чувствую хорошо. /…/.
Как ты? Все так же мечешься? Все также устаешь? Поберег бы ты себя хоть для нашей девочки. Она такая хорошая.
/…/ Как старушки отнеслись? Вера Алексеевна вероятно с полным равнодушием.
Юренька, что слышно с ремонтом? Ведь, если все будет благополучно, то я 8-го буду уже дома. /…/
Маме я писала, чтобы она купила кроватку. Дашь ей денег.
Что слышно с квартирами в Партиздате? Как тебе работается? Пиши, что нового. /…/.
Пришли мне, пожалуйста, книг.
/ …/Целую. Твоя Ли.
Пришли книги и газеты. Дочка сейчас со мной. Покормила ее. Целует папу. 3 мая 1932 г.
4 мая 1932 г.
Приписываю несколько слов. Юрушка, береги себя. Ты очень нам нужен – мне и дочурке. Твое письмо меня расстроило. Ты по-прежнему мечешься. Я чувствую себя превосходно. to нормальная. Все протекает как нельзя лучше. Дочурка ест очень прилично. «Спунша» она вроде тебя. Если сонную принесут – все погибло – не добудишься. Вообще – твоя дочка. Домой прибудем 8-9 мая. Жду книг. Целуем папу. Мама и дочка.
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ
2 мая 1932 г. 5 часов.
Жду внизу ответа
Ли, как ты находишь нашу девочку? Не горюю, что 6 ½ фута. Потом может стать бутузом. От Анны Семеновны подробности знаю. Как чувствуешь себя сегодня? У меня куча приветов и поздравлений тебе из РИИНа, где сегодня читал отвратительную лекцию вашему отделению /…/. Сегодня вечером буду готовить комнату к ремонту. Потолок белить не стану. Что тебе прислать? Сегодня сговорюсь с Кларой Ильиничной относительно покупки кроватки. Устал за эти дни очень. Крепко целую и маму и дочку. Будь здорова, мама Ли. Юра.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
5 мая 1932 г. 51/4 ч аса.
Родной мой Юринька! Ты, бедняга, совсем запарился. Ну погоди, вернусь (8-го, вероятно) и буду помогать в работе над книжками, ладно?
Наша девочка по-прежнему хороша. У нее чудесная мордочка. Маму она, наверное, еще не знает, но знает, что когда ее уносят из ее кроватки – значит надо открывать ротик и требовать грудь. Если ее положат ко мне, а я не сразу даю ей грудь, она гримасничает и собирается реветь. Вообще же, как мне сказали, она очень спокойный ребенок, но мордашка у нее очаровательная. Всё-таки она ребенок слабенький. У нее пергаментность костей (точно не знаю, что это, но это результат недоношенности). Кроме того, сухость кожи.
Я себя чувствую хорошо. to нормальная. Всё идет своим порядком. Книг мне совсем не посылают. Я с тоски погибну. Пришли бумагу, кончается уже.
Как мы назовем дочку? Татьяной или иначе? Надо решать. Ей надоело ждать.
Жду завтра от тебя подробного письма. Целуем папу. Мама и маленькая.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
5 мая 1932 г. 2 часа дня.
Роднусенька мой! Мама и дочка целуют тебя. Очень уж я соскучилась по тебе. Смотрю на дочку, ловлю черты сходства и так домой к тебе тянет… Каждую ночь тебя во сне вижу. Но во снах ты плохой, чужой какой-то. Как ты теперь? Отдохнул ли сегодня? Как ты питаешься? В какой столовой обедаешь? Как кормит тебя Сима и чем? Хватает ли денег? Что с ремонтом? Все ли вообще благополучно? Как РИИН и Партиздат? Как твоя работа?
Дочка и я ведем себя хорошо. Сегодня она мне не нравилась, плохо ела. Я думаю, что у нее желудочек не в порядке... Но потом она пришла голодная, превосходно сосала. А врач сказал, что она молодцом... Она уже стала восстанавливать вес. Ребята в этом возрасте сначала еще теряют в весе, а потом начинают набирать. Дочка уже начала. У нее очень нежная кожица. Поэтому мордочка у нее облезла из-за молока, которое капает на подбородок и щечки. Похожа она только на тебя. От меня ничего не унаследовала. Твой лоб, глаза, даже брови, нос. Твоя дочка – ничего не поделаешь. Сам увидишь, когда придем домой. А придти мы должны послезавтра, 8 мая. Выписывают после 4-х. Поэтому готовься 8-го нас принять. Приедешь на машине. Идти не рекомендуется. Надеюсь, что в комнате будет так, как я рассчитывала. Ведь дочки не часто рождаются. Приедем, буду тебе помогать в работе. А дочка будет расти – ее основное занятие. Пиши, Юреночка, обо всем. Целуем крепко. Твои Ли и дочка.
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ
3 мая 1932 г. Ночь.
Роднуська, пишу ночью: перекладываем книги, передвигаем вещи, планируем всячески, выходит неудачно. Пишу сегодня – завтра с утра до вечера на работе…
Отложил, чтобы делать уборку, в конце концов, свалился с ног, заснул. Мечтаю спать и никуда не бежать. Вероятно, приготовлю к завтрашнему дню. Тяжело не с книгами, а с мелочью – ее нам нужно было подготовить предварительно.
Пиши о себе подробно. Пиши подробно о дочери. Надо бежать – всюду опаздываю. Крепко целую тебя, дочку. Юра.
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ
5 мая 1932 г. утро.
Ли, у меня нет никаких новостей. Два вечера возился с уборкой и еще не закончил. Завтра, по-видимому, придется пригласить других маляров – эти не идут. Хаос большой. Твое письмо, подробное, получил. Наша детка молодец. Знает ли она уже маму? Пиши о ней подробнее. Как твое самочувствие – пиши каждый день. Завтра у меня первый свободный день за месяц! Хоть высплюсь. Единственное желание. На днях подписываю договоры на обе работы. Сроки ужасающе быстрые. Придется все бросить, чтобы успеть. Целую маму и маленькую. Юра.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Юреночка, родной. Жду с нетерпением завтрашнего дня. Очень соскучилась. Хорошо тебе – нет времени скучать. А нам с дочкой каково? Постарайся взять маленький отдых на несколько дней, когда вернемся. Хотя бы в издательстве.
Завтра ждем тебя и маму от 4-х до 5-ти. Пожалуйста, не позже. Не хочу нервничать. Приезжай на издательской машине. Пешком, пожалуй, не дойду. Очень слаба. Будут ли дочке цветы? Надо бы! Вообще, мне очень хочется, чтоб было чуть-чуть празднично, чтоб ты не нервничал, был с нами, чтоб в комнате было светло и чисто. Можно, Юринька? Вообще, я полна сейчас энергии и, кажется, сил. Буду помогать тебе, в чем только смогу.
У меня прошли капризы беременности. Теперь я мать, и жена, и студентка. Теперь не будет капризов.
Будь здоров, мой хороший. До завтра. Целуем тебя. Твои Ли и дочка.
(На свободной четвертушке вчетверо сложенного листа надпись: Юрию.)
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ
6 мая 1932 г.
Ли! То, что происходит – второй переезд. Маляр мажет. Шкапы, несмотря на то, что завешаны, залиты белилами, купоросом. Книги, которые складывал, торопясь, как на пожар, перепутаны. Чистить, мыть, убирать – хватит на неделю. Всякую работу дома надо бросить, чтобы только кое-как привестись в порядок. А я за неделю не имел времени хоть что-нибудь сделать. Несколько ночей почти не спал. Работа душит. Времени совсем нет. Не знаю, как удастся к послезавтра привести комнату в порядок. Не найду теперь даже некоторых вещей. Впереди бессонные ночи, потому, что пропущены все сроки по ряду работ, потому что несколько дней еще не будет времени взяться за них. От меня остался комок нервов. Ноги не держат. Больше никаких поручений хозяйственного характера взять не могу. Это значит бросить всякую работу. Прости – очень не по себе. Твое письмо с вопросами заложено под грудами бумаг. Ответить, поэтому на них не берусь – не помню.
Что нового у маленькой? Имени не выбирал. Если можно отложить до возвращения – отложи. Нельзя – не возражаю против Татьяны. Лучше сейчас ничего не придумаю.
Вчера по телефону был такой диалог (голос мужской):
– Виленскую к телефону.
– Кто говорит?
Пауза. Потом:
– С одного учреждения.
– Она находится в больнице.
– А! Понимаю. Хорошо.
Дмитрий Владимирович (Митя Веретенников? – Н.В.). Почему он должен быть «с одного учреждения», а не назваться? Ведь потому-то я и спрашивал – кто, чтобы рассказать подробности, которые могли его интересовать и которые другим не стал бы говорить.
Да, теперь о ремонте: потолок белят, а окон и дверей не красят (Клара Ильинична против – будет пахнуть). Я махнул рукой. Пусть через две недели опять чистить и мыть после окраски, а еще через две недели после домового ремонта (отопление) лето, смотришь, и пройдет. Целую крепко тебя и маленькую. Юра.
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ
7 мая 1932 г.
Ли! Нет секунды – иначе опоздаю в РИИН. Лучше выписывайся 9-го. 8-го (завтра) не могу сорвать занятий с 4-х до 6-ти. Что делается! (конечно, в доме). Бегу. Целую обоих. Юра.
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – МАМЕ
8 мая 1932 г.
Ли, родная, возьмем тебя завтра. Все приходит к концу. Ну, а над мелочами придется поработать потом. Лег сегодня в 8 часов утра. Должен был встать в 9, встал в 11 с головной болью. Расставлял книги. И еще осталось претендентов на меня больше, чем достаточно. И все требуют в первую очередь. Я не могу, серьезно говорю, не могу – нет физических сил. Целую обоих. Кровать для тебя есть, для дочери пока еще не купили: плохие. Ну, бегу. Юра.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ № 3488
Отдел ЗАГС
Фрунзенского Райсовета
Выдана в том, что Бочарова Татьяна Юрьевна родилась в 1932 году 2 мая, о чем в книге записей гражданского состояния о рождении за 1932 год 12 числа мая произведена соответствующая запись.
Отец Бочаров Юрий Михайлович
Мать – Виленская Эмилия Самойловна
Гор. Москва.
Однако счастье материнства продолжалось недолго, очень недолго. Уже 28 мая Танюша попала в больницу, а 5 июня умерла…
Печать Больница Д-ра Боткина
УДОСТОВЕРЕНИЕ
В том, что Бочарова Татьяна Юрьевна 26 дней находилась на излечении в больнице с 28 мая по 5 июня 1932. Скончалась от болезни: Рожа шеи, головы, спины.
Подпись
Танюша, названная так в честь пушкинской героини «Евгения Онегина» (Юрий Михайлович был страстным почитателем А.С. Пушкина и собрал превосходную библиотеку прижизненных изданий поэта), прожила на свете всего 34 дня. Гробик с малюткой был усыпан незабудками. Мама избегала разговаривать на эту тему и никогда не покупала незабудок.
1932 ГОД
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
1932г. Сентябрь.[95]
Юреночка! Сейчас без четверти семь. Скоро будем в Харькове. Едем хорошо. Волнуют меня только твои дела. Когда едешь, успеешь ли собраться? Много нервов потратишь.
Денег у меня мало. Я забыла, что вечером дала Евгении Алексеевне 20 рублей, а утром еще 10. Кроме того, уплатила 50 рублей за квартиру. У меня сейчас 157 рублей. Но пусть это тебя не беспокоит. Я в Ростове у Нинки[96] займу. На курсовку мне хватит. Кроме того, в Кисловодске мамина приятельница. Я у нее одолжу. Жду тебя очень. Из Ростова еще напишу, после встречи с Нинкой. Публика хорошая. Твоя Ли.
Задержала до Ростова. У Нинки возьму денег. Если нет, то мне обещала одолжить соседка.
1933 ГОДМАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Москва 11 марта 1933 г.
Сейчас уже первый час ночи. Только что ушли Нина, Кися и Володя. Я одна. Совсем одна. Стараюсь не оставаться без людей. Тяжело, мучительно. Родной мой, не могу без тебя. Будто годы прошли с твоего отъезда. Кричать хочется, выть зверем. Хоть бы скорей, скорей шло время. А от тебя ни звука. Телеграммы нет. Я знаю, как работает наш телеграф, но это меня мало успокаивает. Нет сил. Зарыться бы куда-нибудь, не существовать это время. Юринька, мой…
Сижу за твоим столом…
12 марта.
«Тревога, ночь – вот что письмо мне диктовало»…
Это правда, днем легче немного. Но очень немного. Кроме всего, беспокоит отсутствие телеграммы. Ведь ты же мне обещал, Юринька.
Твои поручения исполнила частично. Как назло, в эти дни занятия начинались в 9 утра и кончались в 3 и позже.
Отсутствие времени, тревога за тебя, бесконечная трепка и Нинкины дела – все это не дает спокойно существовать.
В Институте работает комиссия. Говорят, обстановка неважная. Преподавательское собрание превратилось в допрос[97].
Я купила Маркса и Энгельса о литературе. Это, оказывается, статьи, которые были напечатаны в Литературном Наследстве.
Интересную «историю» вчера рассказывал Володя. Весьма гадкую, но как будто, вполне достоверную. Во всяком случае, он слыхал ее из нескольких источников. Заключается она в следующем.
Недавно МКХ прокладывал не то водопровод, не то канализационные трубы в районе кладбища, где похоронен Гоголь, причем под самой могилой.
После долгих переговоров с различными организациями, удалось получить разрешение на перевозку гоголевских останков на другое кладбище. При раскапывании могилы присутствовала писательская делегация. Состава не помню. Но там был Олеша, Павленко, Каверин, Эрлих. В общем, имена.
Когда разрыли могилу и открыли крышку гроба, произошла эта отвратительная история. Писатели набросились на скелет Гоголя и по косточкам растаскали его. Остался только таз. Позже они сидели на могиле и обменивались костями. А Эрлих в Ленинграде устроил распродажу ребра, украденного им у Павленко. Он продал за крупную сумму три ребра. Но настоящее осталось у него.
Когда об этом безобразии стало немного известно, «Комсомолка» хотела заняться этим делом, и трудами Ильфа и Петрова был приготовлен номер. Но не знаю, какие (может быть писательские) организации решили это дело не придавать широкой огласке. Но участники, по-видимому, получили по заслугам. Кое-что из останков удалось отобрать, но не хватает многого, в частности черепа. Просто жутко было слушать эту мрачную повесть. Гадость, какая!
Недавно встретила я одного знакомого, которого не видала очень давно. Это мой бывший заведующий из Госбанка С.С. Гамбург. Я тогда была с ним в хороших отношениях. Он даже пытался, несмотря на мой юный возраст (17 лет) завести со мной роман, но неудачно. Взаимности не было. Сегодня он зайдет ко мне. Знает тебя (не лично). Вот все мои новости.
Что у тебя, Юренка? Как доехал? Какие условия там? Хорошо ли тебе? Отдохнешь ли? Все, все напиши. А главное, когда рассчитываешь вернуться?
Котька[98] выздоравливает. В.А[99]. ведет себя мирно. Вообще все бы хорошо, если б не так болезненно чувствовать твое отсутствие.
Целую тебя крепко, очень крепко. Твоя Ли.
Только что получила открытку из Минска. Спасибо, родной, мне теперь спокойней.
В.А. дала адрес почтамта, за что она мне устроила бенефис, присовокупив сюда ряд других причин. Но я не считала удобным дать ей адрес. Правильно? Жди, конечно, жалоб и кляуз, но не расстраивайся.
Эту жуткую историю с переносом праха Гоголя мама неоднократно рассказывала, не упоминая всех деталей, которые, видимо, со временем стерлись из памяти.
События произошли не в 1933 году, как это можно понять из ее письма, а в мае 1931 г. Руководство, размещенной в Даниловом монастыре колонии детей репрессированных родителей, ходатайствовало о сносе кладбища, «т.к. из-за чрезвычайного многолюдства заключенных, им негде питаться и приходится обедать на могильных памятниках».[sic! Н.В.] Ходатайство было удовлетворено. 31 мая 1931 года в присутствии специальной комиссии были вскрыты могилы Н.В. Гоголя, супругов Хомяковых, Н.М. Языкова, Н.Г. Рубинштейна, прах которых был перенесен на Новодевичье кладбище. Погост же Данилова монастыря был снесен.[100]
После проведенной эксгумации праха Гоголя, по Москве поползли слухи о том, что писатели, присутствовавшие на этом мероприятии, растащили останки писателя. В акте экспертизы, который хранится в ЦГАЛИ в фонде 139 под № 61, об этом, разумеется, не упоминается. Но, тем не менее, слухи множились и еще в марте 1933 г. рассказывались как недавно произошедшие события.
Вопросом перезахоронения праха Николая Васильевича специально занимался Юрий Владимирович Алехин, писатель, заместитель директора Фонда А. И. Солженицына, проведший собственное расследование. Он переговорил со многими людьми, которые в то время жили неподалеку от Свято-Данилова монастыря и могли бы быть свидетелями того, что произошло 31 мая 1931 года.
В первом номере «Российского архива» за 1991 год были опубликованы воспоминания известного советского писателя Владимира Германовича Лидина, присутствовавшего при перезахоронении. Эти воспоминания не имеют ничего общего не только с рассказами найденных Алехиным очевидцев, но и со свидетельством, которое довелось Алехину услышать непосредственно от самого В.Г. Лидина.
В Литературном институте Владимир Германович, умерший в 1979 году, вел у Алехина семинар прозы. Лидин был очень словоохотливым человеком. Он рассказал, что в один из майских дней 1931 года ему позвонил директор кладбища –бывший комсомольский работник и предложил присутствовать при переносе праха Гоголя. На сие действо собралось примерно около 30 человек, среди которых были: Юрий Олеша, Михаил Светлов, Всеволод Иванов, Лидин... Сняли с могилы памятник и принялись копать. Копали очень долго, и лишь к исходу дня, в боковом отводе склепа обнаружили погребение. Доски у гроба были подгнившие, их вытащили. Присутствовавшая при этом супруга известного архитектора Барановского Мария Юрьевна горько плакала. И один из энкавэдэшников сказал своему коллеге: «Смотри, вдова-то, вдова как убивается!» Когда открыли гроб, то увидели – о, ужас! Череп великого писателя повернут набок. Скелет лежал на спине. Часть сюртука табачного цвета, в котором он был похоронен, сохранилась. И костяшки пальцев ног были «вдвинуты» в сапоги. У сапог дратва сгнила, и они сами собой раскрылись, открыв конечности ступней.
И вот после того, как вскрыли гроб, и произошла вакханалия по разграблению останков. Лидин сам говорил, что стянул себе хорошо сохранившийся кусок жилета табачного цвета с груди Гоголя. «Я первое издание «Мертвых душ» окантовал в металл и вставил туда эту материю», – говорил Владимир Германович. Тамара Владимировна Иванова, ныне покойная, рассказывала мне, что когда ее муж Всеволод Иванов пришел с этого перезахоронения, он страшно возмущался: «Как можно, после всего случившегося, считать писателей высоко духовными людьми?!» Из гроба, кроме куска материи, стащили ребро, берцовую кость и, по уверению Лидина, один сапог. Вполне вероятно, еще что-то...
И вот, после того, как перевезли гроб, начались вещи мистические. Проходит дня три, как рассказывал сам Лидин, звонит ему директор кладбища и говорит: «Владимир Германович, я что-то спать не могу. Ко мне третью ночь подряд Гоголь приходит и говорит: «Давай назад ребро!» Лидин тут же позвонил другому похитителю, писателю, который стащил берцовую кость. Тот тоже в недоумении: «Она у меня была в кармане пальто. С вечера вытащить забыл, а утром хватился, а ее уже и нет. Исчезла». И Лидин, эдак старчески улыбаясь, рассказывал: «Ну, что ж поделаешь, мы сговорились, собрали кое-что из того, что было взято, и под покровом ночи пробрались к могиле Гоголя на Новодевичьем кладбище, вырыли маленькую ямку и туда опустили.» Кусок камзола до сих пор хранится в обложке книги у его дочери, которая так и не вняла моим просьбам возвратить эту реликвию государству[101].
Казалось бы, на этом можно поставить точку.
Но существует еще одна версия произошедшего. Ее обнародовала доктор филологических наук И.А. Вишневская. Вот что она рассказала: Гоголь был крайне неравнодушен к... сапогам. Он без конца заказывал их, любил примерять и нередко приводил в изумление мастеров-сапожников своими замечаниями о скрытых дефектах обуви.
А теперь – об одном малоизвестном эпизоде... Напомню: это 1930-е годы, период воинствующего атеизма. Поэтому без всяких церемоний писательско-кладбищенский альянс решил вскрыть гроб. О святотатстве, надо полагать, никто не думал. Более того, писатели (писатели!) взяли сувениры на память: Лидин – лоскут от жилета Гоголя, Малышкин – фольгу, а Иванов – ребро создателя «Мертвых душ». Комсомольца же Аракчеева (директор кладбища, бывший комсомольский работник), человека более практичного, соблазнили... сапоги. Да, в гробу находились прекрасно пошитые и неплохо сохранившиеся сапоги.
После перезахоронения Иванов поехал в Ленинград. Ребро классика он вез с собой. В Ленинграде пришел Иванов к друзьям, повесил пальто в прихожей (во внутреннем кармане, он это проверил, лежало завернутое в бумагу ребро). Спустя какое-то время, он стал намекать друзьям на то, что обладает уникальной вещью. Друзья заинтересовались: «Что же там у тебя?» – «А вот увидите», – ответил Иванов, вышел в прихожую, полез в карман и... обомлел: ребра не было!
Малышкин вскоре скоропостижно скончался. Про Лидина ничего сказать не могу, но Аракчееву пришлось худо. Свой трофей – сапоги Гоголя – он поставил в комнате, рассчитывая, видимо, носить, когда стопчет свои. Но тут началось нечто странное. Каждую ночь Аракчеев видел во сне, что сапоги оживают и начинают его душить. Перепуганный атеист-комсомолец позвонил Лидину и спросил, что же ему делать?
– Вот что, – посоветовал ему Лидин: – похорони-ка эти сапоги на Новодевичьем рядом с могилой Гоголя. Аракчеев так и сделал. Конечно, тайно. Потом, говорят, долго выясняли, что это за неизвестная могила рядом с гоголевской. А главное: перестали сниться Аракчееву кошмары».
А что же случилось с куском жилета, взятым на память Лидиным, может спросить читатель? «Я первое издание «Мертвых душ» окантовал в металл и вставил туда эту материю», – сообщил незадолго до смерти Владимир Германович. До сих пор он хранится в обложке книги у его дочери.[102]
В газете «Советская Россия» от 5 августа 1988 года были впервые опубликованы записи из дневника бывшего члена Военно-революционного комитета в Москве, дипломата и писателя А.Я. Аросева «До жестокости откровенны»: «...26 мая 1934 года. На днях был у Вс. Иванова, Павленко, Н. Тихонова. Рассказывали, что отрыли прах Гоголя, Хомякова и Языкова. У Гоголя головы не нашли...». Вот такой мистический, таинственный факт! Прямо чертовщина какая-то![103]
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
1933 г. август.[104]
Первое, чем могу тебя порадовать, – еду в мягком. Прободрствовав всю ночь, я твердо решила покончить с вагоном № 6 и за некоторую доплату в Рязани переехала в № 5. Увы, мой «покровитель», проводник какого-то вагона, либо просто служащий поезда, поступил несколько неблагоразумно. Он взял «мягкость» в Рязани, рассчитывая, что я смогу пересесть в Чемодановке, но оказалось, что это те самые знаменитые места до Козлова. Дело в том, что в Козлове они бронируются. Но я все-таки в мягком. Ехала до Козлова в свободном купе, а в Воронеже получаю твердое место. В «моем» воронежском купе уже поместились мои вещи. Из Воронежа пошлю подробное письмо тебе и открытку маме. В вагоне, когда чисто, хорошо работают мысли.
Целую очень крепко. Твоя Ли.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
10 августа 1933 г.
Юренка моя родная! Третий день уже я в Краснодаре и очень довольна своим отдыхом. Уже констатирую некоторую «поправку». Лицо свежее, сил как будто больше.
Нина и Г.И. еще не приехали. Приезжают сегодня ночью. Вчера Г.И. звонил. Я с ним говорила. Он был просто ошарашен моим приездом. Не знал, что говорить, обещал обязательно приехать сегодня вместе с Нинкой и заключил всю эту телефонную беседу сообщением Кадику (старшему сыну) о том, что «эта самая Миля – очень хороший человек». Это следовало понимать, как наставление, как со мной обходиться. Правда, наставление несколько запоздалое, так как у нас и без этого установились превосходные отношения.
Сейчас я спешу кончить едва начатое письмо, так как Кадик со вчерашнего дня ждет сегодняшнего вечера, чтоб пойти в художественный музей. Поэтому, завтра напишу большое письмо, в коем и изложу все и всяческие подробности, тем более что, к этому времени приедет Нина и Г.И.
В общем, мне здесь очень и очень хорошо. Больно только при мысли, что ты там один, безо всякой помощи, с огромной нагрузкой, переутомлением и бесконечными заботами обо всех.
Роднуська, не надо лишних забот, сбрось их. Все уже достаточно взрослые, чтобы самим о себе позаботиться и чтобы выполнять свои непосредственные обязанности.
Пиши, как твоя работа? Когда отпуск? Что слышно с Пединститутом? Все, все пиши.
Здесь, кроме магазина Книгоцентра, есть еще и букинистический магазин, тоже Когиза. Боны принимает. Я купила три книги Бальзака, одну любопытную книжку о Щедрине и…Пушкинский сборник памяти профессора С.А. Венгерова. Я не помню, есть у тебя эта книга или нет ее. Напиши, пожалуйста. Стоила она всего 3 рубля. Вообще, здесь книги дешевы и можно кое-что достать. У тебя, кажется, нет II Ленинского сборника. Он здесь стоит (без переплета) 2 рубля. Есть так же и I-й сборник. Также сообщи, взять или нет Петрушевского. Не могу точно припомнить названия, но что-то об Англии и феодализме. Стоит 1 рубль 50 копеек.
Пожалуй, будет неплохо, если ты, на всякий случай, заказным письмом пришлешь еще одну заборную книжку. Кончаю писать, так как ребятам не терпится.
Целую крепко моего хорошего. Твоя Ли.
Где Сергей Ант. И что у него слышно?
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Краснодар 13 августа 1933 г.
Давно не писала тебе, роднусенька! Чувствую себя очень виноватой. Но тяжело писать, не получая ответа. Начинаю тревожиться. Но убеждена, что если бы что случилось с тобой – мама бы написала. Поскольку нет писем ни от тебя, ни от нее, приписываю неаккуратности почты. Пиши лучше по адресу: Базарная 59, Бернацкому, для меня.
О себе можно много писать, но не располагает обстановка. Солнце, зелень, уют.… Хочется все это максимально использовать, «захватить» побольше.
Нина и Г.И. приехали. Мне хорошо у них. Я чувствую себя здесь как дома, даже чуточку лучше. Ведь нет тут раздражающих В.А. и В.В., нет мелких забот. Если бы ты писал мне, если бы я могла быть спокойной, что у тебя есть сейчас хоть относительное благополучие, мне было бы во много раз лучше и спокойней.
Хорошо, что отпуск нынешнего года мы проводим не вместе. Это даст возможность о многом пораздумать, многое проверить. Я верю, что по возвращении в Москву наши отношения, а отсюда и вся наша жизнь, станут лучше, теплее и нормальней.
Вчера мы (Г.И., Нина, ребята и я) ездили на Кубань. Катались на лодке. Купались. У меня развился зверский аппетит. Целый день согласна кушать. Результаты – на лицо. А возможно, и на «лице». Сегодня тоже едем, но уже втроем, без ребят. Сейчас должны придти Нина и Г.И. и тогда отправимся. Возможно, что в самые ближайшие дни поедем с Ниной в Сочи, в дом отдыха. Это на две недели. Придется тогда оплатить только путевку, а билет из Сочи в Москву будет бесплатный. Если это выйдет, дам тебе телеграмму.
Сможешь ли ты перевести мне рублей сто? Возможно, я пока обойдусь и без них, то есть, смогу взять взаймы у Г.И., но если можно будет – постарайся. Ведь у меня, увы, нет на обратный путь. Но опять повторяю, что это необязательно.
Юренка моя, почему ты не пишешь? Почему не пишет мама? Что случилось? Мне тяжело задавать тебе бесконечные вопросы – ведь ответа на них нет. Сегодня пришла уже газета от 10/VIII, а от тебя ни строчки.
Пиши обо всем, молю тебя, Юренка. Тяжело невыносимо. Трудно писать. Маме отправляю открытку.
Целую тебя. Твоя Ли.
16 августа 1933 г.
Сразу собралось три письма. Если б ты знал, мой хороший, сколько я здесь переволновалась. Два раза звонила в Москву, но оба раза ничего не получилось. Только вчера получила твое письмо. А от мамы нет ничего. Пусть она тоже пишет на домашний адрес.
По письму чувствую, что ты совсем замотался, хотя и не хочешь в этом признаваться. Роднуська, хоть бы поскорей у тебя был отпуск. Переехали ли вы в новое здание? Напиши обязательно о Сергее Ант. Напомни маме, чтоб отдала в стирку белье.
Я уже основательно покруглела и загорела. Ездили мы два раза на Кубань. Катались и купались. Аппетит – зверский. Нина, возможно, на днях уедет в дом отдыха, а я пробуду здесь числа до 30-го.
Купила я еще Маркса и Энгельса об искусстве. Тираж значится 8 000. Вероятно, в Москве уже нельзя достать этой книги. Ты не покупай.
Сможешь ли ты перевести мне рублей 100? Заходил ли в Пединститут? Может быть, там уплатят тебе за лето?
Очень стосковалась по тебе. Ты – единственный светлый. Больно, зачем так много горького и мелочного было в наших отношениях. Сейчас вижу абсолютно то же самое у Бернацких. И этот «живой пример» лучше всяких внутренних сознаний свидетельствует о том, что это безобразно, пошло.
Звонил ли ты Володе, чтоб он получил мои карточки? Я, грешным делом, ни разу не писала ему. Тяжело было писать. Мне казалось, что что-то случилось с тобой, либо с мамой. Приехала ли Фаня?
Юренька, дай что-либо из продуктов (сметаны немного, либо что другого) маме. Она, наверно, если нет в Москве Фани или Ст. Мих, совсем обнищала. Получает ерунду и никаких к тому же продуктов. А ведь она нам всегда во всем помогала.
Спешу завтракать. Мало пишу о том, что хотелось бы, потому что это не вполне цензурно. Лучше расскажу.
Целую крепко.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Краснодар 19 августа 1933 г.
Только что получила твое открытое письмо . Должна признаться, что оно меня порядком разозлило. Заметь, что я не получала от тебя никаких известий в течение 10 дней, места не находила себе. Уверяю тебя, что черкнуть открытку можно было еще до 11-го. А ты, получив последнее мое письмо 11 августа, уже 14 августа бьешь тревогу.
Послала я тебе 17 августа «большое» письмо. Удивляться тому, что оно написано в три приема не стоит. Пойми, что тяжело писать в пространство. Поэтому я его отправила только по получении твоего первого письма.
Кроме того, меня возмущает, чтобы не сказать больше, твое отношение к маме. Я, надо тебе сказать, не получила от нее ни строчки. А сегодня уже 2 недели, как я уехала. Ты писал, что она звонила, справлялась обо мне. Это меня несколько успокоило. По-видимому, ты ее ни разу не видал. Сомневаюсь даже в том, есть ли у нее ключи от «нашей» комнаты. Знаю только, что когда требуется ее помощь, даже материальная, мы без зазрения совести пользуемся ею. А вот, чтоб ей хоть чем-нибудь помочь, или даже справиться о здоровье – на это ни у кого нет времени. Я знаю, что ты ответишь мне. Ты перегружен, измучен и прочее. Но, честное слово, вовсе не так уж сложно открыть телефонную книгу, найти в ней Краснопресненское отделение Госбанка и позвонить.
Кроме того, есть и другой способ: позвонить Анне Семеновне. Неужели ты позабыл и ее телефон? После этого вообще не хочется ехать отдыхать. Отдых превращается в какую-то пытку. Прилагаешь все усилия к тому, чтобы вопреки всему не беспокоиться, но это напрасно. Так же как в прошлом году милейшая Вера Алексеевна сумела довестиднас своим добрым отношением в Кисловодске, за тысячу километров, так и ты, следуя ее примеру, не можешь дать спокойно отдохнуть «любимому существу».
Может быть, мое письмо резко и несправедливо, но, оглянувшись на наше прошлое, ты увидишь, что так не поступают. Меньше всего мне хочется обидеть тебя. Но самой мне до слез обидно, что на тебя нельзя положиться ни в какой мелочи.
Нельзя быть таким избалованным. Ты привык к тому, что я часто пишу тебе – этого вполне достаточно, чтобы писать мне редко. Ведь я не прошу больших писем.
Да что говорить! Надеюсь скоро (безусловно, раньше срока) быть в Москве. Поэтому не стоит расстраивать тебя.
Встречать меня не надо. Поезд приходит в 6 часов утра, а то и раньше, так что это бессмысленно. Просто позвоню с вокзала или прямо приеду.
Эх, Юра, Юра. Тяжело мне бесконечно. Прости мое письмо. Привет ребятам. Побереги себя хоть для них.
Посылаю несколько снимков. Если мама жива, – дай ей парочку. Привет от Нины и Г.И.
Ли.
Купила еще несколько книг. На всех снимках я значительно хуже вышла. Вообще-то я основательно поправилась (насколько можно в такой короткий срок).
На почте было от мамы два письма, и моя злость прошла. Юренка, письмо мое в большой степени справедливо, но его сейчас не следовало писать.
Целую крепко- крепко. Твоя Ли.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Краснодар 23 августа[1933 г.
Юринька, любимый! Скверная у тебя Ли. 10 дней не писала. Злое письмо послала. Но ведь ты же знаешь, что все это чушь, что я люблю тебя очень и очень, что мне без тебя тяжело и больно.
Получила я твое письмо от 18 августа. Теплое, родное письмо. А мне самой трудно писать. Должно быть, сильно я переутомлена еще. Ведь много есть о чем писать, а собраться трудно. Так, чтоб настоящее письмо написать. Да и не все писать удобно.
Деньги пошли на имя Г.И. (Краснодар, Кубанский сектор ОГПУ, начальнику отдела снабжения Г.И. Бернацкому). Меня здесь деньги могут уже не застать, так что я просто возьму взаймы у Г.И.
Это письмо ты получишь, вероятно, числа 26-го. Поэтому мне уже не отвечай. Я рассчитываю выехать числа 28 – 29-го.
Теперь отвечу на твои вопросы.
Отдохнула все-таки, несмотря на малый срок, хорошо. Покруглела физиономия. Кушаю много, сытно. Сплю почему-то хуже. Сон неважный. Может быть потому, что очень душно в комнате (спать приходится при закрытых окнах).
Квартира Бернацких из 4-х комнаток, крытой террасы, кухни, ванны и прочего. Комнаты маленькие, но недавно ремонтировавшиеся, чистые. При домике – сад. А в саду (он тоже маленький) клумбы и фруктовые деревья: слива и алыча. Сливу оборвали до моего приезда, алычу при моем участии. В саду турник, на котором иногда по утрам (правда, давно уже этого не было) мы подтягивались.
По утрам я вывешиваю гамак.
Несколько раз уезжали мы за город на Кубань. Катались на лодке и купались. Ездили с Г.И. на охоту. Но охота была неудачной (не туда, куда нужно поехали). Сейчас он уехал в Ростов, приедет сегодня ночью. Завтра, наверное, отправимся на Кубань.
Погода почти все время стоит прекрасная. Вечером однажды были в кино (Мери Пикфорд «С черного хода!!!»). Другой раз ходили на гастроли чемпиона Поддубного, он выступал на открытой сцене в городском саду. Зрелище, мало радующее глаз. Мы ушли.
Читаю мало. Вчера читали с Ниной вслух «Поднятую целину» Шолохова. Превосходно написано. Я ведь, грешным делом, не читала «Тихий Дон». А тут мы за вчерашний день полкниги оттяпали.
Почти каждый день заглядываем к книгоцентровскому букинисту. Купила порядком книг. За некоторые поругаешь, так и чувствую. Откладываю этот приятный момент до приезда.
А вот купить ли 2-ой Ленинский сборник Петрушевского (что-то о средних веках в Англии) – 1рубль 25 копеек, Тарле о 1848 годе во Франции – 1рубль 50 копеек? Вообще становлюсь в тупик перед рядом книг. Не знаю, нужны или нет.
Возможно, успеем еще съездить на пароходе до Темрюка и Тамани. Там есть любопытные музеи.
Вот, кажется, почти все о себе. Если не считать, что соскучилась я по тебе зверски. Письмо от 18-го помутило разум, и все вижу тебя.
Снилась недавно Танька, будто она ожила.
Ну ладно, роднуська, не буду отрывать тебя. Скоро увидимся, все расскажу, обо всем потолкуем. Хвалю за то, что от всего разгружаешься. Не забудь договориться с Бауманом относительно путевки.
Хотела спросить тебя о Котиевской, Розентреттерах. А потом вспомнила, что, вероятно, на это письмо уже не ответишь. Пожалуй, не стоит отвечать. Придет уже после моего отъезда.
В отношении питания нужно будет придумать что-либо другое. И вообще, наш быт придется коренным образом изменить. Я с ужасом думаю о В.А., о тесноте, о Фросе, о холоде в комнате и прочих «радостях жизни».
Не буду сейчас говорить об этом, но вопрос должен быть разрешен в течение сентября. Такой быт нам не по силам и не по духу. Верно, Юренка? В общем, сделаем.
В зимнюю сессию Нинка будет, вероятно, переводиться в Москву в Пединститут на литературное отделение. Подробности, условия и прочее я выясню по приезде сама. А ты уж никому там не протежируй, чтоб можно было потом помочь Нинке вырваться из этой «собачкиной столицы», как ее назвал Маяковский.
Целую тебя много раз. Крепко обнимаю. А скоро сделаю это близко, так что почувствуешь всю реальность…
Береги себя, родненький. Привет от Нины. Твоя Ли.
Если у тебя есть в заборной книжке бонны, купи Нине Пруткова.
О времени пребывания мамы в Краснодаре сохранились воспоминания, записанные на магнитофон осенью 1987 г.
КРАСНОДАР В 1933 Г.
Помню, в 1933 году, я ездила к своей близкой приятельнице Нине Козюре, в Краснодар. Ее муж был работником НКВД, очень много знал и довольно откровенно рассказывал о том, что происходило тогда.
Когда я ехала, я оказалась почему-то в двухместном купе обычного купированного вагона. Мой попутчик, который работал где-то в совхозе, недалеко от Краснодара, несмотря на то, что знал, куда и к кому я еду (он лично, а может быть и не лично, знал мужа моей приятельницы), вдруг такое понес, что у меня аж глаза на лоб вылезли.
Он считал ошибочной линию партии в сельском хозяйстве, рассказывал о положении в деревне, об ужасах коллективизации и раскулачивания, и полагал, что происходит совершеннейшая ликвидация социалистического пути. Но, кроме всего прочего, очень зло говорил о Сталине. Я не могу сказать, что я считала Сталина уже тогда идеалом. Потом – считала. Однако то, что мой попутчик говорил, и как он говорил, я этого тогда принять не могла и была просто удивлена, что он мне, незнакомому человеку, высказывает такие вещи.
В Краснодар я приехала ночью. Позвонила. После длительного звонка послышался какой-то детский голос (это был сын Нининого мужа).
–Нина в Ростове, – сообщил он мне.
Я говорю, что звонит подруга, которая к ней приехала. Как быть?
–Ну, приезжайте. Я знаю, что Вы должны приехать. Только, – говорит, – Вы осторожно, потому что грабят на улицах и убивают.
Нина рассказывала о страшном голоде и о трупах, которые лежали по всему городу зимой и весной 1933 г. И действительно, две недели, примерно, которые я там провела, мы не раз видели тела людей, умерших от голода.
Нина рассказывала, например, что какого-то кулака арестовали, нашли у него спрятанное золото, золотые монеты, а жена и сын у него погибли от голода.
Когда появилась знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов», она уже вызвала некоторые сомнения. Помню анекдот того времени: «В колхозе. Слушали: «Головокружение от успехов» Сталина. Постановили: колхоз распустить». Колхозы хоть и не закрывали, но выражение «головокружение от успехов Сталина» было тогда в большом ходу.
УРАВНИЛОВКА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ[105]
Еще в 1928 году начались перебои с продуктами. Они сначала были очень незначительны. Вдруг, сократился ассортимент колбас. Помню колбасу, которую мы обычно покупали, я забыла, как она называется. Она была, кроме того, что с жирком, еще и с фисташками. А вскоре вообще перешли на карточную систему.
Причем любопытное явление: в выступлениях ли Сталина (я уже теперь не помню), то ли в газетных его статьях или журнальных, встал вопрос о ликвидации уравниловки[106].
Уравниловки вообще-то никакой не было. Уже люди получали разные зарплаты, уже одни жили лучше, другие хуже – уравниловки не было.
Но в это время уже были открыты специальные распределители. Первым, насколько мне память не изменяет, был так называемый ЦИКовский. Он охватывал тогда очень небольшую группу людей, пропуска выдавались руководителям крупных учреждений. По линии издательств, где я тогда работала, распределением пропусков занимался некто Халатов[107] и моему, тогда еще будущему мужу был выдан такой пропуск. Других распределителей не было, однако вскоре стали появляться и кооперативные распределители.
В ЦИКовском распределителе можно было купить все, даже то, чего не было в магазинах до этого. Но, как я уже сказала, очень ограниченному числу лиц. Находился он на углу Мясницкой улицы и Комсомольского переулка, там, где сейчас магазин «Хрусталь и фарфор». Окна были замазаны белой краской.
Как-то в «Правде» появилась статья относительно того, что позор – закрашивать белой краской такие вот распределители. В статье говорилось, что это вполне естественно, это нужно, это борьба с уравниловкой и поэтому совершенно незачем скрывать от населения как получают и живут те, кто к этому распределителю прикреплен.
Дальше пошла еще большая градация. ЦИКовский распределитель был ликвидирован и, по-видимому, на его базе были созданы уже два новых распределителя: ГОРТ-ЛИТЕР «А» и ГОРТ-ЛИТЕР «Б». Вслед за этим были организованы ведомственные распределители, и сохранился ЦРК, то есть центральный рабочий кооператив.
Жить было очень трудно тем, кто не был прикреплен к распределителям. В этих же распределителях (у моего мужа был распределитель ГОРТ-ЛИТЕР «Б»), можно было купить очень много продуктов как по талончикам (литерам), так и без талончиков: и молоко, и кефир и даже кур. И я своим родственникам и соседям покупала, потому что, действительно, есть было нечего. Рынки были очень дорогие. Карточная система тянулась до 1934 года.
Следует отметить, что распределители, как и иные привилегии, появились намного раньше выступления Сталина в 1931 г. Они возникли сразу же после прихода большевиков к власти и были неотъемлемы от этой власти на всем протяжении ее существования. Об этом весьма убедительно пишет М.С. Восленский[108] в исследовании о советской номенклатуре.
Мама наверняка знала о номенклатурных привилегиях 30-40-х годов, но считала, как и многие другие в то время, их вполне естественными, простительными и оправданными. С частью номенклатурных льгот мама непосредственно познакомилась, выйдя замуж за Ю.М. Бочарова.
В этом отрывке впечатляет перечень самых элементарных продуктов: «молоко, кефир и даже куры». Последнее (куры), видимо, настолько запомнились, что и через много лет память их выделила усиливающей частицей «даже». Возможно, это было связано со временем, когда диктовались воспоминания – 1988 годом, когда обычные продукты доставались либо в диких очередях, либо «по блату», либо их попросту не было.
Никогда не забуду магазин «Молоко» на улице Строителей, который светился чистотой своих пустых полок, в котором ни продавцов, ни кассирш не было видно – продавать было нечего, все тут же расхватывали. В 30-х годах были распределители, в 80-х они сохранились, но для простых смертных нужно было обзаводиться блатом или покупать по месту работы продуктовые наборы, «выбрасываемые», обычно, к советским праздникам. Такое же положение было и с товарами широкого потребления.
РИИН И ИФЛИ[109]
Примерно в году 1931-м шло разукрупнение университетов, как образований буржуазного характера, которые, якобы, ничего никому не дают. И из Московского университета были выделены РИИН и Историко-философский институт.
К концу учебного года, когда я была на втором курсе (1933 г.), Редакционно-издательский институт вообще закрыли, а его учащихся направили кого на работу, (особенно тех, кто до этого был на какой-нибудь партийной или другой ответственной работе), а многих распределили по учебным заведениям: кого в пединститут, кого в историко-философский институт. После упразднения РИИНа в Москве, кроме пединститута, филологическое образование получить было негде.
Я попала на истфак в историко-философский институт. Очень короткое время мы занимались в здании университета. Потом в аудиториях коммунистического университета педагогических наук. Это был коммунизированный ВУЗ, очень большой по составу слушателей, имевший собственное пятиэтажное с высокими потолками здание, находившееся прямо напротив нынешнего Пединститута имени Ленина (тогда он был имени Бубнова).
ВЕРБОВКА[110]
В 1932-м умерла Аллилуева. Ходила молва, что это была не внезапная смерть или смерть, вызванная болезнью, а самоубийство. Слухи были очень глухие, и ходили они, очевидно, и в нашем институте. Я училась в это время в Редакционно-издательском институте ОГИЗ, на втором курсе.
И вот однажды, я получаю открытку: меня просят позвонить по такому-то телефону. Ни фамилии, ни каких либо других данных не было. Я удивилась, показала мужу. Он говорит: « Ну что ж, позвони, узнай, в чем дело».
Я позвонила. Очень милый, приятный женский голос просил меня придти к ней: ей надо со мной поговорить.
– Кто Вы, откуда Вы?
– Я Вам все расскажу, когда Вы придете.
Она назначила встречу. Это было на Кузнецком мосту близко от здания, где тогда находился Наркомат иностранных дел, и напротив приемной НКВД. Я пришла. Это был длинный коридор, в конце которого находилась квартира номер такая-то. Меня встретила очень миловидная молодая женщина и сказала, что очень рада со мной познакомиться и наговорила очень много приятных слов в мой адрес.
Пригласила войти, поставила чай, сказала, что ее интересуют вопросы, касающиеся смерти Аллилуевой. Мол, ходят всякие нелепые слухи, особенно в нашем институте, о том, что, якобы, это было самоубийство или убийство, но, в общем, что-то такое скверное.
Я сказала, что я где-то об этом слышала, но не в институте.
– А таких- то вы знаете? Назвала она несколько имен.
–Я сказала, что знаю, но не близко, мы учимся на разных курсах и в разных группах.
– Говорят, что они об этом болтают. Вы не могли бы выяснить?
Я сказала: «Знаете, мне неудобно этим заниматься».
– Ну, хорошо, я не буду Вас об этом просить, но если Вы что-нибудь узнаете, обязательно сообщите нам. Вы, вообще, должны другими глазами смотреть на мир, – наставляла она меня, – потому, что у нас очень много врагов там, где мы их меньше всего ожидаем. Я Вас прошу быть бдительной.
Я сначала было даже загордилась тем, что мне, беспартийной, оказали такое «доверие». И только потом я поняла, в чем дело.
– Да, пожалуйста, никому не рассказывайте о нашем разговоре.
Я объясняю, что не могу не рассказать мужу, поскольку он знает об открытке, о моем звонке к Вам. Он меня спросит, я же должна объяснить ему, где я была. Он не маленький, он поймет. Она говорит, ну хорошо, мужу расскажите, но предупредите его, чтобы никто об этом не знал.
Я рассказала о нашей беседе мужу. На что он сказал: «Ну, ты попалась на крючок. Это значит, тебя хотят сделать осведомителем».
В следующий раз, когда она меня пригласила, я ей сказала: «Вы мне очень приятны, но это не мои функции, я не сумею этого сделать. Я не различу, где правда и где неправда.
– Ну ладно, не надо, но если вы сами что-нибудь узнаете, тогда, пожалуйста, сообщите нам. Мой телефон Вам известен.
На этом, собственно, наше знакомство кончилось, если не считать того, что во время одного из этих двух визитов у нас зашел разговор и о литературе и об искусстве. Она рассказывала о своих личных знакомствах кое с кем из литераторов.
А мы в это время очень активно собирали библиотеку. Ведь тогда было такое положение, что идеологическим, а тем более ведущим издательским работникам, выдавались боны на литературу. На ту или другую сумму, обозначенную в бонах, можно было бесплатно приобретать книги, как в букинистических, так и в обычных книжных магазинах. Такие боны были у моего мужа.
Однако, мы, например, никак, не могли достать Вазари (его издала «Academia»). Юрий Михайлович очень хотел иметь этот двухтомник, но он нигде нам не попадался. Как-то раз незадачливая вербовщица не поленилась приехать к нам домой, познакомилась с моим мужем и поднесла ему этот желанный двухтомник.
1934 ГОД
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НА СЕЛИГЕРЕ
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
13 июля 1934 г.
Юренка! Ну, как ты там один? Что слышно?
Вчера к обеду мы приехали на базу. Дождь к этому времени кончился. Было солнышко, озеро, зелень. Прежде всего, нас отправили к врачу на осмотр. После этого мы получили койки с принадлежностями, искупались в озере, оделись в летнее. Интересная здесь вода, исключительно мягкая. Даже я мыла голову в холодной воде, непосредственно в озере.
Последнюю папиросу выкурила часов в 12 дня (вчера). Не курю и особенно не страдаю от отсутствия папирос, так как все время на воздухе. Но несколько повышена сонливость, хожу как муха – это из-за папирос, то есть из-за отсутствия оных.
Кормят неплохо. На завтрак сегодня было яйцо, манная каша с маслом и чай. То же, что и дома. Народа здесь немало. Человек до ста. Загорелые, веселые.
Сегодня идет дождь. Под ним не загоришь. Не знаю, состоится ли намеченная экскурсия. Вообще байдарки здесь совершенно обязательны. Все это по определенному плану для каждой вновь приехавшей группы.
Несколько дней назад, еще до нашего приезда, здесь был невероятный ураган, какого не помнят старожилы. Потопило даже пароход вместе с капитаном. В лесу поломало много деревьев. Вчера мы ходили смотреть лес и видели последствия урагана.
Закончу позже, так как дождь прошел и надо идти.
Наша база расположена на самом берегу озера, посреди зелени, леса, кустарника. Комнаты на несколько человек. Тут же поблизости столовая, клуб, палатки, пристань для лодок. За один день я еще мало ознакомилась со всем, но ясно, что больше 10-15 дней я здесь не пробуду. Это, конечно, не значит, что я недовольна. Мне просто очень скучно без тебя. Я как маленькая: набегалась, поиграла, а потом к маме захотела. Так и мне вдруг стало грустно, грустно без тебя. Пусть ты меня ругаешь, или я тебя. Но вместе много уютней.
Мысли у меня какие-то тяжелые, неповоротливые (без папирос) и тревожные немного. Все ли хорошо дома?
Юра, не забудь быть у Соколова. 19-го на суде, мне думается, нужно бить именно по тому моменту, что комната незаконно занята, что Совсод[111] не является органом, распределяющим площадь, что ты имел законное право занять ее, но вещи Благодатского были внесены еще при представителе нотариальной конторы. Не забудь, что красная карточка была заверена Благодатским до того момента, как разбирался вопрос о площади.
Сообщи мне все относительно путевки для меня. Будет она или нет? В зависимости от этого я продолжу здесь пребывание. Об этом нужно обязательно сообщить, так как здесь может не быть мест и продолжить нужно заранее.
Есть ли какие сведения от Нины? Она писала, что 12-го пошлет мне телеграмму о том едет она в Москву или в Сочи. Значит, в обоих случаях должна быть телеграмма.
Поговори обязательно с Дыментом[112] о ней. Причину перевода можешь указывать любую.
Очень прошу тебя не особенно дружить с В.В. Нехорошо, если ты во время моего отсутствия иначе относишься к ней, чем при мне.
Пока. Надо кончать письмо так как скоро приедут за почтой.
Привет всем. Целую крепко и обнимаю моего родного. Твоя Ли.
Адрес: Осташков, Западная область, Пристань Неприе, База ОПТЭ, Виленской.
Юренка! Напиши как у тебя с питанием. Где обедаешь? Чем тебя кормят старухи? В общем, пиши.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
16 июля 1934 г.
Как ты живешь там, роднусенька? Я о тебе порядком стосковалась. И хотя ты утверждаешь, что нам не обязательно отдыхать вместе, я твердо убеждена в обратном. Я вовсе не уверена в том, что тебе хорошо без меня. Ведь признайся, что хотя бы в силу привычки, тебе скучновато, не говоря уже о том, что приходится самому кое о чем подумать и побеспокоиться.
Я от тебя еще ничего не получала. Жду с сегодняшней почтой. Но уверенности нет. А завтра утром я отправляюсь в двухдневный поход на парусных ботиках и только 19-го смогу получить от тебя письмо.
Мне тревожно, особенно по вечерам. Кажется, что дома у тебя не все ладно, что тебя грызут клопы, старушки и В.В., что ты постоянно голоден и утомлен, что тебе нужен отдых и покой.
Юренка мой, что же это будет? Когда ж ты, наконец, отдохнешь? Достал ли себе путевку? Куда? Много ли работы сейчас? Вышел ли 3-й номер журнала? Как дела с хрестоматией или, вернее, с хрестоматиями? Обдумал ли диссертацию и утверждена ли она институтом? Там в день моего отъезда приходила девушка из Картотреста за картой (кажется твоей и Окунькова), я не помню, говорила ли тебе об этом. Как с деньгами? Не забудь получить в том же Картотресте и в других местах .
Я здесь вполне управлюсь с той суммой, которую взяла. Расходы минимальные. Если придется продлить, то тоже, вероятно, дней на пять. Это уже зависит от твоего письма: будет ли путевка для меня, и с какого времени.
Своей поездкой я пока очень довольна. Явно поздоровела и физически и морально.
Местность здесь прекрасная. Исключительный пейзаж. Масса зелени и воды. Ягоды в неограниченном количестве. Собирала малину, которая в изобилии, так же как и черника с земляникой. Катаюсь на байдарке. Сегодня 12 байдарок ушли в двухдневный поход. Миррочка тоже отправилась с ними. Я, конечно, не рискнула, так как не вполне доверяю своим силам. Это для меня излишняя нагрузка. А на парусниках совсем другое дело. Там, если и придется грести, то совсем немного. Отлеживаться совсем не хочется, нет потребности. Сплю много. Ложусь не позже 11-ти, встаю в 7. Днем после обеда – мертвый час. Сплю часа полтора днем. Кормят прилично, аппетит зверский. Дополняю ягодами, молоком.
Утром горячий завтрак: каша, яйца, рыба с картошкой, чай, кофе, масло. Обед из 3-х блюд: суп в неограниченном количестве, мясо или рыба и сладкое. После мертвого часа – чай. К нему полагаются булочки. Но пока их не было (был некоторый перебой). Вечером ужин такого же содержания, как и завтрак, но если утром рыба – вечером каша или мясо и наоборот.
Был ли ты в МОСНР[113]? Что слышно с судом? Говорил ли с Соколовым о подробностях, в частности, о разговоре с дядей из Мосжилтреста. Ведь тут дело несколько иной оборот принимает в нашу пользу.
Я уверена, что Благодатский будет бить на беременность жены и свое тяжелое жилищное положение, так что нужно по стороне и отпор приготовить. Ведь в конце то концов, не можем же мы переждать, пока все беременные разродятся и вырастят своих ребят. А он поступил не по закону, являясь в то же время должностным лицом. Пусть о нем заботится Мосжилтрест, если у него такое тяжелое положение. Ты же никак не являешься собесом.
Надо закончить письмо, а еще много о чем есть писать.
Приехала ли Нина? Если нет, то узнай у Володи, где она: в Сочи или в Краснодаре. Я бы хотела знать, куда ей можно написать. Говорил ли ты с Дыментом о ней?
Если мне придут письма – пересылай сюда с таким расчетом, чтоб я получила их здесь. Я думаю, что тебе видней, когда я отсюда должна выехать. Если путевка будет на юг, я, пожалуй, в августе поеду, думаю, что можно. Может быть не на целый месяц, а только недели на три.
Целую крепко моего любимого. Твоя Ли.
Расскажи все маме, кроме похода.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
20 июля 1934 г.[114]
Юренька! Это сплошное безобразие. Повторяется то же самое, что было в прошлый год. Нет от тебя ни одного письма, ни одной строчки. С одной стороны меня это сильно беспокоит, но когда я вспоминаю, что прошлый год ты в Краснодар писал так же часто, то меня просто зло берет. Ведь если бы что-нибудь случилось – мне бы скорее дали знать.
Сегодня в Москву едет соседка по комнате. Я просила ее позвонить тебе. Моя открытка придет позже ее звонка. А я ей дала ряд поручений (что передать тебе).
Юрашка! Нехорошо так быстро забывать все. Я не думала, что достаточно мне уехать, как ты выпускаешь меня из поля зрения. Приехала ли Нина?
Целую. Твоя Ли.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
27 июля 1934 г.
Юринька! Завтра я должна была быть в Москве, вместе с тобой, но задержалась еще здесь. Если бы я была твердо уверена, что будет путевка, я бы уехала, но ехать в Москву спускать то, что здесь накоплено, очень не хочется. Ты же знаешь, Юрашка, что впереди много работы, а сил мало и регулярно, каждый год я собираюсь накопить их и также регулярно откладываю на будущий год.
Я сильно сомневаюсь, будет ли путевка. Вполне понятно, что тут должна быть какая-то предварительность, а в последних числах июля достать путевку на август (на первые числа), наверно, не удастся. Поэтому я решила остаться здесь еще на 6 дней. Возможно, я уеду раньше, – перекупит у меня путевку даже на 1 день любой турист, так как устроить продление теперь почти невозможно.
Я здесь основательно окрепла. Питание стало неважным, так что поправиться, прибавить в весе вряд ли удастся. Хотя должна сказать, что юбка на мне едва сходится, и руки перестали быть палками. Но это результат того, что я, в общем, окрепла.
Была уже в двух двухдневных походах. Первый, о котором я тебе писала, парусный. Это был отдых, так как не пришлось ни грести, ни править. Были только хозяйственные обязанности во время дневок и ночевки. Ночевали в палатках.
В другой раз ездила в байдарочный поход, тоже на 2 дня. Боялась, что устану, так как часов 13 все-таки нужно было грести. Правда, с остановками через каждые 50 минут. Выехали мы утром часов в 11, а вернулись через день вечером. Не устала я ни капельки. Сама себе удивляюсь. Было очень хорошо. После обоих походов я чувствовала себя поздоровевшей.
Звонила тебе по телефону не Миррочка. Миррочка здесь, со мной в одной комнате и продлила она путевку тоже до 1-го включительно. Звонила тебе одна соседка по комнате, с которой я ездила в парусный поход.
Вот я почти все о себе и написала.
Ты Юренка не сердись, что я застряла еще здесь, но, право же, Селигер лучше Москвы, а я очень устала и не верю в то, что я еще куда-нибудь поеду.
Сомневаюсь, получу ли я от тебя ответ. Поэтому ни о чем не спрашиваю. Приехать должна 3-го утром. Но, если мне сильно надоест тут, то вернусь к 1-му.
Целую крепко. Следи за собой. Обязательно достань себе путевку и не старайся все деньги впихнуть в Кропоткинский переулок[115]. Надо и за собой немного последить, ты слишком преждевременно опускаешься, а я иду по твоим стопам.
Крепко целую и обнимаю моего роднусеньку. Твоя Ли.
О том, что я задержалась здесь, тебе сообщат по телефону.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
13 августа 1934 г.
Юренка! Вот уже 9-й день я на базе. И пока у меня нет оснований сожалеть о том, что я сюда вернулась. Правда, народу тут очень много, больше, чем было в прошлом месяце, но я стараюсь устроиться так, чтоб это мне не мешало.
Встретили меня хорошо. Несмотря на отсутствие мест, разыскали койку в стандартном доме. А это лучшее помещение.
Погода здесь все время стояла превосходная. А сегодня вдруг дождь пошел. И такой противный, осенний. Но вообще, здесь замечательно, и я ни капельки не жалею, что приехала.
Как твои дела? Что слышно с отпуском? Приехал ли Ванаг[116]? Когда и куда ты поедешь? Как чувствуешь себя? Отдал ли в стирку белье? Продолжаются ли занятия с Громовым? Пиши мне, Юренка, не забывай свою Ли. Ведь мы, возможно, еще целый месяц не увидимся.
Пиши, что нового в Москве. Хочу это письмо отправить сегодня же. Не знаю, удастся ли. Кажется, моторка уже ушла в город. Сейчас буду читать. Прочла «Капитальный ремонт». Скоро кончу «Жень-Шень».
Курю очень мало. Установила максимум из 2-х папирос в день. Видишь, какая я умница.
Да, говорил ли ты с кем надо по поводу комнаты? Я думаю, что стоит спросить у Благодатского. Может быть, даже не нужно будет идти к председателю Мосжилтреста.
Жду от тебя подробного письма. Если деньги получил, пришли рублей 30. Постараюсь управиться без них. Но, если сможешь, переведи или позвони по телефону 3-52-23 Екатерине Борисовне и спроси, когда ее брат поедет сюда и сможет ли он захватить для меня 30 рублей.
Если будут письма мне – пересылай. Есть ли какие-либо сведения о Нине? Пока.
Целую крепко и жду писем. Твоя Ли.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
20 августа 1934 г.
Получила вчера твое письмо, Юренка! Невероятно счастлива, что ты сегодня едешь. Ужасно неудобно писать, хорошо еще, что ручку и чернила раздобыла. Не огорчайся, что в Одессу. Зато ты подлечишься. Я вот только не пойму, до которого числа ты будешь в отпуске по Пединституту, а ты об этом не пишешь. С Лукашевской можешь дел не иметь. А, впрочем, может быть, в Одессе она будет другой. Значит, ты получаешь и литер, а не только путевку. Это очень хорошо.
Ты, по-видимому, писал еще до получения моего письма. Из Осташкова бросить открытку не могла, так как там перерыв от поезда до парохода очень невелик. А ведь до пристани 3 километра и билет нужно было взять на пароход.
Все, конечно, благополучно. Мне здесь очень хорошо, но только я боялась расходовать деньги на дополнительное питание, так как не знала, сможешь ли перевести, а моих могло на все не хватить.
Детусенька, я вовсе не забыла Москву. Как ты можешь думать так? Ведь ты же знаешь, что я тебя ни на кого не променяю. Все, что ты пишешь о нервах и цапанье совершенно справедливо. Признаться, у меня почти что нет веры в то, что это когда-либо прекратиться. Меня очень тронуло твое письмо. Я даже не думала, что я так нужна тебе, хотя чувствую, что вообще нужна.
Сообщи мне свой одесский адрес.
Это письмо посылаю с отъезжающими, так что оно не задержится.
Ты ничего не пишешь о комнате. Что мне придется делать, когда вернусь в Москву? Обязательно напиши. Как ты решил вопрос с Истфаком? Верно ли, что у нас директором будет Пригожин[117]? Что вообще слышно в Москве?
Я рассчитываю приехать 30-го и думаю до 15-го сдать зачеты, если обязательно потребуют.
Как дела с деньгами? Получил ли из Учпедгиза? Достаточно ли их у тебя с собой? Смотри, ни в чем себе не отказывай и как следует поправляйся. А зимой поедем вместе куда-нибудь на зимние каникулы.
О себе можно писать много. Ведь здесь так чудесно. Я просто переродилась. Была в двух походах. Один раз в однодневном (инструкторский выходной день) и другой раз в двухдневном на байдарке с пионерами. Ездила на байдарке в Осташков. А вчера вечером на чудесных волнах при сильном ветре на парусном ботике. Ботик так кренило, что всю дорогу я висела на борту, чтоб оттянуть в обратную сторону. Это, Юренка, сказочно!
Вчера весь день шел отвратительный безнадежный дождь. А к вечеру, часов в 9, прекратился. Правда, небо было в тучах, и только на один миг показалась багровая рваная луна. Возвращались мы под дождем (мелким).
Вот почти все мои новости. Сегодня солнце. А завтра выходной у инструкторов. Будет поход. Кажется, начнется сегодня после обеда, с ночевкой в палатках. Должны пойти 3 ботика по 2 человека и швертбот. В общем, все мои новости, как видишь, вокруг одного: походы, парусники, байдарки.
В этот раз успела прочесть несколько книг.
Пиши, Юренка. До 28-го получу. А там домой пиши.
Целую крепко-крепко. Твоя Ли.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Неприс. 26 августа 1934 г.
Меня удивило и огорчило твое последнее письмо из Москвы. Уверяю тебя, что я много и аккуратно тебе пишу. Можно напомнить прошлый год, когда я была в Краснодаре и нынче, в мой первый отъезд на Селигер.
Не забывай, что письма идут не очень аккуратно. Поэтому твое предыдущее письмо пришло тогда, когда в Москву писать было бесцельно. Я и отправила письмо непосредственно в Одессу, где ты его уже получил. Сам ты пишешь, что наши письма разошлись, а дальше: «Я на тебя в большой обиде». За что же, спрашивается? За работу Наркомсвязи?
Деньги я получила. […]
Здесь мне хорошо. Я еще раз загорела, поправилась. А главное, морально окрепла. Давай и ты следуй моему примеру. Увидишь, что жизнь у нас будет много лучше.
Оставил ли ты мне распоряжение о комнате? Я хочу теперь за это приняться. Говорил ли перед отъездом с Благодатским, чтобы выяснить положение у более непосредственного лица?
Как устроился в Одессе? Доволен ли? Смотри, используй этот отпуск получше. Ты обязан взять все, что только возможно. Кури меньше. Не отказывай себе ни в чем. Есть ли у тебя деньги? Я все-таки намерена через Коптиевскую получить для тебя лечебные за прошлый год. В конце концов, с паршивой овцы хоть шерсти клок. А миндальничать с ними нечего.
О себе можно много писать, но предпочту рассказать лично, если тебе будет интересно. Я, как никогда, чудесно провела лето. Мне осталось еще три дня вместе с сегодняшним, так что итог подводить уже можно. И для меня ясно, что никакой дом отдыха или санаторий мне не мог бы дать больше. Уже не говорю о том, что полнота ощущения жизни, каждого солнечного дня, каждого ветра (парус), каждой поездки на байдарке или на ботике – необычайна. Я чувствую себя моложе, радостней, счастливей. Все-таки я очень односторонне существовала. А теперь я поняла цену этому.
Прости, Юренка, что так много о себе. Но мне очень, очень хочется рассказать тебе. А кому же еще? Недавно мы ездили в однодневный поход на ботиках. Выехали утром. А к вечеру ветер стих. Пришлось до берега доезжать на веслах. Из-за этого же в обратный путь отправились в 12 ночи. Вернулись в 9 утра. Шли всю ночь. В этом было много прелести. Ночь была темная. Флотилия из одного швертбота и 3-х ботиков шла ощупью. Хорошо, что ребята знают хорошо местность.
Меня оторвали сейчас от письма. А времени уже много. Надо отправлять, чтобы оно ушло сегодня.
Целую тебя крепко. Поправляйся. Твоя Ли. Сообщи адрес.
Мама всю жизнь помнила и вспоминала во всех деталях этот чудесный отдых на Селигере летом 1934 г. Именно с тех пор она предпочитала активный отдых санаториям и домам отдыха. Она не пропускала ни малейшей возможности оказаться на природе, была неутомимым ходоком по лесу, страстной грибницей. А автобусные экскурсии, устраиваемые Институтом истории по древним русским городам, на которые мама меня обязательно брала! Мы с ней побывали во Владимире, Суздале, Ростове Великом, Переславле-Залесском, Ярославле и других городах средней полосы. Потом, уже студентом Истфака, и я, по возможности, брал маму в близкие и дальние поездки.
Зимой мы с мамой разрабатывали фантастические маршруты, а летом их осуществляли. Один из таких маршрутов навсегда врезался в память: Москва – Вологда – Кириллов – Ферапонтов – Кириллов – Вычегда – Соль-Вычегодск – Северная Двина до Архангельска со множеством остановок по пути. Далее Архангельск – Соловки – Архангельск – Москва. Таким же путем мы проехали всю Прибалтику.
Весной 1968 г. мама рецензировала кандидатскую диссертацию аспиранта Журфака МГУ Володи Хороса. Диссертация маме понравилась, и он вместе со своим семейством был приглашен к нам на обед. Володя оказался активным водным туристом и заядлым рыбаком. Он уговорил маму и меня совершить водное путешествие по Угре. Напор был столь велик и убедителен, что мы купили резиновую лодку, закупили провизию. Из ближайшего Подмосковья провизия в виде посылок была отослана по маршруту следования (в Москве продуктовые посылки на периферию не принимали) и отправились в поход. Но оказалось, что резиновые лодки были большой помехой в походе, поскольку Володя сколотил команду из байдарочников, а мы (Хоросы были тоже на резиновых лодках) на своих калошах, естественно, задерживали движение.
Маме в ту пору было 59 лет, но поход она выдержала отлично – гребла, готовила на костре еду и занимала всю честную компанию своими рассказами. Как-то она попросила дать ей погрести на байдарке. К всеобщему изумлению она это довольно лихо проделала, и в следующую ходку ее посадили на весла. Весь переход она изящно гребла и совершенно не устала. Тридцатилетние навыки гребли не были утеряны, так же как и судоходная лексика: «табань», «суши весла» и т.п..
На следующий год мы купили настоящую трехместную тяжелую байдарку – «Салют-3» (с прицелом на мою планируемую девушку). Сотрудники сектора, в котором работала мама, подарили ей на шестидесятилетие роскошную по тем временам польскую палатку. Мы обзавелись другим туристским инвентарем и на протяжении почти десяти лет ходили в байдарочные походы. Поскольку «моя девушка» появилась лишь в последнем походе, наша трехместка заполнялась всем, чем попало. Но, не смотря на тяжело груженую байдарку, мама нисколько не уставала, и мы даже обгоняли менее загруженные лодки. Мама сидела на носу, я на корме и мама преподавала мне азы байдарочной гребли. «Не зарывай весла!», – приказывала она мне. Или: «Табань левым веслом, сильнее, еще сильнее. Вот так хорошо». Она действительно хорошо себя чувствовала на воде, во время ходок и, конечно, во время дневок, когда она уходила в лес и приносила ведра свежих грибов.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Москва. 31 августа 1934 г.
Вчера утром приехала домой. Застала здесь Нину, твою открытку из Одессы и длинное распоряжение. Все, что смогу по нему выполнить – выполню. Но, оно мне не полностью ясно. Об этом дальше.
Получил ли ты два моих письма, которые я отправила в Одессу до востребования?
Я еще нигде не была, кроме как в бане и у мамы. Вчера был выходной. Поправилась я неплохо. Вообще, собой довольна. Хочу и в дальнейшем строить все нормально. Выйдет ли – не знаю. Не все зависит от меня.
Слышала я, что Евгения Алексеевна уезжает. Это значит, что мы вынуждены будем взять на себя заботы о Вере Алексеевне. Боюсь, что я на это не смогу пойти. Надо что-нибудь придумать. […]
Я отдохнула и окрепла. Чувствую себя спокойней и много моложе. Мне недостаточно будет жить только институтом и в институте. Я как-то увидела, что жизнь много шире, ярче, и это одностороннее существование начинает тяготить. Я больше не могу и не хочу размениваться на мелочи. И если эти мелочи будут прежней помехой, придется иначе посмотреть на вещи. Я верю в то, что у нас будет и есть общий язык. Ведь, в конце концов, мало только не мешать существовать друг другу. Это не повод для того, чтоб вести совместную жизнь. Верно, Юра? Я полагаю, что мы договоримся обо всем, когда ты приедешь. Но подумать надо.
Как ты устроился? Доволен ли? Поправляешься ли? Хватает ли денег? Ты обязан взять все, что только можно. Ты должен приехать крепкий, спокойный, радостный. Мы должны обеспечить себе возможность работать и жить. А для этого нужны силы, а не нервическая приподнятость. Кури меньше. Может, бросим вместе это дело? Больше пользуйся воздухом, не злоупотребляй волейболом. Как кормят? Чем тебя лечат? Какой эффект? Все, все пиши, Юренка. Есть ли у тебя люди, с которыми тебе хорошо? Написал ли Тане? Надо обязательно написать.
Теперь перейду к твоему распоряжению. Ты оставил свободное место для цифр, взятых и оставленных сумм, но заполнить его забыл. В бюваре я никаких денег не нашла. Шишков обещает вернуть в ближайшие дни. Пока я сделала заем у Нины. Когда получу по доверенности, отдам В.А. для ребят. В.А. говорит, что для себя денег она не получала, а 40 рублей тратила на тебя. Об Учпедгизовском переводе я узнаю (выясню, сколько перевели). А ты, может быть, сообщишь, сколько тебе нужно на партвзносы. Учти, что я босиком, абсолютно нет обуви.
Насчет обеденной карточки. Мне так и не понятно, что мне принесут: масло и сыр или карточку?
Какое письмо передать Кузнецову? Я письма не нашла.
В комнате сделаю все, что надо. А вот относительно 2-ой комнаты ты ничего не пишешь. Я не знаю, говорил ли ты с Председателем Мосжилтреста или с Благодатским. С последним я поговорю.
Белые туфли лежали и лежат в шкафу в маленьком нижнем ящике. Жаль, что ты их не взял.
В общем, все поручения, какие только возможно, выполню.
Насчет оргвопросов. Я еще не знаю своего расписания. Но думаю, что мы близкую, к твоему распределению времени, реорганизацию произведем. Во всяком случае, выходные себе обеспечим.
Ну, вот, кажется, все. Писать буду часто. И ты не забывай. А пока кончаю так как много дел. Целую крепко. Поправляйся. Когда ты должен вернуться?
Твоя Ли.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
Москва. 2 сентября 1934 г.
Юренка, куда же ты девался? Почему ты не пишешь? Я отправила тебе 3 письма (это – четвертое), а от тебя никакого ответа. Так не хорошо. Последней была открытка от 23 августа. Ты в ней писал, что «завтра» пошлешь письмо. Но письма нет. Меня это тревожит. Не пойму – почта ли задерживает, ты ли не пишешь, или что-нибудь случилось. Если письма не будет послезавтра, дам телеграмму. Мне здесь и так паршиво, а тут еще ты не пишешь. Я уже написала тебе письмо, злое и скверное. Потом поспешила его порвать. Матреши нет. Хочу взять другую. В комнате развал полный, забот масса, а сил все-таки не много.
Поправилась я хорошо. Могло бы надолго хватить. Но в наших условиях это не выйдет.
В институте начались занятия. Завтра будет семинар по истории России. Не знаю, какая тема для доклада мне попадет. Надо сдавать зачеты, начать готовиться к ним.
У нас директором Пригожин. Сегодня он делал доклад. Обещал хорошие вещи. Я записалась в 2 семинара: по истории России к Зельцеру[118] и по средним векам к Грацианскому[119]. В первом семинаре – промышленность 2-ой половины XIX в. Во втором еще не знаю что.
Что собой представляет Пригожин? Кто-то говорил, что он трудный человек. Правда ли?
Мне скучно без тебя. А тут ты еще не пишешь. Деньги в Бубновском институте получила. Отдала 150 рублей для ребят, 40 – В.А. На сберкнижку тебе перевели 653 рубля. Я взяла оттуда 100 рублей. Хочу купить себе башмаки. Абсолютно не в чем ходить. Хожу в маминых, от которых отчаянно болят ноги.
Адрес Громова: Б. Полянка, 2-ой Казачий переулок 11, кв. 23.
8 сентября
Мне очень трудно было писать письмо. Страшно тяжело писать в неизвестность. Но позавчера вечером я получила твою телеграмму, а вчера вечером – письмо. Вот теперь и писать легче. И даже хочется написать хорошее бодрое письмо.
Последнее очень трудно. Мне не слишком хорошо. Страшно пусто, сама не знаю почему. Ничего, абсолютно ничего не хочется, ничто не радует. Что со мной, Юренка? Или это реакция после Селигера? Ведь там я так сильно чувствовала жизнь. Мне было там так хорошо, что я оживаю, когда говорю о байдарках, ботиках, ветре, походах и прочем. Может быть, именно потому, что я еще полностью не включилась в занятия, в московскую жизнь. Но, в общем, тяжело. Я не знаю, чего я хочу, и, мне кажется, что ничто мне не нужно. Все ужасно серо, хотя погода стоит превосходная. Небо голубое- голубое, тепло и солнечно. Чего еще надо? Но все не то. Еще недавно, когда я вернулась уже в Москву, мне хотелось быть красивой, умной, а теперь нет. Может быть это от того, что забот хозяйственных и прочего масса, а ведь ты же знаешь, как они меня утомляют, и как я их терпеть не могу. Чувствую, что живу не так как нужно, но как нужно – догадаться не могу. Душит меня теснота и грязь, и нет желания взяться за дело.
С комнатой у нас ни черта не выйдет, это ясно. Благодатский ждет, чтоб кто-нибудь в доме умер. Боюсь, что он освободит комнату к тому времени, когда мы уступим ему свою. Впрочем, тогда его семейство разрастется на несколько квартир.
Чувствую по твоему письму, что ты не слишком доволен своим «отдыхом». Это меня очень огорчает. Я прошу тебя, роднуська, использовать все, что только можно. Не отказывай себе ни в чем. Покупай фрукты, масло, зелень. Вообще питайся, раз плохо кормят. Если денег не хватит, я переведу.
Кстати, о деньгах. Я получила 298 рублей в Бубновском институте, из которых у меня осталось 108 рублей, а 40+150 – отдала ребятам и В.А. Кроме того, я получила стипендию 45 рублей, 30 рублей отдал Шишков и 49 – Фанни Михайловна (разницу по КПС). Затем я взяла со сберкнижки 100 рублей, но они ещё не тронуты, так как лежат для туфель. На сберкнижке осталось 558 рублей. В Картотрест схожу, когда будет время. А в «Борьбу классов» не смогу, так как там платят по 3, 13, 23. А в эти дни у меня занятия. Получил ли ты лечебные в Комакадемии? Получил ли гонорар в «Academia»? Сколько денег у тебя с собой? Не забудь, что мы оба без шуб. Впрочем, тебе более необходимо демисезонное, чем шуба. Кроме того, совершенно необходимо сшить тебе костюм, хватит ходить задрипой.
Занятия, как я тебе писала, начались. Ввели у нас латынь. Ведет группу Фроловский, если знаешь. Очень веселый человек. Вчера был семинар Грацианского. Это, собственно, просеминар, но настоящий. Мы читаем источники, а он комментирует. А затем будут доклады по отдельным темам. Начинаем с Жакерии и кончаем крестьянской войной в Германии. Всего 6 тем. По истории России будет 2 семинара. У нас будет рабочее движение 70-80-х гг. Руководителя еще не знаю. Но я бы предпочла Зельцера. Я даже облюбовала себе тему у него: «Экономическая политика самодержавия 1880-1890 гг.». Но разбивка по семинарам идет сверху, а не по нашему желанию.
Да, уходит ли из «историка-марксиста» Лукашевская? Полина Терк хотела обратиться к тебе с тем, чтоб ты устроил некую девушку, которая работала редактором, но она согласна пойти секретарем.
Ну, кажется, все. Сейчас отправлюсь за продуктами. Зайду посмотреть обувь у Мюра. По-видимому, обедать сегодня не придется, или дома что-нибудь сварганю.
Вот к тебе еще какая просьба. Если нельзя будет для ребят получить отдельный пропуск в кооператив (я сегодня узнаю), то нельзя ли нам вместе не прикрепляться на следующий месяц? Не загружай меня, Юрочка, лишними заботами. Это мне не под силу. Подумай вообще, как нам жить, но так чтобы не многосемейно. Не хочу огорчать тебя, но помни, что, так как мы жили, я больше жить не хочу и не стану. Рассуди так, как лучше тебе. Целую крепко и обнимаю. Твоя Ли.
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ [120]
Только что вернулась из кооператива, и дома меня ждало твое письмо. На первое я послала тебе ответ, который писала утром. Сейчас захотелось черкнуть еще несколько слов.
Настроение у меня несколько лучше. Я вообще не нервничаю. Пусто, по-видимому, без тебя. Я еще не могу определить точно, но думаю, что причина эта. Ведь особенно тяжело мне бывает дома. Пиши мне, Юренка, чаще.
Вчера у меня был мирный разговор с В.В. в связи с прикреплением детей. Обошлось. Сегодня я говорила в кооперативе о том, чтобы ребятам дали отдельный пропуск. Мне сказали, что это можно, но ты сам должен будешь обратиться в Правление кооператива, и там это сделают. Поэтому на следующий месяц нужно будет ребят прикреплять, но не к столу заказов. Об этом я поговорю с Ф. Мих. Обещают мне хорошую домработницу приходящую, но без стирки. Вот и все. Будь здоров. Отдыхай и лечись. 22-го буду встречать, сообщи № поезда.
Занимаюсь по старым числам: 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19 и так далее. Седьмые числа включили в расписание. К зачетам начинаю готовиться. Целую крепко. Твоя Ли.
[СТАЛИН НА ФРОНТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ]
В 1934 году, весной, насколько это верно, я не знаю, но тогда об этом упорно говорили, Сталин поинтересовался у своего сына Василия, который учился в школе, что они проходят по истории. Тот сказал, что Екатерину. «Ну а кто такая Екатерина?», – спросил своего отпрыска Сталин. Тот ответил: «Екатерина – царица – продукт феодального разложения». Кроме этого «продукта», мальчик больше ничего не знал, не знал не потому, что не помнил, а потому, что так его учили в школе. Сталин посмотрел учебник, ахнул и... взялся за историю.
Было созвано очень небольшое совещание историков, на котором был поставлен вопрос о необходимости конкретного изучения истории.
Было вынесено постановление о создании Истфака в Университете. Деканом назначили Фридлянда[121], который до этого несколько лет ходил без работы, потому что Сталин разгромил его соавтора Слуцкого.[122] Они, помнится, вместе составили хрестоматию по истории революционного движения на Западе, выдержавшую несколько изданий и служившую долгое время основным учебным пособием для студентов.
Фридлянду было поручено собрать на Истфаке лучшие силы. Кроме того, были даны указания командировать московских и ленинградских историков в периферийные Вузы (там, где есть истфаки или они организуются), на двух- трехмесячный срок для чтения лекций. Мой муж был назначен в Махачкалу и в 1935 году должен был туда поехать.
Правда, тут были сильные перегибы, очень трудные для нас, студентов. В это время я должна была сдавать экзамен по русской истории. Учебника никакого нет. Лекции нам читали на основе вульгарно-социологического подхода, то есть, обобщая все, вроде того, как говорил Василий Сталин, превращая все в «продукт» и «классовую сущность».
Нам срочно пришлось готовиться к курсовому экзамену не по лекциям, а по пособию Платонова[123], экстренно осваивая и запоминая фактический материал, так, как будто, мы не студенты, а школьники старших классов, которые обязаны знать даты и факты.
На экзамене, когда стали задавать дополнительные вопросы, дело доходило до анекдота. Например, мне был задан, среди прочих, такой вопрос: «Как отнесся дипломатический корпус к Октябрьской революции?». Сдавала я зав. кафедрой Пионтковскому[124], которому ассистировал Городецкий. Последний и задал этот вопрос. Я с изумлением на него посмотрела, Пионтковский был также обескуражен. Но вопрос был задан и на него надо был отвечать.
Я сказала, что я не знаю, но думаю, что, судя по всему, здесь могло быть только отрицательное отношение, поскольку мы знали, как Антанта, Европа и весь мир отнеслись к Октябрьской революции. «Да нет, – говорит Ефим Наумович, – один все-таки отнесся положительно». «Ну, – говорю я, – тогда я не знаю». Да и Пионтковский не знал.
Городецкий в каких-то воспоминаниях прочел, что, кажется, какой-то посол одной из Прибалтийских стран признал Советскую власть и в награду требовал, чтобы ему дали какой-нибудь орден. Перед ним открыли сейф царских орденов и предложили ему выбирать любой. Так мне запомнился этот эпизод до сих пор.
А вот другой факт. Представьте себе, что мы проходили Смуту, как крестьянскую войну, направленную против классового врага. В роли классового врага, вернее руководителей классового врага, выступали Минин и Пожарский. И вдруг мы выясняем, что Минин и Пожарский не классовые враги, а герои, спасшие Россию. А куда же подевалась классовая борьба и классовый враг? В общем смысле нам объяснили, что национальные интересы стояли тогда выше классовых, что важнее было сохранить Россию, а классовая борьба крестьянства, все равно бы ничего не дала. Она была только показателем крестьянского недовольства, теми мерами, которые были недавно проведены: ликвидацией Юрьева дня, окончательным прикреплением крестьян и так далее.
Нам, студентам все эти новые подходы было чрезвычайно трудно переосмыслить. И здесь особенно большую помощь нам оказали преподаватели старой школы.
В это время, уже в 1933 году вернули из ссылки Бахрушина[125], Готье[126], Любомирова[127] и других историков. Преподавали они у нас, но только у старшекурсников и аспирантов. Сначала в ИФЛИ обучение было четырехгодичным, потом прибавили 5-й. У нас на третьем курсе Ю.В. Готье читал Киевскую Русь, а на 4-м вел палеографию.
Мы сидели в архиве и под руководством Юрия Владимировича с трудом читали скоропись межевых книг. Когда ему, во время перерыва, задавали какие-нибудь вопросы, он обычно рассказывал очень много интересного. «Ну а насчет марксизма – это вы уже сами, я в нем ни бум-бум».
И, помню, это было уже осенью 1936 года, институт уже перевели за Сокольники, в Богородское, у Оленьих прудов. Первое, что мы делали, войдя в здание, бросались к доске приказов, где почти ежедневно вывешивался новый приказ об увольнении того или иного преподавателя. И если внизу писалось: «Основание: распоряжение зам. директора», мы знали, что человека арестовали.
Как-то, придя на занятия, я читаю приказ относительно нашего зав. кафедрой С.А. Пионтковского, и сразу все поняла. И в это время, встречаю тут же на лестнице Ю.В. Готье. Он всех студентов называл по имени-отчеству, а ко мне, как мне казалось, особенно благоволил.
– «Эмиль Самойловна, – обращается он ко мне, – Вы знаете, что случилось?» Я говорю: « Да, я читала».
– Но Вы знаете, как это на мне сказалось?
Я говорю: «Ну что Вы, Юрий Владимирович, как на Вас увольнение Пионтковского может сказаться?».
– Да, но ведь мне теперь на первом курсе читать, а я ж в марксизме ни бум-бум.
С.В. Бахрушин, наоборот, очень много читал и осмысливал теоретические положения марксизма. Ему это было интересно.
Это были первые преподаватели, к которым мы обращались
Я понимаю, как трудно было и профессуре, и студентам-историкам, которые привыкли к совершенно другой трактовке событий соединять классовый принцип (по Покровскому) с конкретно-историческим подходом.
«АКАДЕМИЧЕСКОЕ ДЕЛО»[128]
Мама об этом «деле» ничего не знала и считала, что арестованные, сосланные, а затем возвращенные историки были каким-то образом связаны с процессом «Промпартии». Однако, открывшиеся, уже после ее смерти, архивы дают совершенно иное представление о том, что в действительности происходило в описываемое время.
В конце 20-х – начале 30-х годов ОГПУ было сфабриковано пять громких процессов, положивших начало широчайшей волне репрессий, прокатившейся затем по всей стране. Все они были направлены против «старой» интеллигенции.
Три из них были организованы в Москве: «Шахтинское дело» (май – июль 1928 г.), по которому 53 инженера и технических работников были обвинены в саботаже и вредительстве;
Процесс «Промпартии» (25 ноября – 7 декабря 1930 г.), по нему проходило 8 человек во главе с профессором Л.К Рамзиным (1887–1948) и процесс «Союзного бюро меньшевиков» (1–9 марта 1931 г.). Готовился, но так и не состоялся, процесс над «Трудовой крестьянской партией», в связи с чем были арестованы и погибли Н.Д. Кондратьев (1892–1938), А.В. Чаянов (1888–1937) и др.
Два процесса проходили в Ленинграде: «Семеновское дело», когда был арестован 21 человек из числа офицеров, некогда служивших в лейб-гвардии Семеновского полка, и грандиозное политическое «Академическое дело», начало которому положило постановление политбюро ЦК ВКП(б) от 5 ноября 1929г.
Его жертвой стала большая группа ученых-историков, среди которых было четыре академика (С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле, Н.П. Лихачев, М.К. Любавский) и девять членов-корреспондентов АН СССР. Число арестованных органами ОГПУ, начиная с октября 1929 г., постоянно росло и ко второй половине 1930 г. в целом по стране достигло свыше 150-ти человек.
В ходе допросов в Ленинграде, где велось основное следствие, его устроители из высшего партийного руководства и Полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе состряпали обвинение, звучавшее вполне традиционно: заговор и организация. По сценарию выходило, что арестованные ученые, работники аппарата Академии наук, сотрудники Русского музея, Центрархива, других научных учреждений, вузов, издательств, священнослужители и даже домашние хозяйки, якобы, создали антисоветский контрреволюционный «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России». Главной целью «Всенародного союза» было свержение Советской власти при помощи иностранной военной интервенции и восстановление монархического правления.
Взгляды, привлеченных к делу историков, сформировались задолго до революции, и многие ученые не могли отречься от них и при новой власти. Это и послужило идейной основой, за которую ухватились организаторы «Академического дела» – неприятие обвиняемыми нового идеологического направления: марксизма-ленинизма. («Я в марксизме ни бум, бум»).
Первым 25 января 1930 года был арестован академик С. Ф. Платонов, которому и «поручили» возглавить «контрреволюционную монархическую организацию». Затем под стражу взяли ученого секретаря Археографической комиссии А. И. Андреева и других историков (среди них – академики Е. В. Тарле и Н. П. Лихачев).
Вскоре последовали аресты в Москве: 9 августа 1930 г. арестовали М. К. Любавского, Д. Н. Егорова, Ю. В. Готье; 12 августа 1930 г – А. И. Яковлева; 21 августа 1930 г. – С. В. Бахрушина. Их этапировали в Ленинград и присоединили к основному «Академическому делу».
Одновременно в Ленинграде велось следствие еще по 43-м арестованным. В отношении 23-х, среди которых были А.А. Введенский, Б.Д. Греков, Ю.Г. Оксман, В.И. Срезневский, А.А. Шилов, дело было прекращено, а на остальных заведены самостоятельные производства, не связанные с «Академическим делом».
В связи с «Академическим делом» в 1929–1931 гг., в Москве было арестовано еще пять историков: Николай Михайлович Дружинин, Иван Сергеевич Макаров, Иван Иванович Полосин (Иванов-Полосин), Михаил Николаевич Тихомиров и Лев Владимирович Черепнин. Они были взяты под стражу 14 сентября 1930 г., через месяц после ареста первой группы московских историков. Но их не этапировали в Ленинград, а содержали в Бутырской тюрьме. Каждый из них допрашивался не более трех раз, в результате чего следователь, а вернее следовательница В. П. Брауде, составляла короткие «Заключения», содержавшие суть предъявленного обвинения или столь же лапидарное обоснование для освобождения из-под стражи. Эту группу арестованных более двух месяцев продержали в тюрьме и, в конце концов, освободили.
10 февраля 1931 года «тройка» полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе вынесла обвиняемым приговор. В мае того же года он был пересмотрен коллегией ОГПУ и несколько смягчен.
И действительно, мера наказания отнюдь не соответствовала «тяжести преступления». «Организаторы» «Всенародного союза», были приговорены лишь к высылке в «отдаленные места СССР сроком на 5 лет». Но вовсе без жертв не обошлось. Шесть бывших офицеров, «принадлежащих к военной группе» «Всенародного союза» были приговорены к расстрелу. Рядовых членов «союза» коллегия ОГПУ приговорила к 5-10 годам лагерей. Всего приговоры были вынесены в отношении 115 человек.
Для историков ссылка означала крах их ученой карьеры. Оторванные от крупных библиотек и центральных архивов, они были обречены на творческое бесплодие и влачили жалкое существование. Академик М. К. Любавский, сосланный в Уфу, например, служил архивариусом и получал нищенское жалованье.
Однако, задолго до окончания срока ссылки, большинству из оставшихся в живых ученых (С. Ф. Платонов скончался в Самаре в 1933 году, М. К. Любавский – в Уфе в 1936-м, были и другие утраты) неожиданно разрешили вернуться к прежней работе в Ленинграде и Москве.
Что вызвало такой крутой поворот в судьбе недавно осужденных?
В 1932 году скончался фактический диктатор в исторической науке М. Н. Покровский, а 16 мая 1934 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР «О преподавании гражданской истории в школах СССР», за которым последовали другие постановления, напрямую осуждавшие историческую концепцию Покровского.
Уже в названном постановлении ЦК партии и СНК 1934 года концепция Покровского подвергалась критике. Не называя имени виновника искажений в преподавании истории в школах, постановление отмечало: «Вместо преподавания гражданской истории в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей, учащимся преподносят абстрактные определения общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связное изложение гражданской истории отвлеченными социологическими схемами»[129].
Слова постановления ЦК ВКП(б) и СНК от 26 января 1936 года звучат уже жестче: «Среди некоторой части наших историков, особенно историков СССР, укоренились антимарксистские, антиленинские, по сути дела, ликвидаторские антинаучные взгляды на историческую науку»[130].
Однако задача аналитического изучения исторических фактов была не по плечу для большинства оставшихся на свободе историков. «Прервалась связь времен» – преемственность в подготовке кадров историков, да и вульгарный социологизм, господствовавший в общественных науках того времени, не способствовал решению поставленной задачи. Ее бы могли решить большие ученые, профессионально подготовленные историки, находившиеся не у дел, в ссылке по «Академическому делу».
Настоятельная потребность партии в услугах квалифицированных профессионалов и объясняет, почему ссыльные историки в одночасье были возвращены в Москву и Ленинград. Им вернули звания академиков. Всем им было разрешено не только заниматься наукой, но и преподавать в высших учебных заведениях. Некоторые из них получили высокие академические должности.
«Академическое дело» нанесло большой урон отечественной исторической науке, на несколько лет заглохла исследовательская работа. Изучение многих исторических проблем, например народничества, истории церкви, дворянства, буржуазии, оказалось, фактически, под запретом. А моральный и физический надлом, который претерпели крупнейшие историки страны, сделал их, по существу, послушным орудием советской пропагандистской машины.
Но ОГПУ-НКВД-МВД-КГБ продолжали держать всех, как содержавшихся в тюрьме и оправданных, так и отбывших заключение или ссылку, а также людей, так или иначе связанных с ними, в поле своего постоянного наблюдения.
Так, следственное дело Н. М. Дружинина запрашивалось из архива органами госбезопасности несколько раз: 7 мая 1941 г. («в связи с разработкой»), 22 октября 1946 г. (без указания цели[131]), 4 апреля 1950 г. («в связи с разработкой связи Будовниц»[132]), 7 апреля 1956 г. («в связи с разработкой Виленской»[133]). В чем заключалась «разработка» Виленской, не совсем ясно. Мама к тому времени уже года два была референтом Николая Михайловича и сотрудником Института истории АН СССР.
1935 ГОД
МАМА – ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ
30 января 1935г. [134]
Юренка! Доехала я весьма благополучно. Из Осташкова ехала на санках. Таким образом, все в порядке. Здесь 32 человека туристов. Все очень довольны. И действительно хорошо.
Огромная снежная равнина, ослепительно белая. Невысокие пригорки, и покрытые снегом ели и сосны. Не мокро, как в Москве, но очень тепло.
Сегодня я еще отдыхаю. Была в бане. Вообще прекрасно. Думаю, что 8-го не приеду, если будет хорошо отдыхаться. Пойдешь тогда с Нинкой. Как дела? Как чувствуешь себя?
Ты, вероятно, способен будешь ответить только на эту открытку. А может быть, и на нее не ответишь, а только просто пришлешь письмо. Позвони маме (лучше передай через Нину), что все благополучно и я довольна. Целую крепко моего роднуську. Твоя Ли.
Это последнее письмо мамы Юрию Михайловичу. Других писем, к сожалению, не сохранилось.
Письма носят достаточно личный характер, с массой бытовых и семейных подробностей, в которых, как в старых пожелтевших фотографиях, воскрешается время. Для мамы оно было, в общем-то, вполне счастливым. Несмотря на разницу в возрасте, она искренне любила и уважала Юрия Михайловича, что вовсе не означало, что между ними не было трений.
Неурядицы бывают в любых семьях. Письма полны забот и беспокойств о любимом человеке. Подчас мамины тревоги были беспочвенны, но это уже свойство ее характера, которое я испытал в полной мере на себе. Она и обо мне, уже взрослом и женатом, продолжала волноваться так же, как о подростке. Если я приходил поздно, она не ложилась спать, поджидая меня, даже если я звонил и говорил, что задерживаюсь.
Ю.М.Б.[135](ЧАСТЬ II)
Вскоре отдел кадров ЦК партии перевел Ю.М. в Комакадемию в качестве ответственного секретаря журнала «Историк-марксист». Главным редактором был Лукин[136], заместителем – Ванаг, но журнал фактически вел Ю.М. – опытный журналист и редактор-историк. Все шло более чем благополучно. В этом деле Ю.М. был единственным компетентным лицом и пользовался абсолютным доверием.
Но вот случилась беда: типичный случай подсиживания для собственной карьеры. Так начинался потихоньку и полегоньку новый весьма мрачный этап в науке и еще более мрачный, скажем прямо – трагический, в социальных отношениях.
Расскажу, как я об этом узнала. Студентка ИФЛИ, я на зимние каникулы 1934-1935 года уезжала на 2 недели на озеро Селигер. Вернувшись рано утром с поезда, я обнаружила Ю.М. в кровати.
– Что случилось? Заболел? Почему не на работе?
– Я не работаю. Меня сняли, влепили строгача и направили на «низовку», запретив педагогическую и журналистскую работу. Решение РК еще не утверждено.
А дело было так. В этот момент столкнулись два постановления: одно о конкретном освещении истории, на основании которого и был составлен план журнала на 1935 год и второе – внесение остро политического элемента в связи с убийством Кирова, которое относили официально за счет оппозиционных элементов, действовавших как открыто, так и подпольно. Жертва была не только избрана и ликвидирована, но также использовалась для расширения, пока что начального, репрессивной деятельности.
Составленный план журнала потребовал корректировки, укрепления статьями политического характера, что Ю.М. – опытный редактор – и сделал. Однако Лукин (о котором говорили, что ему нельзя действовать без комиссара, что при нем необходим комиссар), вычеркнул ряд политических статей, чтобы сохранить чисто фактологический состав журнала. Ю.М. подчинился, предупредив, однако, что это может иметь нежелательные последствия. В то же время оказалось, что у некоторых из намеченных авторов «подмочена» репутация и обнаружены те или иные «грехи». Их надо было заменять другими.
Идя на заседание редколлегии, Ю.М. сказал фразу, ставшую сакраментальной с помощью журналиста Зоркого: «Редеют ряды историков-партийцев» – то есть просто не кем заменять отвергнутых авторов. Зоркий, почувствовав себя на трибуне (хоть щит [одно слово не разобрано]) поучительно заявил: «Партия освобождается от чуждых элементов».
Ю.М. повторил эту фразу, т.е. «редеют ряды… (или ее смысл) на заседании. И здесь Зоркий не упустил случая продемонстрировать свою «партийность», несколько обескуражив остальных (Ведь никто не знал, то ли это инициатива Зоркого, то ли он только рупор).
Тогда Ю.М., пользуясь своим правом ответственного секретаря, созвал снова редколлегию, просив официального ответственного редактора Емельяна Ярославского присутствовать на заседании. И тот пришел.
Когда речь шла о плане, Лукин промолчал, что он его корректировал в сторону фактологии.
Ярославский несколько разрядил обстановку, заявив, что хотя Бочарова он мало знает, но зато хорошо знает всех оппозиционеров разного характера, и, что среди них Бочарова не было и нет.
Тем не менее, ему (Юрию Михайловичу) вспомнили, что он выступал в «желтой» прессе (буржуазных газетах) и вынесли решение о строгом выговоре и «низовке». Вот почему он и был освобожден от работы, как в Комакадемии, так и в Пединституте, где был профессором и заведовал кафедрой.
РК не утвердил «низовки» и направил снова в Пединститут в качестве профессора, но более 4-х месяцев Ю.М. был без работы, а, следовательно, и без зарплаты. А Зоркий!!! Можно было думать, что такой уж он правильный и к тому же хранитель партийной чистоты. Но мне лично пришлось слышать следующее.
Как-то вечером, возвращаясь домой в Гагаринский переулок, я шла по Волхонке. Впереди шли двое: мужчина и женщина, которых в темноте я не могла различить. Но до меня долетела знакомая фраза (тем более что мужчина говорил громко, хотя находился в районе Комакадемии и Института красной профессуры). Мужчина рассказывал женщине (это была, кажется, Э.Б.Генкина, только что приехавшая в Москву) историю с фразой.
Он был очень доволен: «А откуда мне знать, какой смысл он (Бочаров) вкладывал в эти слова? Я их понял именно так: ему жаль партийцев, от которых очищается партия». Потом мужчина и женщина расстались. Я знала, где живет Зоркий, и шла за мужчиной, чтобы проверить, он ли все-таки это. И проверила. Да, он был одним из тех, кто начал делать карьеру на костях своих сослуживцев[…].
В дополнение к этому любопытному рассказу стоит привести документ: архивную справку, извлеченную с некоторым трудом из недр Партархива Института истории партии МК КПСС. Здесь мне разрешили ознакомиться лишь с выпиской из протокола заседания Бюро Фрунзенского РК ВКП (б).
Выписка из протокола № 127 заседания Бюро Фрунзенского РК ВКП (б)
7 декабря 1935 г.
Слушали: О задержании партбилета при проверке партдокументов у Бочарова Юрия Михайловича года рождения 1887, член партии с 1919 года, партбилет № 0049430, парторганизация Института истории Комакадемии.
[...]
В учебнике, выпущенном совместно с Иоаннисиани, были теоретические ошибки.
В 1923 г – строгий выговор за неуплату членских взносов. [формулировка совсем другая. Строгий выговор, как мы помним, был за «несвоевременную уплату» Н.В.]
В 1935 г. Бюро Фрунзенского РК ВКП (б) объявлен строгий выговор с предупреждением за антипартийные разговоры. [«редеют ряды историков-партийцев». Н.В.]
Выбыв из партии в 1910 году, сотрудничал в буржуазных и монархических газетах «Раннее утро» и «Русское слово», выразивши на проверке [sic!] о своем сотрудничестве в этих газетах, что ничего особенного не видит.
В 1935 г., будучи редактором «Историка-марксиста» выпустил бесхребетный номер после ареста Анатольева[137] и других. (докл. т. Баллод).
Постановили: Бочарова Ю.М. из рядов ВКП (б) исключить, как политически неустойчивого и не оправдавшего доверия партии[138].
Ю.М.Б (ЧАСТЬ III)КОНЕЦ Ю.М.Б.
21 февраля 1990 г.
Сегодня в день рождения Юрия Михайловича (103 года!) меня пригласили в КГБ СССР по моему запросу, отправленному туда в декабре 1989 г.
Еще неделю назад мне позвонил человек, назвавшийся Игорем Юрьевичем из КГБ, и своим звонком переполошил всех домашних (все-таки сидит в нас на генетическом уровне вечный страх перед всесильными Органами). Он занимается моим запросом и готов со мною встретиться в удобное для меня время (как изменились Органы!). Спрашивал, кем я довожусь Бочарову, почему меня интересуют сведения о нем. Договорились на 10 часов утра 21 февраля.
Ночью, накануне визита, мне приснился сон. Я в КГБ. Огромный, круглый зал, на всю свою громадную высоту отделанный дубовыми панелями. Посредине круглый антикварный стол. Я стою около него и с кем-то разговариваю. Какие-то люди слушают нашу беседу. Вдруг мое внимание привлекают эти поднимающиеся ввысь на насколько этажей панели. Внезапно одну из панелей кто-то отодвигается, а за ней до потолка каталожные ящики, как в библиотеках. Их очень много и я догадываюсь, что и за другими панелями спрятаны такие же ящики. Мой разговор неожиданно прерывается кем-то, кто принес заказ для сотрудников то ли на продукты, то ли на обувь. Началась обычная в этих случаях суета: кому что. На этом сюжет сна оборвался...
В 10 часов утра я уже был в приемной КГБ на Кузнецком мосту, дом 22, который работает круглосуточно.
Вошел. Вестибюль отделан белым мрамором, несколько низких уютных кресел из искусственной кожи светло-коричневого цвета, журнальные столики, на которых разложены газеты. Вдали, у конторки, охрана, которая проверяет пропуски у сотрудников. (Вспомнились мамины рассказы об отсутствии в приемной даже скамейки для людей, ожидавших своей очереди к окошечку, «Софью Петровну» Л.К. Чуковской). Меня никто ни о чем не спрашивает. В вестибюле, кроме меня никого нет.
Где-то в 1005 ко мне подходит молодой человек в белой шапке с длинным ворсом, в пальто и с коричневой папкой подмышкой.
– Вы Николай Алексеевич?
– Да.
– Я Игорь Юрьевич, пройдемте в 3-ю комнату. Она оказалась как раз напротив того места, где я сидел в ожидании. Мы вошли, сняли пальто. Я достал блокнот и начал записывать. Игорь Юрьевич медленно, под мою запись, зачитывает свои выписки из анкеты арестованного. В начале сведения общего характера, давно мне известные.
Из родственников, проживающих с Бочаровым, арестованный называет Виленскую Эмилию Самойловну – студентку ИФЛИ, мать Саврасову Веру Алексеевну. Кроме того, Юрий Михайлович сообщает, что имеет сына Константина 13 лет (т.е. родился в 1923 г. Погиб в Великую Отечественную войну) и дочь Наталья 9 лет (т.е. родилась в 1927 г. Мама время от времени звонила Наташе, которая работала в 1960-е годы, кажется, диспетчером на автобазе АН СССР). Дети проживали вместе с матерью Валентиной Васильевной Бочаровой по адресу Кропоткинский переулок дом 12. Валентина Васильевна после ареста Юрия Михайловича срочно сменила свою фамилию на девичью (Скрипникова).
Бочаров арестован 24 марта как участник контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации. При обыске изъят револьвер системы «наган», литература.
На первых двух допросах 7 и 11 апреля свою вину отрицал. (Следовательно, две недели Юрия Михайловича на допрос не вызывали, доводили до нужной психологической кондиции). Но, после применения спецмер (Игорь Юрьевич употребил именно этот термин), 13 апреля стал признавать свою вину. (О характере спецмер можно догадываться, читая «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына и мемуарную литературу репрессированных). Допросы проводились еще 24 и 28 апреля. По процессу проходило 25 человек – преподаватели. Доноса, как такового, не было, так как цепочка тянулась из Горьковского пединститута.
Военная Коллегия Верховного Суда СССР под председательством Ульриха 2 октября 1936 года вынесла приговор в отношении 25 человек. Бочарову Ю.М. в приговоре отводилась особая роль, как активного участника террористической группы, который выполнял ряд заданий по организации террористических актов над руководителями ВКП (б) и Советского правительства (вербовка людей, заготовка оружия, поддерживание связи с троцкистско-зиновьевским центром). Все обвиняемые являлись активными участниками троцкистско-зиновьевской организации, осуществившие 1 декабря 1934 года злодейское убийство Кирова и готовящей ряд террористических актов против руководителей ВКП (б) и Советского правительства под непосредственным руководством Троцкого (теракты на Красной площади в Москве 1 мая 1936 г.). Ю.М. Бочаров являлся руководителем и организатором одной из таких групп. (Еще бы! Какая удача – нашли наган и запрещенную литературу. Но только непонятно, как, находясь во внутренней тюрьме на Лубянке, можно руководить терактом на Красной площади в Москве 1 мая 1936 г.? [Н.В.]).
Приговор: Высшая мера наказания – расстрел. Заседание Военной Коллегии закончилось 2 октября 1936 г. в 23 часа 10 минут. Приговор приводился в исполнение обычно в тот же день. Т.е. Ю.М. Бочаров погиб в ночь со 2 на 3 октября 1936 г.
Затем я стал задавать свои заготовленные вопросы:
–Кто эти 25 человек?
– Назвать не могу, поскольку Вы не прямой родственник.
– Кто, кроме Ильницкого, принимал участие в следствии?
– Не обратил внимания. (22 февраля И.Ю. позвонил и сообщил следующие фамилии: Прокофьев, Миронов, Люшков, Южный).
– Инкриминировалось ли Бочарову его пребывание в партии интернационалистов?
– Кажется, нет (22 февраля уточняет– нет).
В конце беседы, которая длилась около 30 минут, И.Ю. вынул из своей коричневой папки фотографию Ю.М. из следственного дела и передал ее мне под расписку. С фотографии на меня смотрел знакомый человек, с усталыми и грустными глазами, с волевыми чертами лица, одетый в поношенное пальто. Поразил потертый воротник и огромная, как след от разрывной пули, пуговица посередине.
В расстрельных списках по Донскому кладбищу приводятся все 25 фамилий, расстрелянных вместе с Ю.М. Бочаровым[139].
Группу начали сколачивать сразу же после убийства Кирова с декабря 1934 г., тогда было арестовано 2 человека. В 1935 – арестовали еще двух, один из них был из Горького.
Основные аресты пришлись на январь–апрель 1936 г. Тогда было арестовано 20 человек. Последний арест по этому «делу» был проведен аж 15 июля 1936 г.
Арестованных этапировали на Лубянку из разных городов: 14 из Горького, по одному из Архангельска, Минска, Омска, Ташкента, Днепропетровска. Шестерых арестовали в Москве.
Самому старшему в группе – Юрию Михайловичу исполнилось 49 лет, а самому младшему – 25, средний возраст казненных 35,6 лет – самая цветущая творческая пора.
По своему составу группа была интернациональна : 14 русских, 8 евреев,2 немца и 1 серб и олицетворяла собой прочный союз коммунистов (14 человек) и беспартийных (10 человек). Один – комсомолец.
Среди расстрелянных были люди разных специальностей. Широко представлен Горьковский пединститут – от директора до студента. Здесь же и секретарь горкома, инженеры, плановики, финансовый работник, журналист, рабочий. Размах работы чекистов, конечно, впечатляет.
ЖЕЛТАЯ ГАЗЕТА
В мамином архиве в папке «Ю.М.Б.» сохранилась газета под названием «За коммунистическое просвещение». Я долго не мог понять, почему мама хранила эту пожелтевшую от времени газету. Педагогикой она не занималась (за исключением моего воспитания). Ее статьи я не обнаружил. А статьи или заметки Юрия Михайловича здесь просто не могло быть, т.к. газета вышла 22 мая 1936 года, когда Юрий Михайлович сидел в лубянских застенках. Статьи, заметки и фотографии скорее характеризовали время, но вряд ли из-за этого мама хранила газету: советским периодом она никогда не занималась и не собиралась этого делать. Я решил все же прочитать ее от корки до корки и, наконец, обнаружил причину, по которой эта газета хранилась в архиве.
В статье под заголовком «Больше педагогической чуткости и такта», излагалась вполне здравая идея о необходимости учителю быть ближе к детям и их семьям.
Но вот приводится пример: «Ученик 4 класса Костя Б., отличник учебы, обращает на себя внимание своей замкнутостью, болезненностью. Он очень развит, но редко бывает весел. По всему видно, что ребенок что-то сильно переживает. Казалось бы, уж на него классный руководитель, вожатый отряда должны были обратить внимание, заинтересоваться им. Но, ни тот, ни другой «не замечали», проходили мимо непонятного поведения мальчика.
И только впоследствии, когда я и вожатая побывали у Кости дома, поговорили наедине с ним и с матерью, стало известно, что мальчик на почве семейной неурядицы (развод родителей) сильно переживает, страдает. Он любит отца, любит мать. А отец (кстати, профессор) издевается над чувствами мальчика. Разве можно было, не зная всего этого, понять поведение Кости в школе, его замкнутость, скрытность?». Статья подписная. Ее написал Д. Иванов, комсорг ЦК ВЛКСМ в 17-й школе Фрунзенского района Москвы. Была, оказывается, и такая должность политкомиссара над политкомиссарами.
Стало все понятным: Костя Б. это Костя Бочаров, который, как рассказывала мама, действительно очень любил отца (кстати, профессора), как и отец его. Костя часто бывал в доме в Гагаринском переулке, оставался там на несколько дней и Юрий Михайлович уделял ему много времени. Конечно, приходить к отцу и жить с отцом – вещи разные и несопоставимые.
Однако, после ареста Юрия Михайловича для мальчика все изменилось. Ему не разрешали бывать в доме отца и бабушки. Видимо, он знал о том, что случилось с Юрием Михайловичем. На Костиных глазах его мать срочно продавала библиотеку отца, его одежду и другое имущество, сменила фамилию. От мальчика в 13 лет все это скрыть трудно. Отсюда и изменения в характере подростка, на которые обращает внимание комсорг ЦК ВЛКСМ. Полагаю, что этот комсорг (поговорив с мальчиком и его матерью наедине) был осведомлен об аресте отца Кости Б. Но ему необходимо было выполнить социальный заказ: показать аморальность «профессора», который, находясь в Лубянской тюрьме, «издевается над чувствами ребенка».
ЧАСТЬ II
«И КАТЯ СО МНОЙ ТРУБЕЦКАЯ...»
1936 ГОД
КРАТКАЯ ХРОНИКА СОБЫТИЙ В СЕМЕЙНОМ КОНТЕКСТЕ
26 января – Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «Об организации комиссии по написанию учебников по истории» (председатель – А. Жданов, члены: К. Радек, Н. Лукин, А. Бубнов, Н. Бухарин и др.).
Январь – Начат обмен партийных билетов, положивший начало чистки в ВКП (б).
4 марта – Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об организации конкурса на лучший учебник для начальных школ по элементарному курсу истории СССР с краткими сведениями по всеобщей истории».
24 марта – Арестован Юрий Михайлович Бочаров.
12 июня – На «всенародное обсуждение» вынесен проект новой Конституции СССР.
18 июня – Смерть Максима Горького.
23 июня – Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О работе высших учебных заведений и руководстве высшей школой».
27 июня – Постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам».
Июль – мятеж генерала Франко против правительства Народного фронта в Испании.
19 – 24 августа – Первый открытый процесс в Москве над Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым, Г.Е Евдокимовым, И.Н. Смирновым и др. (процесс 16-ти). Обвиненные в создании «террористического» троцкистско-зиновьевского центра все 16 подсудимых «признались» в том, что поддерживали связь с Троцким, были соучастниками убийства Кирова, готовили заговор против Сталина и других руководителей партии и советского правительства. Они дали показания в отношении Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова и М. Томского. Все были приговорены к смертной казни и расстреляны 25 августа 1936 г.
23 августа – Руководитель ОГИЗа, бывший председатель ВЦСПС М.П. Томский покончил жизнь самоубийством.
22 сентября – Арестован К. Радек.
25 сентября – Находившиеся в Сочи Сталин и Жданов отправили телеграмму членам Политбюро с требованием срочно снять с поста наркома НКВД Г. Ягоду и назначить на эту должность Н.И. Ежова.
27 сентября – Обнародовано постановление о назначении Н.И. Ежова наркомом внутренних дел, а Г. Ягоды наркомом связи.
В ночь со 2 на 3 октября – Расстрел Ю.М. Бочарова.
29 октября – Постановление Особого Совещания НКВД о высылке из Москвы в Красноярский край Э.С. Виленской и В.А. Саврасовой сроком на пять лет.
2 ноября – Вызов Э.С. Виленской в НКВД, где ей зачитывается решение ОСО о пятилетней высылке в Красноярский край.
5 ноября – Отъезд в ссылку Э.С. Виленской.
25 ноября – 5 декабря – VII Чрезвычайный съезд Советов, который 5 декабря принял новую Конституцию СССР, получившую название «Сталинской».
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ НКВД СССР.[140]
Особое совещание при НКВД СССР, как внесудебный орган, от имени которого выносились заочные приговоры, изобрели не коммунисты. Они переняли ценный опыт царской карательной системы, но развили его до немыслимых при царе масштабов.
Впервые Особое совещание было учреждено в России при МВД в 1881 г. императором Александром III по представлению министра внутренних дел графа Игнатьева и согласно ст. 34 Положения о государственной охране имело право ссылки до 5 лет в отдаленные места империи.
По решениям Особого совещания МВД России на Европейский Север и в Восточную Сибирь, Нарым, Туруханский край ссылались такие видные деятели РСДРП, как В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Ф.Э. Дзержинский, а также эсэры, анархисты и другие представители экстремистских политических партий и организаций.
После февральской революции 1917 г. Особое совещание, как и многие другие государственные органы, перестало существовать. Вспомнили о нем через пять лет, в 1922 г.
8 июня 1922 г. Политбюро ЦК РКП (б) приняло решение о разработке проекта постановления ВЦИК об административной высылке.
10 августа 1922 г. Президиум ВЦИК утвердил положение об образовании Особой комиссии при НКВД, которая имела те же права, что и Особое совещание при МВД России 1881 г.
Для того, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций, новому внесудебному органу было дано название Особой комиссии, поскольку старое наименование в то время помнилось еще многими.
После принятия этого положения стали приниматься решительные меры по высылке граждан, критически относящихся к Советской власти и решительно не желавших строить коммунистическое общество. Были подготовлены особые списки, которые утверждались Политбюро РКП (б). Активное участие в их составлении принимал В.И. Ленин. В результате чего и состоялось широко известная высылка русской интеллигенции за границу в 1922 г.
28 марта 1924 г. Президиум ЦИК СССР утвердил новое положение о правах ОГПУ. В административном порядке теперь можно было не только высылать в отдаленные районы СССР, но и заключать в концлагерь лиц, признаваемых ОГПУ социально опасными.
Для вынесения этих постановлений создавалось Особое совещание, которое формировалось из 3 членов Коллегии ОГПУ, по назначению председателя ОГПУ с обязательным участием прокурорского надзора. Аналогичные Особые совещания создавались в союзных республиках. Таким образом, через два года вновь вернулись к прежнему названию, которое и просуществовало почти тридцать лет.
При реорганизации НКВД в 1934 г. было изменено и Положение об Особом совещании при НКВД.
По постановлению Политбюро ЦК ВКП (б) от 20 марта 1934 г. над проектом Положения об Особом совещании работала комиссия в составе: Кагановича Л.М., Ягоды Г.Г., Берия Л.П., Леплевского И.М., Вышинского А.Я., Прокофьева Г.Е., Агранова Я.С., Балицкого В.А., Реденса С.Ф., Бельского Л.Н., Крыленко Н.В. и др.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 5 декабря 1934 г. Особому совещанию при НКВД СССР было сохранено право ограниченной внесудебной расправы. Оно могло ссылать или высылать под гласный надзор «общественно опасных» лиц на срок до 5 лет в местности, устанавливаемые особым списком, или заключать их в лагерь на срок до 5 лет.
С 1936 года становится известно, что Особое совещание получило полномочия приговаривать к заключению в лагери на срок до 25 лет и даже к смертной казни.
Дела, следствие по которым велось в органах НКВД, распределялись между Особым Совещанием, специальными коллегиями и военными трибуналами по следующему принципу: если в материалах дела имелись формальные основания для предания суду, то дело передавалось в специальные коллегии или военные трибуналы – по подсудности; если же этих оснований не было, но в то же время, по мнению органов НКВД, арестованные, все же, подлежали (в предупредительных целях) осуждению, то «разбирательством» их занималось Особое Совещание.
К 1936 году Особое совещание было переполнено такими делами, и само уже физически не могло с ними справиться.
Тогда во всех областных городах Советского Союза были созданы отделы Особого совещания, т. е. снова были восстановлены те же органы, какие были до реорганизации ОГПУ в НКВД, но тогда называвшиеся особыми тройками ОГПУ при управлениях ОГПУ в военных округах.
Разница заключалась в следующем: тройки ОГПУ были только при военных округах, а теперь же отделения Особого совещания были созданы во всех областях, следовательно, их стало еще намного больше.
Кроме того, при областных управлениях милиции были созданы так называемые «милицейские тройки», которые выносили решения о лишении свободы на срок до 5 лет, но только «социально-опасный», а не «контрреволюционный» элемент. Эти тройки и были созданы, главным образом, потому, что Особое совещание и его областные отделения были переполнены делами лиц, привлеченных к ответственности за контрреволюцию.
Под категорию «социально-опасный элемент», кроме криминального элемента, входили все лица, в какой-либо мере нарушавшие правила только что введенной паспортной системы. Это относилось к правилам прописки вообще и, особенно, к режимным зонам столиц, областных городов и крупных индустриальных центров. Количество осужденных этими «милицейскими тройками» в пределах всего СССР, по всей видимости, достигало одного-двух миллионов человек.
Максимального развития деятельность Особого совещания достигла в период «ежовщины» (1936г.–1938г.). Какое количество людей было отправлено в концентрационные лагери в этот период, неизвестно, но совершенно достоверно можно сказать, что оно равно не одному, а нескольким миллионам человек. В лагерях арестованные во время «ежовщины», назывались «ежовским набором», в отличие от предыдущего «набора», который назывался «кировским», т. е. состоял из арестованных после убийства Кирова на протяжении 1935 года. Киров был убит 1 декабря 1934 года.
Усиленная деятельность Особого совещания продолжалась до конца 1938 года, т. е. до снятия Ежова с поста народного комиссара внутренних дел. После этого активность Особого совещания немного уменьшилась, но не надолго.
8 апреля 1937 г. Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило новое Положение об Особом совещании при НКВД в следующей редакции: «Предоставить НКВД право в отношении лиц, признанных общественно опасными, ссылать на срок до 5 лет под гласный надзор в местности, список которых устанавливается НКВД, высылать на срок до 5 лет под гласный надзор с запрещением проживания в столицах, крупных городах и промышленных центрах СССР, заключать в ИТЛ и в изоляционные помещения при лагерях на срок до 5 лет...». Согласно этому постановлению, как и раньше, полномочия Особого совещания возрастали. Здесь впервые делалось терминологическое различие между ссылкой и высылкой.
С конца 1938 г. Особое совещание при НКВД СССР должно было руководствоваться Постановлением СНК и ВКП (б) от 17 ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Оно принимало к своему рассмотрению дела лишь о тех преступлениях, доказательства по которым не могли быть оглашены в судебных заседаниях по оперативным соображениям.
5 февраля 1939 г. Л.П. Берия и А.Я. Вышинский доложили И.В. Сталину о том, что «Особым совещанием ОГПУ–НКВД и тройками на местах за время с 1927 г. осуждено к различным мерам наказания (к заключению в лагеря, ссылке, высылке) – 2 100 000 чел.».
В ноябре 1941 г. в связи с военной обстановкой Постановление ГКО от 17 ноября 1941 г. наделило Особое совещание НКВД СССР правом выносить соответствующие меры наказания вплоть до расстрела по делам, возникающим в органах НКВД о контрреволюционных и особо опасных преступлениях против порядка управления. Эти решения были окончательными и в кассационном порядке не пересматривались.
После окончания Великой Отечественной войны права Особого совещания оставались такими же, как и в военной обстановке.
После смерти Сталина Президиум ЦК КПСС 12 августа 1953 г. утвердил постановление о ликвидации Особого совещания при Министре внутренних дел СССР, а 1 сентября 1953 г. был издан, но в печати не опубликован, Указ Президиума ВС СССР «Об упразднении Особого совещания при Министре внутренних дел СССР». Так тихо, без лишнего шума, канул в Лету политический долгожитель карательной системы Российской империи и СССР.
Итак, впервые за всю историю существования советской власти, правоохранительные органы были лишены всех внесудебных полномочий. Была прекращена практика, когда органы государственной безопасности на вполне «законных» основаниях могли самостоятельно возбуждать дела, вести следствие, выносить приговоры и исполнять их.
Общее количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 1918–1953 гг. по официальным данным равно 4 308 487 чел. Из них около 2 500 000 чел. были осуждены внесудебными органами, в том числе и Особым совещанием. На самом деле численность людей подвергшихся репрессиям было намного больше.
Из всего этого следует, что методы борьбы советской власти со своим народом оставались такими же, какими они были в начальный период ее существования. Менялись только названия органов, проводящих репрессии: ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД, МГБ, КГБ. В их действиях нет и тени права. Они уничтожали миллионы людей, не щадя ни женщин, ни детей, как заподозренных в виновности, так и в предупредительных целях, тех, которые, по мнению большевистских руководителей, не только опасны и враждебны в настоящий момент, но могут стать опасными или враждебными в будущем.
Таков путь эволюции советского судебного законодательства и внесудебных репрессий с 1917 по 1954 год.
После ареста Юрия Михайловича для мамы наступила пора тяжких испытаний, которая растянулась на долгие годы, фактически на всю жизнь.
До этого ее жизнь складывалась, в общем-то, удачно, если не считать долголетние проблемы получения высшего образования. Была семья, любящий муж, заботливые родственники, интересная учеба, надежда на аспирантуру и самостоятельную научную работу. Все это рухнуло в ночь с 24 на 25 марта 1936 г.
Потянулись гнетущие, нескончаемые дни, переходящие в недели и месяцы. Время отчаянной веры, что все уладится, что чудовищная ошибка будет обязательно исправлена родным советским государством, и жизнь вновь вернется в нормальное русло. Шесть месяцев надежд и разочарований... Более 190 дней.
Каждый раз, возвращаясь домой, мама надеялась, что встретит ее родной человек, Ю.М. уже дома, и весь нескончаемый кошмар позади. Но с каждым днем ожидания угасали. Мама обивала пороги Лубянки, выясняя судьбу мужа, встречалась со следователем, носила передачи. Она научилась по каким-то намекам, едва уловимым признакам (которые люди того времени быстро осваивали) определять местонахождение подследственного, о том, что можно и чего нельзя ему передавать. Разумеется, ей никто не сообщал, в чем состоит «вина» Юрия Михайловича. То была государственная «тайна», и маме оставалось лишь строить те или иные предположения об его участи
Так миновали весна и лето. В августе прошел процесс над Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым и др. Народ верил стенографическим отчетам, которые публиковали центральные газеты. Обвиняемые признавались в ужасающих преступлениях. В стране раскручивалась настоящая истерия, умело направляемая партийной пропагандой.
Наступила осень. В сентябре возобновились занятия в ИФЛИ. 27 сентября в печати появилось постановление о назначении Н.И. Ежова наркомом внутренних дел. Напряжение нарастало, но была и отчаянная надежда, что с приходом нового наркома, дело Юрия Михайловича будет пересмотрено.
Развязка наступила 2 ноября 1936 года.
В двадцатых числах сентября 1936 года, через месяц с небольшим после «открытого» (для кого?) суда над Зиновьевым, Каменевым и другими, Ягода был снят с руководства Наркоматом внутренних дел и его сменил Н.И. Ежов. Он, видимо, оказался сподручней, а главное, знаменовал пока еще неизвестно какой поворот в репрессивной политике. Сам ли он изобрел ее новые методы или оказался наиболее чутким проводником и исполнителем «великих замыслов» Самого – в этом когда-нибудь разберутся. Во всяком случае, он свое дело сделал и Самому, безусловно, угодил.
Однако, менее чем через два года, с ним пришлось навеки расстаться, заменив его, хотя и более кровожадным Берия, но на время спрятавшим свои когти. Казалось, что в этой области объявлен новый курс – смягчение режима, пересмотр некой части не афишированных липовых дел.
Одной их первых акций Ежова, имевшей, насколько я знаю, «новаторский» характер, была массовая высылка из Москвы членов семей лиц, находившихся под арестом. В том числе и тех, которым еще не был вынесен приговор, но было ясно, что раз арестовали, то и за приговором дело не станет. Так оно и было. Через месяц после того, как Ежов возглавил наркомат, в конце октября 1936 года Особое совещание вынесло целую кучу приговоров о членах семей. Акция была массовой.
Должна, однако, заметить, что пятилетний срок ссылки (высылки) оказался для меня гораздо более разнообразным, чем можно было ожидать от постановления ОСО от 29 октября 1936 года. Ссылки был всего один год. Затем год и два месяца Красноярской тюрьмы, потом снова ссылка месяца два. Арест в Москве за самовольный приезд, арест, на который, по существу, мы, (нас было двое) сами напросились. Далее Бутырка, этап в Красноярск в столыпинском вагоне. Наконец, суд, в результате которого нам дали два года и два месяца лагерей. Вот какой богатый послужной список. А если добавить, что он захватил начало войны, то становится еще веселее. Одно скажу, что молодость и вера, что все может измениться, явились важным фактором для преодоления тягостей разнообразного режима и быта[141].
Итак, теперь все по порядку.
«И КАТЯ СО МНОЙ ТРУБЕЦКАЯ...»[142]
Я больна, и есть смысл заняться делом. Назовем его «Катя со мной Трубецкая...» (Только что смотрела по телевизору «Звезду пленительного счастья» 2-ю серию, кажется 2-й раз, так и не увидев 1-й.) Итак.
Была в среду (т.е. 18-го) у Тамары Братухиной в Калининграде (Подмосковном, конечно). Она дала мне письмо, которое я ей писала (вместе с Зиной – моей Катей Трубецкой) осенью 1939-го, стало быть, 42 года назад[143]. Зины давно уже нет в живых. А жизнь идет, а прошлое забывается, и это очень жаль.
Так вот как это было.
Впервые о Зине я услышала от Тамары Розентреттер. (жена Сергея Розентреттера – одного из соавторов Юрия Михайловича по учебнику «История классовой борьбы» – Э.В.). Ее Сергей был арестован вскоре после моего Юрия Михайловича, как мы и полагали, по «одному делу» (какому делу, Господи?!). Сергей вскоре умер. У него было тяжелое заболевание крови – он держался на специальных препаратах и особом режиме. В тюрьме он прожил не более 2–3 месяцев.
Когда Тамара ходила еще за всякими справками и для передачи денег (единственное что принимали) на Кузнецкий мост 24, она в очереди познакомилась с Зиной и рассказала об этом мне. Я на нее накричала – зачем тебе эти знакомства? Можешь навредить Сергею! И вообще, брось прислушиваться к бабским разговорам в этих злачных местах.
Боже мой, я так верила в непогрешимость всех этих гепеушников. Конечно, и они могли ошибаться, но чтобы с умыслом... Нет, это также исключалось, как неверие в высокое благородство, ум, порядочность и т.д. САМОГО.
И вот наступила осень. Юрий Михайлович уже в Бутырках, значит закончено следствие. Я все еще верила, что он вот-вот вернется, что это недоразумение, возможно, чей-то поклеп. Несколько раз передала передачу – до чего же глупую, трудно себе представить: черную икру и другие всяческие деликатесы. Следующую передачу в конце октября 1936 г., почему-то без объяснения, не приняли, сказали: «в другой раз», но приняли деньги. Мама не могла знать, что Ю.М. Бочаров в ночь со 2 на 3 октября 1936 г. был уже расстрелян, поэтому передачу и не приняли – зачем энкаведешникам зековские продукты и тряпки – у них и так было все. Другое дело – деньги, их можно взять и от расстрелянного. Деньги, как известно, не пахнут. – Н.В.].
В Институте тоже нарастала тревога. Был арестован С.А. Пионтковский[144]. Совсем недавно я обращалась к нему с вопросом: сможет ли он пропустить мою рецензию для библиографического журнала, имея в виду, что я жена арестованного. Он расспросил, знаю ли я что о его судьбе. «Судьбы» еще не было. «Тогда подождем», – посоветовал он мне, и я не стала писать рецензии. А через каких-нибудь неделю – две висел приказ о нем, Пионтковском.
Приблизительно 1–2 ноября мой институтский приятель и староста группы Митя Хонькин сказал, что есть слух, будто на демонстрацию по случаю очередной годовщины Октябрьской революции не велено брать хоть в чем-то подозрительных, и чтоб я не огорчалась, если мне предложат остаться дома. Я была оскорблена и взволнована. Мир рушился.
Поздно вечером я вернулась из Института (ИФЛИ) встревоженная и расстроенная. Кто-то из моих однокашников сказал мне, что будто «подозрительных» на два праздничных дня попросят выехать из Москвы за 101-й километр. Меня трясло от мысли, что такое может случиться со мной.
Дома меня встретила наша домоправительница Наталия Михайловна и сообщила, что приходил какой-то человек, внимательно осматривал комнату. Спрашивал меня. Огорчился, что не застал меня и оставил бумажку. Это была повестка, приглашавшая на улицу Малую Лубянку (№ не помню) «в качестве свидетеля» Московским отделом НКВД…
Я ничего не могла понять. Повестка от НКВД Московской области, причем московский отдел, когда Юрий Михайлович арестован наркоматом, и его «дело» вело лицо с тремя или четырьмя ромбами из наркомата. Он меня несколько раз вызывал – Ильицкий его фамилия. Через год–полтора я видела его фамилию в «Правде» на первой странице: он был награжден орденом Ленина за «особые заслуги». В эпоху «реабилитанса» мне в Главной военной прокуратуре сказали, будто он покончил жизнь самоубийством.
Сегодня награждали, завтра уничтожали.
Из повестки можно было понять, что это не от Ильицкого, тот меня обычно вызывал телефонным звонком. Становилось страшно.
Я тут же позвонила своему первому мужу Мите Веретенникову, с которым у меня и после развода сохранялись дружеские отношения. Сын двоюродного брата семьи Ульяновых, он еще юношей-сиротой жил у А.И. Ульяновой-Елизаровой. После ее смерти получил комнату в ее квартире (бывшую столовую) и, окончив Архитектурный институт, работал на постоянной строительной выставке.
Ничего не объясняя, я просила его встретить меня у парадного его дома утром, часов в 9.
Ночь не спала. Я поняла, что все мои надежды на восстановление попранной справедливости напрасны.
С Митей мы встретились у Александровского сада. Я рассказала ему о повестке. Об аресте Бочарова он знал давно. Но, ни он, ни я ничего придумать не могли – что бы это значило? Наверно, все же предложат на праздники покинуть Москву. Митя проводил меня до назначенного места, и я пообещала ему позвонить на работу.
Это было основательно грязное помещение, почти вросшее в землю, в котором была полутемная, вся какая-то серая комната. Ни одного стула или скамьи, только в углу стоял какой-то бесприютный стол, похоже, подготовленный для помойки.
Комната была перегорожена, а в ней два окошечка и дверь. Было уже довольно много народа. Мне сказали, что в правое окошечко следовало передать свой паспорт и повестку, что я и сделала. У меня, его забрали и больше не вернули, а потом я, как и другие, молча стояла. Некоторые сидели на столе в ожидании, когда из окошка назовут их фамилии. Никто ни с кем не разговаривал. Время от времени окошко открывалось, и называлась чья-нибудь фамилия. Человек входил в дверь и через некоторое время возвращался. Те, кого приглашали войти за перегородку, после выхода обращенные на них вопрошающие взгляды будто и не замечали, и старались быстро-быстро пробираться к выходу. Ни один из побывавших за дверью так и не ответил на вопрос: что же «там»? Лица были безрадостные. «Еще бы, – думала я, – если тебя уже за человека, за гражданина не считают, если боятся, чтоб ты на великие праздники оставался в столице…».
И вот назвали мою фамилию. В теснейшей комнатенке, разделенной к тому же пополам, сидел в одной половине (ближайшей) некий чин и в отдалении– двое других.
Первый спросил, где же Саврасова, также приглашенная повесткой. Я сказала, что она не мобильна (у нее был тяжелый перелом бедра, и она по квартире-то передвигалась с трудом, просто шаркая ногами, не поднимая их). Он зачитал мне постановление Особого Совещания НКВД от 29 октября 1936 г., согласно которому я на 5 лет (нет, не дней) высылалась из Москвы в Красноярский край (нет, не за 101 км.), как социально-опасный элемент. Высылали не только меня, но и мою свекровь. Я отказалась за нее расписываться.
Все поплыло перед моими глазами, Я расписалась, что приговор мне известен, и что в трехдневный срок я должна выехать. Затем он направил меня к соседнему столику, где мне выписали «желтый билет» и литер на бесплатный проезд к месту ссылки, а также предложили бесплатно перевезти багаж (т.е. всякие столы, шкафы, кровати и проч.). От этого я отказалась. Я была убеждена, что это недоразумение, и оно скоро разрешится.
А было мне 27 лет.
Выйдя в первую комнату и изрядно шатаясь, как подвыпившая, я обратилась к какой-то женщине, сидевшей на столе, попросив у нее папиросу (она сидела и курила).
Дело в том, что я уже несколько недель как бросила курить. Но тут почувствовала, что не могу. Папироса была противная, горькая (я ведь бросала с помощью полугипноза). С какой-то безумной головной болью, никогда ранее не бывшей у меня, вышла я на улицу, купила свой прежний сорт, но он оказался не лучше.
А день был погожий, солнечный, теплый.
Я пошла к маме. Но ее уже не застала – она ушла на работу.
Здесь я прерву мамино повествование, чтобы включить в него документ – записку мамы, которая чудом сохранилась в ее архиве.
[ЗАПИСКА МАМЫ – БАБУШКЕ ВИЛЕНСКОЙ КЛАРЕ ИЛЬИНИЧНЕ]
Мамочка и Фаня![145]
Очень больно огорчать вас, но случилась большая неприятность, мягко говоря. 5-го утром я уезжаю на 5 лет в Красноярск. Это очень печально, но ничего не поделаешь. А я не пропаду нигде и, надеюсь, докажу свою невиновность и вернусь. Во всяком случае, сделаю все от меня зависящее. В конце концов, люди всюду живут, и я проживу, и может быть, даже очень хорошо. Очень прошу тебя не огорчаться. А если сможешь, возьми на пару дней отпуск. Если же не дадут, то справлюсь и с Наталией Михайловной. Целую крепко. Твоя Миля.
Это первая записка из множества писем, написанных мамой моей бабушке за те долгие семь лет, что им не суждено было увидеться. Записка написана наспех, черными чернилами, на том, что было под рукой – клочке рваной бумаги.
Можно представить состояние бабушки, которая, вернувшись с работы и прочитав эту энергично написанную записку, поняла, что злоключение коснулось ее единственной дочери, что все уже решено, и изменить ничего она не в силах. Бабушке приходилось привыкать к иносказаниям, понятным лишь посвященным, столь характерным для тех лет. «Случилась большая неприятность» – относится не к Юрию Михайловичу, о ней бабушка знала в день его ареста. Неприятность касается лично мамы. «5-го утром» – на сборы дается всего три дня, и утром 5 ноября 1936 года с перрона Ярославского вокзала отходит поезд. «Я уезжаю на 5 лет» – означает не путешествие в Красноярск, а пятилетнюю ссылку, которая окончится в лучшем случае лишь осенью 1941 года.
Уже в этой записке виден решительный и твердый характер мамы: «я не пропаду нигде», «докажу свою невиновность»; ее неисчерпаемый оптимизм, который и помог ей выжить, помог не потерять человеческого достоинства: «люди всюду живут, и я проживу, и может быть даже очень хорошо».
Фаня (Фаина Ильинична) – тетка по матери (сестра моей бабушки, урожденной Кричевской), которая жила вместе с ней.
Наталия Михайловна – домработница в доме Ю.М.Бочарова и Э.С.Виленской. После маминого отъезда, она перешла к Анне Семеновне Виленской-Зеликиной и была здесь домоправительницей до самой войны. Затем ее следы потерялись. Мамины, а также, мои попытки ее найти, успехом не увенчались.
Теперь продолжим мамино повествование.
Позвонила Ильицкому. Ведь он всего недели за две до того мне сказал: «Мы знаем, что вы ни в чем не виновны, и даже в качестве свидетеля вас не привлекаем». И прибавил, что если где что, могу сослаться на его слова.
Мне ответили на звонок, что его нет и в ближайшие дни не будет, так как он в командировке. Я спросила, что же мне делать, ведь он сказал то-то и то-то, а меня высылают. Как же это понять?
– Что ж, придется ехать, придется подчиниться. Особое совещание – наш высший орган.
– Но это же какая-то ошибка.
– Ну, если ошибка, то разберутся и исправят.
Я пришла домой, отправила Наталию Михайловну к младшей сестре Веры Алексеевны: надо было кому-то заняться ее судьбой, а соседскую работницу– в аптеку, так как голова совершенно разламывалась.
Позвонил Митя. Я сказала, что все очень плохо. Он тут же пришел. Я все рассказала.
Поздно вечером Митя позвонил мне и просил прийти к метро («Дворец Советов», ныне «Кропоткинская»). Митя, который никогда, ни за чем не обращался к теткам, тут же, оказалось, отправился в ЦКК к Марии Ильиничне. Она была на заседании, и он оставил ей записку о том, что ему необходимо срочно с ней встретиться.
Вечером Мария Ильинична заехала к нему, возвращаясь с работы: уж слишком необычным и неожиданным было обращение к ней племянника, явно, за какой-то помощью. М.И., выслушав его рассказ, сказала, что она бессильна что-либо сделать, что в лучшем случае это будет возможно года через два. В таком же положении оказались дети ее близких друзей по подполью. Более того, она просила Митю не бывать у меня, пока я в Москве, так как это может послужить поводом для того, чтобы бросить тень на нее. Вот так.
Митя ответил Марии Ильиничне, что он не может ей обещать, что не будет у меня, если в нем будет нужда. Я сказала ему, чтоб он не смел приходить, может звонить мне... из автомата.
Видно происходит что-то очень страшное, раз это так отражается на неповинных людях.
Да что говорить? Если М.И. понимала и знала обстановку, то я же верила, верила этим Ильицким и иже с ними. И чем же жить, если утратить эту веру? И вот, нашлась удобная формула: «лес рубят – щепки летят». Она сохраняла веру и оправдывала действия, которые, естественно, не мог принять разум: ведь я-то знала, что нет за мной никакой вины, а о других я ничего не знаю: кто ведает, что они за люди – то ли «щепки», то ли «лес».
Что касается мужа, я была уверена в том, что предать свои взгляды он, старый большевик, член партии с 1905 г., не мог. Но, может быть, он что-то проглядел, что делалось вблизи него. Во всяком случае, надо бить во все колокола и «там» поймут, исправят свою ошибку.
Да, позор был отнюдь не в том, что тебя отринули от общего стада верующих («Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе»). Позор был в том, что на веру принималось все, что исходило от него, прикрытое словом «партия», – партия, которая никогда не ошибается, как не способен ошибаться и сам «товарищ Сталин».
А ведь совсем недавно, в конце 20-х–начале 30-х мы, девчонки и мальчишки, еще пытались разобраться в партийных дискуссиях, выражали какие-то сомнения, принимали злой юмор Радека, его анекдотов. И, конечно, не вдруг и не из страха происходил этот поворот к позорной вере, безоглядному доверию, обожествлению, действительно стыдному, лишенному всякого здравого смысла.
Фактически он (Сталин) проводил политику Троцкого (или объявлявшейся политикой Троцкого). У того – омоложение кадров с опорой на комсомол. У этого – с опорой на серенького, который лишь своим безграничным послушанием мог выйти в люди. У Троцкого – индустриализация за счет деревни. А что такое коллективизация? Что такое фактическая замена продналога продразверсткой?
А мы верили, вслушиваясь в каждое слово. И когда он объявил, что революция рабов покончила с рабовладельческим строем, мы студенты-историки разводили руками, уверенные, что плохо знаем историю, которую он знает во всех деталях. Вот тут- то и был позор.
Пошла, было, я в Прокуратуру СССР. Там работала моя бывшая сослуживица Валя Якунина, которая, к тому же, хорошо знала Юрия Михайловича. Она оказала: «Ты сейчас ничего не добьешься, жалоб много. Мой тебе совет – поезжай, а уж оттуда пиши. Конечно, разберутся.
И вот я готовлюсь в путь. Мама у меня, Валентина Васильевна первая жена Ю.М. Бочарова на корню продает библиотеку и очень недовольна тем, что я примерно 8-ую часть оставляю себе. Отдала ей все вещи, в том числе и бесценные рисунки Маяковского (топила ими печь), все акварели и масло Саврасова, М.И. Бочарова, личные вещи Юрия Михайловича, даже костюм, который я купила на свои деньги ему в подарок и на бесчисленную сумму облигации займов – тогда их можно было сдать в сберкассу.
Тетки собирали меня в дальний северный путь. Накупили всяких вещей, напекли всякого вкусного. Мне повезло с тем, что мое демисезонное пальто какие-то хулиганистые мальчишки из открытого окна облили чернилами, и оно было в чистке, иначе я бы поехала в нем. Ведь в Москве было тепло. Пришлось одеть зимнее. А на голове была шапочка, как говорила Зина, «фик-фок на один бок». Она действительно прикрывала только одно ухо, а стрижена я была «под мальчика».
…1936 год, первые числа ноября, предпраздничные дни. У поезда дальнего направления на Ярославском вокзале толпы народа. Больше всего у плацкартных вагонов. Как-то странно видеть, что люди спешат покинуть столицу до праздника. Разве что приезжали в Москву за покупками? Да нет, не было в то время в этом нужды – не ездили. И лишь войдя в вагон, я поняла, кто же так срочно уезжал из нажитых мест в неведомые края.
Меня провожали мама и старшая сестра покойного отца.[146] Тех моих родных и друзей, кто работал или учился, я упросила на вокзале не быть. Я – вроде прокаженной, от меня лучше держаться подальше. Поезд потихоньку двигается, мама идет у окна, удерживая слезы и вымученно улыбаясь. Досталось ей, бедной, и тогда и позже, во время Великой Отечественной войны, а больше всего из-за дочки.
Я еще долго машу рукой, улыбаюсь радостно, будто отправляюсь в увеселительную поездку. Но вот платформа кончилась, а с ней и масса провожающих. В вагоне рассаживаются, раскладывают вещи, постепенно затихает суматоха посадки.
У меня чрезвычайно неудобное место – боковое в крайнем купе, у самого выхода. Другого по литеру кассирша дать не хотела: «Скажите и за это спасибо», – проворчала она, швырнув вместе с билетом желтую бумагу, заменившую мне паспорт (ну прямо желтый билет!). Притягиваю к себе коленки, которые всем мешают, а затем ухожу к тамбуру с папиросой.
Прокаженная, опозоренная, униженная. Я еду в ссылку, у меня забрали паспорт, дали бумагу (направление) почему-то желтого цвета, зачитали постановление Особого совещания НКВД о том, что я, как «социально-опасный элемент», высылаюсь в Красноярский край на 5 лет. Было это три дня назад.
У открытого окошка в тамбуре уже стояла одна интеллигентная дама лет 36–40 и взволнованно курила. Папиросы гасли, спички были переломаны. Попросила у меня огня и, видимо, не в силах сдержать свое волнение, и из потребности разделить его с кем-то, стала рассказывать, что выслали ее в Омскую область. Она была возмущена совершенно откровенно: «Им просто нужны квартиры, – говорила она, – ну, меня высылают, а дочерей моих не трогают, но выселяют». А у нее дочка больна дифтеритом и так «они» торопились занять квартиру, что на ее глазах увезли дочь в больницу. «Да, да, все это делается, чтобы освободить для себя квартиры!». И достаточно было этой глупой болтовни, однако, имевшей под собой кое-какую почву: квартиры сосланных занимали сотрудники НКВД, чтоб я подумала: вот это антисоветские разговоры. Возможно, не зря ее изгоняли из столицы.
В этом же вагоне встретилась мне совсем молоденькая женщина, лет 18-ти. Она ехала куда-то в Вологду или Пермь, сейчас уже не помню, и в ближайшие недели должна была стать матерью. Работая на швейной фабрике, она и газет-то никогда не читала.
Полгода назад она вышла замуж за военного (тогда они еще офицерами не назывались). Его посадили, а ее отправили в ссылку, и она везла с собой и кровать, и стол и шкаф…
В этом вагоне я провела всего одну ночь. Проводник соседнего купированного вагона, где были свободные места, поменял с доплатой в 5 рублей за купейность мой билет на свой вагон (кстати, не взял чаевых).
И утром я уже переселилась.
Наконец,. я в мягком. В моем купе двое мужчин. Один вскоре вышел, ехал недалеко. Другой, восторженный молодой железнодорожник, выдвиженец, начальник станции «Зима», такой симпатяга парень, возвращался со съезда железнодорожников, счастливый тем, что видел Сталина.
Вскоре появился и третий, до самого Красноярска, с которым я вскоре познакомилась при весьма странных обстоятельствах.
А было дело так. Я опять же курила в коридоре у окна, почему-то с портфелем в руке.
Рядом тем же были заняты и другие, в том числе молодой человек, незадолго до этого оказавшийся в нашем купе. Вдруг он, что называется в воздух, сказал: «С каким бы удовольствием я сейчас перечитал бы «Слово о полку Игореве». Так и не знаю, то ли хотел соригинальничать, то ли, в самом деле, ему вдруг что-нибудь вспомнилось из «Слова».
Но что самое забавное, это то, что у меня в портфеле лежало «Слово. Я открыла портфель, и, достав оттуда маленькую желтую книжечку в дореволюционном издании «Антика», протянула ему. Попала она в портфель случайно вот как. Когда первая жена Бочарова Валентина Васильевна продала за бесценок его великолепную библиотеку какому-то букинисту, тот обращался с книгами как с дровами. Их выносили пачками, какие-то книги. падали, вылетали отдельные листки. Все это было ужасно. Если бы это было на глазах Юрия Михайловича, у него был бы разрыв сердца. И вот, уже после того, как грузовик увез книги, я на лестнице нашла эту маленькую книжечку в 1/16 и сунула ее в портфель[147].
Константин Николаевич (назовем его так) был ленинградцем, молодым инженером, уже не впервые ехавший в командировку в Красноярск. Образованный, начитанный и остроумный, он был прекрасным собеседником, нашедшим общий язык с молодым железнодорожником. Он переселился в наше купе – и так втроем мы и ехали всю дорогу. Я сказала, что еду в Красноярск по распределению.
7 ноября в вагоне–ресторане был праздничный ужин, на который мои спутники приглашали меня. Но я предложила другой вариант. У меня была целая корзина всякой изысканной снеди, которой мои родные пытались хоть как-то скрасить мою беду. Там были и икра, и всякие домашние изготовления. Мои спутники принесли вино, бокалы, и праздничный стол с красивыми салфетками и всякой вкуснотой создавал иллюзию домашней обстановки, а для меня и некой свободы.
Огорчительным только было то, что К.Н. пил, и почти каждый вечер, когда я ложилась спать, отправлялся к проводнику и там заряжался иной раз так, что утром и встать не мог. Он ссылался на то, что от него ушла любимая жена, что он однолюб, в нее влюбившийся еще в школьные годы, что до того он не пил, а теперь свое заливает горе.
На станции «Зима» мы устроили проводы железнодорожнику, опять же выпили втроем и расстались. На следующий день утром нам предстояло прибыть в Красноярск. Мой оставшийся спутник, не удовольствовавшись выпивкой на проводах, опять отправился к проводнику и завалился в достаточном опьянении. Его необходимо было растрясти: по опыту было известно, что он способен в таком состоянии проспать до следующего обеда. Этим я и занялась. Он жаловался на свою несчастную жизнь: от него ушла любимая жена…
И тут я не выдержала, впрочем, все равно нужно было признаваться, и рассказала, что у меня НКВД увел любимого мужа, а я не пью и вообще делаю хорошее лицо при плохой игре.
Он очень сочувственно отнесся ко мне, убеждал, что через год, а то и ранее, я вернусь в Москву (так было с какой-то его знакомой несколько лет назад). Предложил мне помощь в случае нужды в жилье, ну и конечно, нес мой чемодан и помог его сдать в камеру хранения.
В Красноярск, где уже стояли сибирские морозы да еще с ветерком, я прибыла в весьма легкомысленном виде. Где-то в чемодане были фетровые боты, а пока что на ногах осенние полуботинки. А на голове?! Трудно было бы придумать более неподходящее прикрытие для моих бедных ушей. Платков я никогда не носила, но какие-то зимние шапочки все же были... в чемодане, в камере хранения, а на голове (при почти мужской стрижке с открытыми ушами) маленькая элегантная шапочка, способная прикрыть (и то не до конца) всего одно ухо. С другим мороз мог расправляться как ему угодно.
Прежде всего я отправилась в НКВД. Но было воскресенье, и мне предложили явиться завтра. «А где же мне быть до завтра?». «А это уже ваше дело. Попробуйте в Доме колхозника. В гостиницу не попадете.» – шла какая-то краевая конференция. В «Доме колхозника» тоже не было мест. К.Н. оставил мне адрес своей красноярской хозяйки, но я решила попытать счастья в другом месте.
В Красноярске жила сестра большого друга моих родителей Ильи Романовича Меклера[148]. Он дал к ней письмо, но предупредил, что сын ее – член партии и, возможно, ему будет неудобно мое проживание. Я должна была, прежде всего, поставить в известность Татьяну Романовну – главу большой семьи.
Найдя дом, типично сибирский – бревенчатый с множеством комнат и чуланов, представившись Татьяне Романовне и отдав ей письмо брата, я рассказала и свою печальную историю.
«Ну и что?» – оказала она, – у нас и останешься. Анатолий сейчас в командировке, на днях вернется, ему и расскажешь, а больше никому говорить не надо. Приехала по распределению. Да что это у тебя на голове и на ногах? Сейчас же сними». Она позвала дочь, велела дать ушанку и валенки, и в таком виде я отправилась на телеграф известить маму и в какое-то кафе, где должна была встретиться с К.Н. и сообщить, что крыша над головой есть.
Вечером я познакомилась со всей семьей. Меня приютили с чисто сибирским размахом.
В НКВД зарегистрировали мое прибытие и велели прийти дня через два к товарищу такому-то. А пока я осматривала Красноярск и, по возможности, утеплялась. Забрав чемоданы, обула фетровые боты, не очень-то все же спасавшие от мороза. Были на мне шикарные с большими крагами варежки, – оказалось, что и в них рукам холодно. Купила маленькие варежки и втиснула их в свои.
Надо сказать, что внешний вид населения периферии в те годы резко отличался от столичного. Зимнее пальто у меня было вполне скромным: синий шевиот и небольшой котиковый воротник. Было оно, однако, очень теплым, на гагачьем пуху и хорошо сшитым. А тут еще варежки с крагами и фетровые боты. Все встречные оборачивались и разглядывали так, что я чувствовала себя неловко. Встретилась мне одна женщина тоже с какими-то признаками столицы. Мы даже посмотрели друг на друга.
И вот, в назначенный день и ровно в назначенное время, я была в бюро пропусков НКВД. В помещении стоит несколько человек, в том числе и упомянутая женщина. Чего-то, должно быть, ждут. Я подхожу прямо к окошечку и вынимаю из своего роскошного портфеля (сумочек я не носила, а портфель был торгсиновский, подаренный кем-то из родных) свой «желтый билет». Все та же женщина, не дожидаясь, пока мне выписывают пропуск, увидев, чту именно я протянула вместо паспорта, с раздражением обратилась в окошечко:
– «А когда же вы мне выпишите пропуск?».
– «А Вы пришли на 3 минуты раньше, чем Вам велено. Вот выпишу этой, а потом и вам». (Боже мой, как запоминаются всякие мелочи, и какими значительными кажутся они теперь).
Я поднялась на 2 этаж, постучалась в комнату. В ней сидело несколько сотрудников. Один из них махнул мне пальцем. И только стал знакомиться с моим направлением, как в дверь постучала та самая женщина. «Подождите в коридоре, я вас вызову». Поговорив со мной, в общем-то, ни о чем, он сказал:
–Поедете в райцентр Балахту.
– А в Красноярске нельзя остаться? У меня же специальность нужная здесь– и в институте, и в техникуме.
– О специальности забудьте. К такому-то числу обязаны прибыть к месту ссылки.
Узнав у него, что ехать туда поездом, я спросила, где мне получить литер на бесплатный проезд, и предъявила корешок от выданного в Москве до Красноярска билета. Убедившись, он направил меня в соответствующий отдел и попросил передать женщине, ожидавшей прима, чтобы она вошла. «Ладно, – подумала я про себя, – я скажу ей, что хочу с ней встретиться».
Задержавшись затем на другом этаже с выпиской литера, я стала спускаться к выходу. В этот момент с улицы влетела незнакомка и возмущенным голосом спросила, почему я ее не подождала, она уже четверть часа мерзнет на улице. Я объяснила, почему задержалась, и мы вместе вышли из нашей alma mater.
– Из Москвы? – спросила я.
– Да, именно.
– За мужа? Ответ опять же был положительный.
– А кто по специальности был муж, где работал?
Не очень-то охотно она ответила: «Историк, аспирант Пединститута им. Бубнова» (так тогда назывался Пединститут им. В.И. Ленина). Тут-то я почти всех по фамилии знала: Юрий Михайлович был там профессором по кафедре истории. Уже взволнованно я спросила, как же его фамилия, и так же неохотно она ответила: «Романчук».
Романчука я знала по рассказам Бочарова, и один раз он был у нас дома. Муж очень высоко о нем отзывался. Ему он собирался передать семинар и лекционный курс, в связи с предстоявшей ему двухмесячной командировкой в Махачкалу. Еще до ареста мужа, я знала от него об аресте Романчука.
– Ну, товарищ Романчук, – обратилась я тут же к незнакомке, – будем знакомиться: я – жена Бочарова.
– А я не Романчук, оставила отцову фамилию – Шепелева.
Далее выяснилось, что Зинаида Сергеевна Шепелева только что (уже после ареста Романчука) защитила кандидатскую диссертацию. Она филолог, литературовед. Заходила в Красноярский пединститут, где за нее ухватились, но вот теперь получила направление в райцентр – Даурское.
Мы решили немедленно перейти на «ты» и сделать вид, что знали друг друга еще в Москве, чтоб наше знакомство не расценили как некую антисоветскую связь обиженных судьбою женщин. Я зазвала ее к себе. Мы решили, что надо просить о перемене места ссылки одной из нас, чтобы попасть в один и тот же райцентр и для этого выяснить, что лучше: Балахта или Даурское.
По дороге мы встретили Константина Николаевича, рассказали о нашем визите в НКВД и состоявшемся знакомстве. «Вот и великолепно, – заключил он, – чего же вам еще?». И процитировал Некрасова: «И Катя со мной Трубецкая».
Мои знакомые рекомендовали Балахту. Зина попросила замену Даурского и довольно легко получила согласие. Кроме того, мы обе попросили небольшую оторочку, так как предстоял доклад Сталина о новой конституции[149] и мы опасались, что можем оказаться где-нибудь на полпути и не услышим «голос вождя». Нам дали отсрочку.
И вот день отъезда. Нас обеспечили всем необходимым для зимнего пути. Мы взяли билеты в мягкий вагон. Ехать поездом предстояло до станции Ужур, а оттуда 120 км. машиной, лошадьми, а то и пешком. У моих знакомых устроили нам проводы. Так накормили, а главное, напоили, что мы едва на ногах держались. Проводили нас, усадили в поезд, а мы буквально погибали от жажды после всяких солений и водки. Зазывали буфетчика, разносившего воду, но женские голоса его мало увлекали, и он проходил мимо.
Спас нас пассажир из нашего же купе. Это был крупный чин, ехавший в сопровождении молодого человека – вроде как адъютанта. Он распорядился достать несколько бутылок воды и нас напоили всласть.
Состоялось, конечно, и знакомство. Это был председатель Военного трибунала Восточно-Сибирского округа, ехавший куда-то на юг края для разбора какого-то дела.
Мы представились двумя «сеятелями разумного, доброго, вечного», едущими в глубинку из столицы, чем повергли его в восторг. Он дал свой прокурорский телефон, сказав, что готов оказать нам всяческую помощь, буде нас кто обидит.
Пошептавшись, мы решили рассказать ему правду-истину и у него узнать, что же означает высылка ни в чем не обвинявшихся людей только за то, что они жены. Он был несколько обескуражен. Для него это было новостью. Тем не менее, он просил сохранить телефон, лишь вычеркнув его фамилию, и обращаться к нему за советом или помощью. Относительно высылки из Москвы высказал предположение, что это для того, чтобы обиженные жены «не воняли».
В Ужуре он и его адъютант вынесли наши чемоданы, проводили до вокзала и были весьма любезны.
В Ужуре я осталась сторожить вещи. Зина же пошла выяснять способы переезда в Балахту. Результаты были весьма неутешительные. Никакие машины в связи с наступлением зимы туда не ходят. Продукты и прочее доставляются конной тягой.
На конном дворе сказали, что могут взять нас. Это значило, что вещи наши поедут на санях, а мы, как и все сопровождающие грузы, пойдем пешком за санями. Ходу примерно четверо суток. Таким образом, мы опаздывали к строго назначенному сроку.
– Знаешь что, Зина, – заметила я, – надо идти в РО НКВД, сказать о неизбежном опоздании не по нашей вине, и что мы прямо сейчас отправим в Москву телеграмму о невозможности добраться до места ссылки.
Это заявление возымело свое действие. Решили отправить нас на лошадях НКВД. Выяснилось, однако, что есть только одна лошадь, другая (или другие) в разгоне. Тогда решили вторую брать от сельсоветов, ехать на перекладных.
И вот готовы двое саней, каждые с одной лошадью, оборудованные для двух пассажиров. На одних санях Зина с милиционером и своими вещами, на других таким же манером я. Все оборудовано по высшему образцу: тулупы, меховой полог. Погода дивная: солнце и безветренно. Это была очаровательная поездка.
Где-то на опушке леса встретили лису, такую рыжую-рыжую на изумительно белом снегу. Мой конвоир выскочил из саней и стрельнул в лису из револьвера. Лиса посмотрела в нашу сторону, казалось с насмешкой: мол, что ты не знаешь что ли, что на таком расстоянии револьвером меня не достать. Милиционер огорчился, что не было с ним винтовки.
Ночевали мы в сельсоветах, там же нас кормили, не помню уже за свой или за казенный счет.
Поздним вечером прибыли мы в Балахту. У Зины был адрес некой женщины («Чулюканихи»), который ей дали люди, приютившие ее в Красноярске (железнодорожные попутчики). Это было наше первое, однако, недолговременное пристанище. Так начался новый, и как оказалось, не худший отрезок нашей жизни.
[БАЛАХТА]
В Балахте мама и тетя Зина находились почтит целый год, до ноября 1937 г. Мама неплохо печатала на пишущей машинке, хотя и не десятью пальцами. Этот навык она приобрела еще в Харбине, занимаясь музыкой. С переездом в Читу о музыке пришлось забыть, но пальцы уже были хорошо разработаны и поставлены. Мама и начинала свою трудовую деятельность в Чите, еще в 1924 году в качестве машинистки в клубе Совработников.
В Балахте мама работала сначала машинисткой-счетоводом в Госбанке, затем секретарем-машинисткой в МТС, а с ноября 1937 г. – секретарем-машинисткой Уполкомзага СНК Балахтинского района
Однако, вскоре «вольная» жизнь в ссылке закончилась.
25 ноября 1937 года мама была арестована Балахтинским РО УНКВД. Ей было предъявлено обвинение в том, что «отбывая ссылку в селе Балахта, среди местного населения вела контрреволюционную агитацию, направленную в защиту врагов народа, клеветала на советскую власть о том, что неправильно осужден ее муж и она сама». – (Стилистика документа сохранена полностью. Н.В.). Тогда же или вскоре была арестована тетя Зина, и обе они были отправлены в Красноярскую тюрьму, в которой мама провела 16 месяцев.
В день маминого ареста, бабушка, ничего еще не подозревая, отправила дочери открытку. Когда и как ее мама получила – неизвестно.
БАБУШКА – МАМЕ[150]
Моя Милюся! Прости за открыточку. Нет времени написать письмо. Пишу, чтобы ты, моя дорогая, не беспокоилась. Бабушка[151] поправилась. Уже ходит. У меня все по-старому. Насчет комнаты все так же. Я теперь очень много работаю. За время бюллетеня там запустили работу. Дня через два напишу письмо. Вчера была на митинге по выборам, ходила на Калужскую площадь. Целую тебя крепко. Твоя мама. Привет от Фани и Мары. Кати по 5–6 дней не вижу.
Узнав об аресте дочери, бабушка мечется по всем инстанциям, засыпая письмами и телеграммами «компетентные органы».
[ТЕЛЕГРАММА][152]
14 марта 1938г . № 689
Гражданке Виленской Кларе Ильиничне.
Москва 9, До востребования.
В ответ на Ваше заявление от 12 марта сего года, сообщаем, что перевод телеграфный за № 5591 на 20 рублей от 30 января сего года. Красноярск. Дом заключения НКВД Виленской, находится наличии неявкой адресата за получением.
Подписи.
[ТЕЛЕГРАММА][153]
ВИЛЕНСКАЯ КЛАРА ИЛЬИНИЧНА – НАЧАЛЬНИКУ КРАСНОЯРСКОЙ ТЮРЬМЫ
14 ДЕКАБРЯ 1938г
Ответ оплочен.
КРАСНОЯРСК
Начальнику тюрьмы.
Убедительно прошу сообщить здоровье моей дочери Эмилии Самуиловны Виленской. Москва Большая Коммунистическая 34, кв.4.
Москва Большая Коммунистическая 34, кв.4.Виленской Кларе Ильиничне.
КРАЕВОМУ ПРОКУРОРУ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА[154]
Разыскивая свою дочь Эмилию Самуиловну Виленскую 29 лет, обратилась в НКВД. Товарищ Сосновский из НКВД рекомендовал мне написать Вам.
Моя дочь 27 ноября 1937 года была арестована в селе Балахта и направлена в Красноярскую тюрьму, куда она попала 19-20 декабря 1937 г. С тех пор я не имею от нее никаких сведений. Не знаю, жива ли она и где она. Умоляю Вас как мать, написать, что с моей единственной дочерью делается, где она и жива ли она.
Виленская К.И.
Москва Большая Коммунистическая 34, квартира 4. Виленской Кларе Ильиничне.
ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР товарищу ЕФРЕМОВУ[155].
[Черновик]
Виленской Кларе Ильиничне.
Большая Коммунистическая 34, кв. 4.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Моя дочь Виленская Эмилия Самуиловна 29 лет, проживавшая по Гагаринскому переулку в доме 23 квартира 35, была административно выслана на 5 лет в Красноярск 5 ноября1936 г. после ареста ее мужа Бочарова Ю.М. профессора истории, арестованного в марте 1936 г.
Из Красноярска она была направлена в село Балахта Красноярского края, где она работала в качестве секретаря-машинистки в разных учреждениях
27 ноября 1937 года дочь моя была арестована и отправлена в Красноярскую тюрьму. С тех пор я не знаю, где она находится, жива ли она. На неоднократные запросы к начальнику тюрьмы города Красноярская ответа не имела. 4 декабря сего года я послала телеграмму с оплоченным ответом начальнику Красноярской тюрьмы, но так же ответа нет. Писала также Прокурору Красноярского края, и также ответа нет.
Деньги я начала переводить на адрес Красноярской тюрьмы с января 1938 г., но так как деньги обратно не возвращаются, я как мать, имеющая только одну дочь, хочу думать, что она еще жива.
Дочь моя до ее высылки училась на историческом факультете Историко-филосовского института и заканчивала 5-й курс. За отличную учебу и общественную работу была неоднократно премирована.
Убедительно прошу пересмотреть дело подробно. Обстоятельства ее дела указаны в прилагаемой копии заявления, которая моя дочь послала из Балахты 21 апреля 1937 г. в Народный Комиссариат Внутренних Дел.
Убедительно прошу пересмотреть дело моей дочери Эмилии Самуиловны Виленской, сообщить мне, жива ли она и принять соответствующие меры к ее освобождению из под стражи.
[подпись]
Подала 30 декабря[1938 г.
Все-таки в страшное время жили наши близкие, не замечая всех ужасов происходящего на их глазах. Дочь ни за что ни про что отбывает ссылку, а затем без каких-либо оснований арестовывают. Зятю дали десять лет без права переписки (тогда еще не знали, что это формула расстрела). Дома – больная старуха-мать, сама бабушка также здоровьем не блещет. И ее пожилую женщину (в 1937 г. ей было 56 лет) гонят, а может быть, она и сама идет на какой-то митинг, посвященный первым выборам в Верховный Совет по новой, самой демократической сталинской Конституции.
[ТЮРЬМА]
Мама, впервые попала в тюрьму, о которой до того имела лишь историко-литературные представления.
После прохождения всех тюремных формальностей: унизительного личного досмотра, снятия отпечатков пальцев, фотографирования в фас и профиль и т.п. (подробности см.: А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» и Е. Гинзбург «Крутой маршрут»), – ее провели длинными гулкими коридорами по лестнице и впихнули в какое-то полутемное помещение, оказавшееся тюремной камерой. Звякнули ключи, висевшие на поясе у надзирательницы, которая и заперла тяжелую железную дверь с «форточкой» и глазком.
Мама очутилась в камере, в углу, возле «параши». Она была расстроена и растеряна. Она вновь посчитала, что вышла какая-то ошибка, что она ни в чем не виновата, и что это очевидное недоразумение вскоре прояснится. (Правда, почему-то этих ошибок на одного человека, и людей его окружавших, сыпалось слишком много, но эти аргументы отчего-то не приходили маме в голову). Ее спасала вера в торжество грядущей справедливости. До чего же наивными казались маме гораздо позже все эти умозаключения. Но это потом, а пока она не знала, что же нужно делать, как себя вести, куда идти, где притулиться.
По первому взгляду, свободных мест не было – все нары были забиты полуголыми женщинами (в камере было душно), которые с любопытством рассматривали новую зечку, пока из какого-то угла не раздался басовитый голос: «Новенькая, идите-ка сюда» – это был зычный голос Тамары Петровны Братухиной, с которой мама провела на одних нарах почти все время своей тюремной жизни.
Тюрьма была старая, построенная в 1863 году еще при проклятом царизме. Главный корпус и здание перед входом были выложены из красного кирпича, остальные постройки – деревянные.
Камеры были большие и просторные, рассчитанные дореволюционными строителями пенитенциарных учреждений на 20 человек. Но в 1937 году стране, полностью, но еще не окончательно, победившего социализма, посадочных мест катастрофически не хватало, и в этой камере (кажется № 8) содержалось до 80-ти и более сидельцев. Для этого были сооружены двух или трехэтажные нары, из грубо сколоченных и неотесанных досок, на которые клались соломенные тюфяки. Подушек вовсе не было: их заменял «сидр» – вещевой мешок заключенной. На каждых нарах располагалось по несколько человек впритык друг к другу, так, что ночью, для того, чтобы перевернуться одной, приходилось переворачиваться всему ряду.
Понятно, что в таких условиях заключенных донимали клопы, вши и другие насекомые, которым никакие дезинфекции и прожарки были нипочем. По этому поводу мамой и Тамарой Петровной даже был сочинен стишок:
Ночь как ночь.
Таких ночей мильоны были, будут,
Но та не скроется в кругу ночей.
Ее потомки не забудут.
В эту ночь клопу не дремалось,
Не снилась ему любовь.
Позабыв добродетель и жалость,
Пил он свежую тёплую кровь.
Когда его круглое тело
Превратилось в блестящий шар,
Клоп пополз известковым мелом
Алкогольный глуша пожар.
Но, «отмщение аз воздам!»
Так было, так будет. Гады!
И жена у клопа. Клоп: Мадам!
Чуть вдовой не остались иль вроде
Собралась над клопом гроза,
У самой желанной цели.
Открыла жертва глаза –
Увидала врага у щели.
Подкосились клопиные ноги:
Затаив в груди злобы избыток.
Жертва с ловкостью юной миноги
Искала орудие пыток.
Клоп, хоть был и старая рухлядь,
Спал в объятьях нежной жены,
Когда две лучины и туфля
Загремели вблизи у стены.
В эту ночь, когда синяя мгла
Робко гляделась в окошко,
Удалая не пала глава –
Клоп не был раздавлен в лепешку.
Только лишь без слов, без укора,
Не снеся стыда и позора,
Из брезента новая туфля
Утопилась в баланде тухлой
И потомки клопа, точь-в-точь
Повторение славного предка
До сих пор вспоминают ту ночь
И лишенную ловкости силу объедка.
В камере царил полумрак, хотя она освещалась никогда не гаснувшей маленькой лампочкой, забранной в решетку и подвешенной высоко к потолку. Постоянные сумерки в камере создавал и «намордник». Такого сооружения в дореволюционных тюрьмах не было. Это know how страны Советов. Кроме обычной тюремной решетки, которой был забран оконный проем, снаружи на него навешивали деревянный ящик, расширяющийся кверху, это и была полоска дневного света, которая помогала узницам отделять ночь ото дня.
Камера была жестко структурирована по статьям уголовного кодекса. Отдельно располагались женщины-урки, отдельно – бытовички, и отдельно же политические, которым предъявлялось обвинение по знаменитой 58-й статье УК. Внутри каждой из групп была своя иерархия, описанная в современной литературе.
Среди политических имелась также своя структура и «троцкистки» не общались с «меньшевичками», а те, в свою очередь, с «эсерками». Поскольку мама не принадлежала ни к тем, ни к другим, ни к третьим, она попала в угол «генеральной линии», где находились женщины, которые были арестованы «по ошибке», за мужей. Все эти социологические тонкости усваивались очень быстро.
Сидельцы в камере были разные, и мама часто вспоминала, например, слова старой воровки с дореволюционным стажем: «На эту советскую власть не наворуешься».
А Тамару Петровну следователь корил, говоря: «Вы человек с бывшим высшим образованием...», искренне полагая, что арестованный становится во всем бывшим, и даже знания также делаются бывшим.
Как разношерстными были заключенные, такими же были и надзирательницы. Мама вспоминала садистскую жестокость некой Жандарихи (по фамилии Жандарова, возможно, переделанной носительницей фамилии из прежней – Жандармова). А была и другая, мягкая, сердечная, которую зечки называли по имени Маруся. Она как-то на свой страх и риск в новогоднюю ночь устроила свидание матери и дочери, которые сидели в разных камерах. И самое главное, никто ее не выдал начальству, а зечки были разные.
Жизнь в тюрьме была скучной и однообразной.
Никто, пожалуй, не ощутил так остро той разительной перемены, произошедшей в стране к 1939-му году, как мы, жившие в полной изоляции от внешнего мира, – вспоминала мама[156]. На протяжении долгих месяцев мы не видели ни газет, ни журналов, ни книг, не встречались с новыми людьми, которые могли бы нам рассказать, что делается на свете. Познания воровок, проституток, растратчиц, время от времени пополнявших нашу камеру, не шли далее новых кинофильмов. По малюсеньким кусочкам газеты, которые принесла в нашу камеру для курева одна из наших девиц, убиравшая в «дежурке», и которые она тайком дала нам для чтения, мы узнали о большом процессе 1938 г. Этими скудными и безрадостными сведениями и ограничивались наши познания о том мире, где шла нам уже незнакомая жизнь, из которой мы были изгнаны, и о которой нам не полагалось ничего знать. И мы не знали ни об «аншлюссе» Австрии, ни о вторжении Гитлера в Чехословакию, ни о событиях на озере Хасан и в районе Халхин-Гола, ни о том, что делается внутри нашей страны. Мы были отрезаны от жизни, наш мир был до предела сужен.
Да, это действительно был жизненный предел. Нам не разрешалось не только что-нибудь знать, но и что-нибудь делать: ни шить, ни вязать, ни играть в шахматы, которые мы тайком лепили из скудного хлебного пайка. Мы, конечно, нарушали этот режим – пытались и шить, и вязать, и играть в шахматы то под одеялом, то садясь в тесный кружок. Но строгости увеличивались. Под угрозой карцера и при значительном числе охотниц до доносов, нам пришлось своими руками отдать и иголки, и спицы и наших самодельных коней и ферзей. По этому поводу мы даже сложили следующие шуточные стихи. Именно сложили – записывать их было нечем и не на чем, а создавались они коллективно – мной и Тамарой
Продали[157] все. Как есть, все распродали.
Сидим, нелепо выпучив глаза.
И ждем, когда в сиреневые дали
Нас увезут с решеткой поезда.
Продали все: и нитки и иголку,
И радугу бесчисленных шерстей.
И масло съели быстро и без толку,
И рассказали все о юности своей.
Продали строй таких красивых пешек,
И королевы белой смелый ход.
О черт, о дьявол, а быть может леший,
Устрой, чтоб было все наоборот![158]
Томительная монотонность дней, недель, месяцев, из которых один был до тошноты похож на предыдущий, монотонность, не нарушаемая ни вызовами на допросы, ни отправкой на этап. Бездеятельность и безделье омрачались новыми изощрениями в режиме. Сначала запретили что бы то ни было делать («Здесь вам не санаторий!»), затем с 5 утра и до 10 вечера не только прилечь, но даже сидеть, прислонясь к стене или сидеть на краю нар с закрытыми глазами («Спать днем нельзя. Здесь вам не санаторий!»). Правда, разрешали разговаривать и даже не громко петь. Но все, что можно было рассказать, было уже рассказано, а петь – так ведь даже профессиональные певчие птицы и те не поют 17 часов подряд. Лишенные впечатлений и каких бы то ни было эмоций, мы тихо, медленно, но неуклонно тупели. О лагере или ссылке мы стали мечтать как об обетованной земле. На освобождение никто не рассчитывал. Только бы скорее на этап, только бы вернуться к какой ни на есть, но жизни, работе, движению.
И очень хотелось есть. Всегда – и до обеда и после миски баланды, которая с осени 1938 г. стала, наконец, съедобной. Вместо вонючего навара из гнилой капусты, в котором иногда плавали единичные брусочки гнилого же картофеля, величиной с дольку чеснока, стали давать чечевичную и гороховую похлебку. Мы и не знали, как вкусна чечевица! Мы ее ели отдельно, после жижи, воображая, что это каша и совершенно серьезно были убеждены, что когда-нибудь, вернувшись домой, введем ее в свой вольный рацион. Оказалось, что на свете есть более вкусные вещи. В это время самым соблазнительным мне казался кусок свежего ржаного хлеба, пахнущий пекарней, с густой деревенской сметаной. О формовом хлебе, который вкусно пахнет подсолнечным маслом, мы и не мечтали. Но вообще-то, о пище мы старались не говорить и с презрением относились к тем, кто тешил свой голод рассказами о кулинарных рецептах и воспоминаниями о домашней кухне.
Забавно, что после неожиданного для меня освобождения, когда оказалась в кругу друзей, которые первую свою обязанность видели в том, чтоб повкусней накормить меня, я к пище оказалась совершенно равнодушна, гораздо более равнодушна, чем спустя несколько месяцев, когда жизнь начала входить в свою колею.
И эта монотонная унылость тянулась длинных год и четыре месяца. В нормальной жизни со всей ее повседневной суетой, не успеешь оглянуться, и год пролетел. Тюремный же год, в силу своей однообразности, отсутствия внешних впечатлений, длится долго-предолго – целых 365 дней, а четыре месяца – это еще дополнительных 96 дней. Вот и получается всего 16 месяцев.
461 день – это постоянные ожидания вызова на допрос, дни, полные надежд, раздумий, тревог о судьбе своих близких, о себе самой и, конечно же, мечтой о близкой свободе: «Виленская! С вещами!». В таких словах надзирательница оповещала об освобождении заключенной или о переводе ее в какое-то другое место.
Маму за все тюремное время ни разу не вызывали на допрос. Но режим был суровым. Об этом напоминали правила, вывешенные в камере. Женщинам не разрешалось ни лежать днем, ни шить, ни вязать, ни играть, ни громко разговаривать, а уж петь и подавно. Начальство любило казематную тишину, и за любое нарушение тюремных правил можно было угодить в карцер.
Но правила создаются для того, чтобы их нарушать: мама или Тамара Петровна подремывали, и, положив голову на колени, делали вид, что вычесывают из волос вшей или гнид, шили, вязали, пели.
Женщины-урки любили слушать стихи, рассказы, «жалостливые» песни и «жестокие» романсы, да и сами пели блатные песни. И, хотя это и было нарушением режима, надзирателям не охота было связываться с «социально близкими». Другое дело «политические», но их прикрывали урки. Мама неплохо знала тюремный фольклор, от нее он по наследству перешел и ко мне.
Однажды, за какую-то провинность мама угодила в карцер, о котором вспоминала с содроганием. Ужас был в том, что карцер посещали крысы, которые никого и ничего не боялись и, не обращая никакого внимания на узницу, рыскали по помещению в поисках пищи. Несколько дней, которые мама пробыла в карцере, она провела без сна.
Как-то раз (по-видимому, это было в декабре 1938 г.), в камеру вошла группа людей во главе с начальником тюрьмы, которые торжественно и молча сняли тюремные правила, и так же безмолвно удалились. Вся камера гудела, ничего не понимая и строя разные предположения. Однако вскоре, так же, не проронив ни слова, начальство водворило инструкцию на ее законное место. Вся камера сгрудилась у нового документа, выискивая либо послабление режима, либо его ужесточение. Но, ни того, ни другого обнаружить не удалось. Бумагу читали и вдоль, и поперек, и по слогам, но ничего нового не находили, пока не обратили внимание, что правила подписаны не наркомом НКВД СССР Н.И. Ежовым, а наркомом НКВД СССР Л.П. Берия. Так заключенные узнали о смене руководства в НКВД.
Вовсю работал тюремный телеграф, и мама также научилась перестукиваться с соседней камерой, в которой находилась тетя Зина. Это было, разумеется, запрещено, но заключенные все равно им пользовались.
Из-за скученности заключенных болезни в камере были частым явлением. Но тюремного лазарета на всех не хватало. «Здесь вам не курорт», – повторяло начальство, выслушивая жалобы женщин на нездоровье. Приходилось прибегать к самолечению и даже заговорам. Например, ячмень лечился следующим образом: мизинец и безымянный палец, противоположной больному глазу руки, перевязывали крест-накрест ниткой. Как ни странно, ячмень на следующий день исчезал. Мама всегда пользовалась этим «методом» и меня ему научила. Помогает до сих пор.
Но главным развлечением арестанток были рассказы о своей вольной, «прошлой» жизни.
Я находилась в одной камере с некой Лебедевой (имени не помню). Она была сотрудником Крайкома и женой одного из крайкомовских руководителей. Это был уже второй Крайком, посаженный в те годы. Так вот, Лебедева рассказывала, что ранее она работала в Омском обкоме, где секретарем был Ежов (человек очень мягкий и демократичный), еще не «железный нарком» или «ежовые рукавицы.[159]
Другой рассказ я слышала в той же камере несколько позже от сестры Ягоды Таисии. Она следовала в Норильск и в Красноярской тюрьме ожидала навигации по Енисею. По ее словам, она была очень дружна с братом в молодости, когда они из Нижнего Новгорода переехали в Москву. Он, как говорила она, был кристально честным коммунистом, но очень резко изменился в последние годы. Совершенно не общался с сестрами, а у родителей бывал не чаще раза в год. Был очень нервозен и т.п. Она относила это за счет нелегкой работы и дурного влияния жены (видимо, второй)[160].
Кроме того, политические пересказывали литературные произведений, читали стихи, мама их знала множество. Кроме классики, она особенно любила Гумилева, Ахматову, Иосифа Уткина, Пастернака и раннюю Веру Инбер. Политические, сближаясь с народом и, «искупая свой долг» перед ним, охотно занимались этой «просветительской» деятельностью и, возможно поэтому, в камере не было жесткого противостояния между «социально близкими» и политическими заключенными.
ТАМАРА ПЕТРОВНА БРАТУХИНА
В Красноярской тюрьме мама сдружилась с учительницей литературы из Ленинграда Тамарой Петровной Братухиной, которая сама последовала за своим мужем в Сибирь. Ее никто не высылал, но в Красноярске она была все же посажена «за мужа».
Тамара Петровна родилась в 1909 году и была маминой ровесницей. До революции ее семья жила в уютном уездном городке с мягким ласковым названием Нолинск, который находился в 143 километрах от губернского города Вятки. Она была дочерью преуспевающего молодого архитектора, который за свою недолгую жизнь успел построить в Нолинске несколько замечательных особняков в изящной манере, соединяющей готику с модерном.
В городе в то время жили будущие знаменитости: Скрябины, чей отпрыск будет носить всем известный псевдоним, ставшим фамилией – Молотов, Вячеслав Михайлович. Славу Скрябина Тамара Петровна не помнила, а его родители были в хороших отношениях с ее родителями. В честь родившегося здесь сподручного Сталина, городок в 1940 г. переименовали в Молотовск, а после 1957 г., в связи с антипартийной группой Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова, городу вернули прежнее название. В Нолинске жила и семья Бориса Чиркова, известного советского актера. С этой семьей Братухины также поддерживали дружеские отношения.
Братухины жили в собственном двухэтажном кирпичном особняке, спроектированном и построенном отцом. Семья, по меркам того времени, была не очень большая: кроме младшей Тамары, было еще две сестры. О старшей я ничего сказать не могу – она, видимо, рано умерла, а с другой сестрой – Валентиной Петровной, Тамара не расставалась всю жизнь, хотя особой духовной близости между ними не было.
С приходом в город большевиков и установлением там советской власти, всей семье Братухиных приказали убираться из дома, а в здании разместили какое-то учреждение: то ли ЧК, то ли Уком РКП(б). Сейчас в этом здании располагается военкомат.
Отец в 1918 г. пропал без вести: поехал зачем-то в Вятку и больше не вернулся. Розыски никаких результатов не дали. Тамара Петровна считала, что он попал в руки бандитов и был ими убит.
Тамара училась в Нолинской гимназии, затем в советской трудовой школе. Поступила в Вятке в пединститут и, по его окончании, работала в школах – преподавала русский язык и литературу. Она была заядлой театралкой и выдумщицей. В школах она организовывала театральные кружки, ставили сценки, спектакли, устраивала литературные вечера.
Каким-то образом в начале 30-х годов она оказалась в Ленинграде. Здесь Тамара влюбилась в какого-то весьма неординарного юношу, которого она называла Жориком, и стала его гражданской женой, т.е. брак в ЗАГСе не был зарегистрирован, что было в то время необязательным. С этого города и начались её «приключения».
Тамара Петровна любила и знала архитектуру и всерьез, на любительском уровне, изучала петербургские дворцы и здания. Однажды ее заинтересовал какой-то особняк, окруженный высоким забором. Чтобы лучше рассмотреть архитектурные особенности здания, она вскарабкалась на забор, но тут же с него была снята невесть откуда взявшейся охраной. Ее задержали и стали допрашивать: с какой целью она рассматривала охраняемый объект. Она объяснила свои архитектурные увлечения. Был приглашен специалист, который несколько часов экзаменовал ее по теории и истории архитектуры, а затем ее отпустили без неприятных последствий. Оказалось, что Тамара Петровна осматривала особняк, в котором жил А.А. Жданов, и бдительная охрана пресекла попытку покушения на покой, а может быть и жизнь секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б).
Вскоре после убийства Кирова, мужа Тамары Петровны арестовали и выслали в Енисейск Красноярского края, куда она, по примеру жен декабристов, и поехала. Сюда же, вслед за Тамарой, последовали ее мать Александра Григорьевна и ее двоюродная сестра, которую домашние называли, как и маму – Миля. Поскольку в Енисейске работы не было, они обосновались в Красноярске, где Тамара Петровна стала преподавать русский язык и литературу в школе и регулярно навещать находящегося от Красноярска в 350 км ссыльного Жорика.
Но в Енисейске Жорика арестовали и вскоре он умер (а может быть, его расстреляли, не помню).
Во время одного из посещений Енисейска на Тамару Петровну обратил внимание ленинградский инженер-электрик Николай Васильевич Мацинович. Он родился в 1905 году в Санкт-Петербурге, имел крестьянское происхождение. Восемнадцатилетним юношей в 1923 г. он вступил в ВКП/б/. Поступил учиться в Технологический институт, но закончить образование ему не удалось. Через три месяца после убийства Кирова его исключили из партии, а 7 февраля 1935 г. ОСО НКВД СССР по «кировскому» призыву осудило его на 3 года ссылки «за принадлежность к контрреволюционной зиновьевской организации».
Ссылку он отбывал г. Енисейске. Там же его 9 октября 1937 г. арестовали и обвинили, чуть ли не по всем пунктам знаменитой 58 статьи. Однако, со сменой руководства в НКВД СССР, дело Николая Васильевича было прекращено «по реабилитирующим обстоятельствам» ( как сказано в справке. Н.В.) и 24 июня 1939 г. он был освобожден из тюрьмы.[161]Николай Васильевич находился в приятельских отношениях с Жориком. Тамара Петровна, после смерти мужа, стала носить передачи Николаю Васильевичу, без памяти в него влюбилась и стала его женой. Но 28 апреля 1937г. ее арестовали, и, как жену, посадили в тюрьму (при этом муж, Николай Васильевич находился на свободе). На допросы ее, так же, как и маму, не вызывали и, по прошествии более полутора лет, 10 января 1939г. дело против нее было прекращено «по реабилитирующим обстоятельствам» (как сказано в справке. Н.В.)[162].
Так что Тамара Петровна по советскому хрущевскому законодательству даже не считалась репрессированной, и ей не полагалось никакой справки о реабилитации и соответствующих льгот и компенсаций. А время, проведенное в тюрьме – это просто так, недоразумение, ошибка, с кем не бывает. «Лес рубят – щепки летят».
Мама очень сблизилась с Тамарушкой, как она ее называла, с которой они сочиняли стихи, пели песни, играли тайком в шахматы.
Шахматные фигуры лепились из хлеба: белые – из булок, которые заключенные могли купить на свои деньги в тюремном ларьке, черные делались из ржаного хлеба. Во время шмона все это пряталось или съедалось. Тамара Петровна научила маму шить, а мама Тамару Петровну – вязать. Все это делалось в строжайшей тайне – ведь для рукоделия нужны были спицы и иголки, а это уже была статья. Но обе умудрялись, находясь в тюрьме, даже зарабатывать себе на жизнь, перешивая или перевязывая вещи своим сокамерницам, получая за это продукты, папиросы и другие необходимые вещи.
Отношения между этими двумя тюремными подругами были весьма своеобразными . Близкие по возрасту, они друг друга называли по имени, но на «вы». Это был, своего рода, кокетливый снобизм, игра – кто первый не выдержит и перейдет на «ты». Но «выканье» продолжалось всю жизнь. При этом можно было услышать, как одна другой говорит: «Ну, какая же Вы Миля дура, это же надо делать так...». А мама, в свою очередь, в другой ситуации утверждала: «Тамарушка, ну нельзя же быть такой беспросветной идиоткой, чтобы не понимать таких простых вещей...» и т.п. С другой маминой подругой – тетей Зиной, когда Тамару Петровну перевели в ее камеру, отношения установились вполне обычные. Друг к другу они обращались на «ты».
Своих близких Тамара Петровна всегда называла ласкательно. «Николенька» – только так она обращалась к своему мужу. Вспоминая родителей, она никогда не говорила: «мама» или «папа», а всегда только: «мамочка», «папочка».
Сохранилось несколько стихотворений, написанных мамой в красноярской тюрьме, обращенные к Тамаре Петровне.
Дорогая моя Тамархан!
Вы все бродите в небе, мечтая.
Не пора ли прилечь на топчан,
Как ваших соседок стая.
Оглянитесь вокруг – тишина!
Клопы ползут на охоту.
Баланда, чтоб ей ни покрышки, ни дна
Кишки дам взяла в работу.
……………………………
Топите вы грусть в кипятке,
В баланде с картошкой и без.
Чем на Ваших длинных ногах
Шагать в пустоте небес.
Или другое:
Вставай красавица, над шахматной доскою!
Пусть этот день, как многие пройдет.
Надень броню спокойствия, и к бою
Готовь своих фигур и пешек взвод.
Пусть за окном шумят метели,
Пусть гаснет месяц, загорается восток,
И пусть сейчас, как кажется без цели,
Почти безжизненно пульсирует висок.
На поле шахматном следы минувшей битвы:
Угрюмый Буцефал под пешечным огнем,
Но не страшны ему ряды канав и рытвин:
Он победит обдуманным прыжком.
Пусть пред тобой закрыто поле
Стеною пешек, офицеров, тур.
Настанет день, ворвешься в жизнь и в волю,
Оставив позади кольцо немых фигур.
Ты не пойдешь с душою нараспашку,
Ни с фанатизмом тех, кто гибнет на костре,
А объявив «гарде» царице Машке,
Дашь шах и мат тюрьме.
От времени нахождения в Красноярской тюрьме сохранилось много стихов и песен, написанных мамой вместе с Тамарой Петровной. Это было и коллективное и индивидуальное творчество. И кому, какое стихотворение принадлежит, не могли определить даже они сами.
Стихи и песни, написанные в Красноярской тюрьме, были разные и по качеству и по содержанию, то веселые, но чаще всего – грустные. Слова «тоска», «грусть» встречается почти в каждом стихотворении. И, конечно же, мечта о воле...
СТИХИ И ПЕСНИ, НАПИСАННЫЕ В КРАСНОЯРСКОЙ ТЮРЬМЕ
1.
Вечер. Осеннее утро.
В окна дождь стучит монотонно.
На улицах темных, безлюдных,
Лишь ветер, бродяга бездомный.
В твоей комнате теплый свет
Озаряет ряд книг на стене.
Над кроватью – знакомый портрет
Смотрит ласково в полутьме.
Вижу твой наклоненный профиль
Над светлым кругом стола.
Свет упал на белую россыпь,
Что в твоих волосах зацвела.
В глазах притаилось отчаянье,
Сделало горестным рот.
Жест руки тем же скульптором сваян,
И безрадостен мысли полет.
Дым папиросный тянется,
Кольца плывут, исчезают.
Войду тихо, радость – странница,
Никогда нас теперь не оставит.
Вздрогнешь, протянешь руки –
Этот миг все горе сметет,
Развеет всю боль разлуки.
Кинусь к тебе… Ты? Вот…
Что я? Тюремная камера.
Ты далек, твоей комнаты нет.
Почему от муки замертво
Не падают?…
Близок рассвет.
2.
Я стою у тюремной решетки,
За решеткой белеет стена,
За стеной где-то тянутся сопки
И цветет для кого-то весна.
Зубы, стиснув до боли, до муки,
Я стараюсь забыть про весну
В сердце медленней, медленней стуки,
Но о воле забыть не могу.
Слишком дорого то, что осталось
За высокой тюремной стеной.
Я хочу, чтоб сковала усталость
Ворох мыслей. Зову я покой.
Знаю я, что не будет свободы,
Знаю я, что не будет любви.
За годами потянутся годы,
Сердце смолкнет, замрет от тоски.
В четком рисунке решетки
Синий глубокий покой.
Я слежу за мерцанием робким,
За далекой вечерней звездой.
То горит, то угаснет. Ловлю
Этот жизни неясный намек.
Теряю и вновь нахожу
Блуждающий огонек.
Как унять мне тоскливые думы?
Радость моя навсегда!
Далека, как минувшая юность,
Как в небе беглянка звезда.
3. ВЕРЕ
Высоко белеют
В небе облака.
Глубоко запала
На сердце тоска.
За твоей решеткой,
Так же высоко,
Облака проходят
В небе голубом.
Так же сердце бьется,
Так же рвется вдаль.
Слушаю я песни –
В них звенит печаль.
Я хотела б вместе
Заглядеться в синь,
Пополам пить горькую
Этих дней полынь.
За своей решеткой
Ты меня поймешь.
Руку ведь не каждому
Даже здесь пожмешь.
4.
Смятой птицей к решетке железной
Прислонюсь я тоскливо плечом.
В синеватую дымку одетая
Ночь неслышно бредет за окном.
Ворваться в ночные просторы,
Смеяться ветру в лицо,
Сбросить тоски и уныния
Угнетающее кольцо.
Далеко, за такой же решеткой,
Тоже синяя ночь и весна.
Мне мучительно близок далекий
Переплет твоего окна.
В ночь неслышно падают часы.
Упадут когда-то месяцы и годы,
Не тоскуй, может встреча цвести
За глухою порой непогоды.
Может встреча цвести, а пока
Где же ты, мой близкий далекий?
Ночь роняет часы, а сердце тоска
Исчертила отточенным ногтем.
5.
Где-то счастье мое заблудилось,
Потеряло дорогу ко мне.
Ах, в какие берлоги забилось,
Не увидишь таких и во сне.
Или в волны морские упало,
Заплелось, разметалось в пути.
Как в запретных сиреневых далях
Мне пропавшее счастье найти?
Замело, закружило ненастьем,
И умчало в неведомый край.
Мне тоскливо, мне больно без счастья...
Хватит, черт! Поиграл... и отдай.
6. ПАЙКА
Мне грустно на тебя глядеть:
Какая боль, какая жалость!
Ведь от тебя всего лишь треть,
И та не целиком осталась.
Ты утром полною была,
С такой хрустящей, нежной коркой.
Тебя Жандариха дала,
Слезами заливаясь горько.
Довесков рой и корок хруст
Недолго тешил наши зубы.
Ты не растешь, какая грусть,
Для тех, кто жизнь младую губит.
Кто за тебя готов отдать
Последний рубль из тощей кожи,
Немедля корки отодрать
Кто ждет тебя, любя до дрожи.
Я рвусь к тебе душою всей,
Хоть ты не торт, не кекс, не сайка:
Ты лучше лакомств и сластей
Тюремная ржаная пайка.
Были и другие стихотворения, которые забылись, потому, что не были сразу записаны. Так, например, мама и Тамара Петровна, чтобы не выпустить из памяти ингредиенты и последовательность приготовления сложного ликера, зарифмовали его рецепт. Он часто вспоминался, но не был своевременно записан. Ликер так ни разу и не был приготовлен.
Другую, сочиненную в те годы песню, мама частенько напевала, и поэтому, она сохранился в моей памяти, но, к сожалению лишь фрагментами.
По железной дороге
Шел в тоске и тревоге
В дальний путь, в лагеря эшелон.
Были сборы недолги, с Енисея и Волги
Заключенных согнали в вагон.
Среди зноя и пыли в лагеря уходили
Без улыбок, без песен, без слез.
По курганам горбатым, по речным перекатам
В неизвестность летел паровоз.
И в родимые дали мы вернемся едва ли.
Занесут наши кости пески.
Если ж край наш привольный (или невольный)
Нам вернет нашу волю,
В путь обратный готов паровоз.
По дорогам знакомым
Будет радости много
И улыбок и песен и слез.
На тот же мотив «Боевого восемнадцатого года», примерно с таким же содержанием, встречается эта песня в воспоминаниях бывших заключенных. Мне помнится, ее приводит Е. Гинзбург в «Крутом маршруте»[163].
Множество песен пелось на ежегодных встречах мамы и Тамары Петровны, которые устраивались в 1960–1970-е годы 8 марта в день рождения мужа Тамары Петровны – Николая Васильевича в подмосковных, тогда еще Подлипках, переименованных потом зачем-то в Калининград (будто не хватало Калининграда (Кёнигсберга) Восточной Пруссии).
Теперь это город Королев, но в нем уже нет ни Тамары Петровны, ни ее замечательного мужа, ни мамы.
Однажды во время одной из таких традиционных встреч, Тамара Петровна спросила маму, знает ли Коля сказку, которую они узнали в тюрьме, и попросила ее рассказать. Мама охотно согласилась.
Это сказка мне нигде не встречалась, мама ее не записала, но она настолько очаровательна и поучительна, что мне не хотелось бы, чтобы она совсем пропала. Воспроизвожу ее по памяти.
СТАРАЯ СКАЗКА
Однажды, в ненастную ночь в двери аббатства постучал человек, который настоятельно просил проводить его к аббату, поскольку чувствовал приближение смерти и поэтому хотел исповедаться. До утра, утверждал он, ему не дожить. Аббат уже спал, его разбудили, и узнав в чем дело, он пригласил незнакомца в свои апартаменты. Что-то показалось странным старому аббату в поведении незнакомца и, предваряя обычную исповедь, аббат предложил ему послушать такую историю.
Давным-давно в одном королевстве жила маленькая принцесса. Она была настолько хороша собой, настолько отзывчива и обходительна, что все люди в королевстве ее обожали и считали за честь выполнить любую ее просьбу.
Но вот настал день, когда маленькую принцессу выдали замуж за прекрасного принца, и она должна была навсегда покинуть пределы своего отечества и уехать далеко-далеко на родину мужа.
На прощальный пир собрались знатные гости, приехавшие со всех концов света. Искусный повар ожидал своего часа, чтобы попотчевать гостей своим кулинарным шедевром, который уже готовился. Гостей, в предвкушении пира, и по просьбе повара, не кормили целый день, и они изрядно проголодались. Но вот, когда уже были накрыты столы, и шедевр искусного кулинара вот-вот должен был появиться в празднично украшенном зале, в комнату короля вошла маленькая принцесса, которая сказала: «Ваше величество! Я выполнила Вашу просьбу и вышла замуж за прекрасного принца. Завтра я навсегда покину Ваше королевство. Но перед этим я прошу выполнить и мою последнюю просьбу. Там за лесом, за речкой живет пастушок, которого я очень любила и мне надо с ним проститься. Король гордился маленькой принцессой и был чрезвычайно расстроен этим известием. Его дочь любит какого-то пастушка! Но он не смог устоять перед чарами маленькой принцессы и дозволил ей встретиться в последний раз со своим возлюбленным, сказав при этом, что теперь он не властен над ней, что у нее есть муж и ей следует у него просить разрешение.
Принцесса отправилась к прекрасному принцу. «Я вышла за Вас замуж, – сказала она, – я буду Вас любить и стану Вам верной женой. Но там за лесом, за речкой живет пастушок, которого я очень любила и я хочу с ним проститься». Принц пришел в отчаяние. Он был счастлив тем, что маленькая очаровательная принцесса вышла за него замуж, и тут вдруг соперник, никому неизвестный пастушок. Но и принц не смог устоять перед чарами маленькой принцессы и позволил ей встретиться в последний раз со своим возлюбленным, сказав при этом, что прежде надо получить согласие у повара, который уже приготовил свой кулинарный шедевр и с нетерпением ожидает подачи его на стол.
Принцесса отправилась к повару, которому сообщила, что ей надо срочно отлучиться из дворца, поскольку там за лесом, за речкой живет пастушок, с которым ей надо проститься. Повар был в отчаянии. Он готовился к этому пиру целый год, изобрел такое блюдо, которое должно быть подано к столу ни минутой раньше, ни минутой позже, иначе оно потеряет свою прелесть. Но не в силах устоять перед обаяниями маленькой принцессы, глотая слезы, он проговорил, что ничего не имеет против, но необходимо уговорить гостей подождать с едой. Ведь они не ели целый день, очень проголодались и с нетерпением ждут, когда их позовут к столу.
Принцесса вышла к гостям, которым сказала, что ей надо срочно отлучиться из дворца, поскольку там за лесом, за речкой живет пастушок, с которым ей надо проститься. Гости были очень огорчены. Ведь они не ели целый день и очень проголодались, но не в силах устоять перед чарами маленькой принцессы, и они согласились потерпеть.
Получив согласие всех, маленькая принцесса покинула дворец и пошла к своему возлюбленному. Дорога шла через лес, в котором жил разбойник. Увидев маленькую принцессу, разбойник обрадовался – на ней было столько драгоценностей, что хватило бы на долгую безбедную жизнь. Разбойник схватил маленькую принцессу. Но она очень просила ее отпустить, сказав, что очень спешит, что ее ждут во дворце, а там за речкой живет пастушок, которого она любила и с которым ей надо проститься. Разбойник сжалился над ней. Он так же не мог устоять перед чарами маленькой принцессы и отпустил ее, не взяв ничего.
Дойдя до речки, принцесса увидела, что не сможет перейти ее вброд. Она это делала не один раз. Но целую неделю лили дожди, и река вышла из берегов. К счастью, поблизости жил лодочник, который уже спал, ибо больше всего на свете он любил сладко поспать. Принцессе пришлось его разбудить. Она стала упрашивать лодочника переправить ее на другой берег, где ее с нетерпением ожидает пастушок, с которым она должна проститься. Лодочник долго не соглашался – он очень устал, перевозя и день и ночь гостей во дворец, и мечтал наконец-то выспаться. Но принцесса так просила, что и он не мог отказать очаровательной маленькой принцессе и переправил ее на другой берег.
Здесь ее ожидал пастушок, который, узнав, что его возлюбленная, маленькая принцесса, навсегда оставляет пределы королевства, стал упрашивать ее остаться с ним. Он просил всего об одной ночи. Но принцесса сказала, что она пришла попрощаться со своим другом, что ее ждут во дворце и она не может выполнить просьбу пастушка.
Вскоре она вернулась во дворец, а на следующий день навсегда уехала из родительского дома.
Аббат закончил свой рассказ и задал вопрос незнакомцу: «Скажи, сын мой, кого из перечисленных в сказке лиц, кроме маленькой принцессы, тебе больше всего жалко: короля, принца, повара, гостей, разбойника, лодочника или пастушка? Ты можешь выбрать одного из них, или нескольких или всех».
«Что же ответил незнакомец аббату?» – спросила присутствующих мама. Кому-то было жаль повара, кому-то разбойника, кому-то пастушка. Когда очередь дошла до меня, я не знал что ответить и бесхитростно произнес, что мне жаль их всех. Именно так ответил незнакомец аббату. Тогда мама воскликнула словами аббата: «Изиды, сатана! – в тебе кроются все семь смертных грехов!».
Все слушатели рассмеялись моему простодушному ответу.
В то время я не разгадал, что у сказки был подтекст, что гордыню символизировал король, уныние – принц, тщеславие – повар, чревоугодие – гости, алчность – разбойник, леность – лодочник, прелюбодеяние – пастушок.[164]
Так заканчивается эта очаровательная сказка-притча, сказка-тест, которую мама потом неоднократно рассказывала в различных компаниях.
Мама пребывала в тюрьме в качестве подследственной, которым переписка была запрещена, поэтому писем за 1937–1938 годы почти не сохранилось. Но заключенные, в том числе и мама, находили разные возможности, чтобы передать своим родным весточку о себе. Так, через одну из знакомых, которую раньше мамы выпустили на свободу, было передано на волю письмо, адресованное бабушке.
МАМА – БАБУШКЕ
15 апреля [19]38 г.
Дорогая моя мамусенька!
Я не писала тебе 4 месяца, никакой возможности не имела, ты это должна понять. Мне очень больно, что ты страдаешь за свою дочку, меня мучит эта невозможность регулярно писать тебе и получать от тебя весточки. Я представляю, как измучена ты этой нелепой разлукой и как изводишься от беспокойства, а я бессильна облегчить тебе это.
Все получилось очень глупо. Меня упрекают в том, что я якобы защищала Юру. Это, между прочим, ложь, ничем не доказанная. И все же, я не рассчитываю на то, чтоб скоро вернуться к тебе. Так складывается обстановка. По-видимому, мне предстоит более или менее длительная командировка, и я выжидаю ее назначения.
Живу я значительно приличней, чем ты можешь предполагать. Неплохо питаюсь, работаю – вышиваю и вяжу. Даже деньга зарабатываю. Видела массу не столько интересных, сколько любопытных по новизне вещей. Сохраняю спокойствие и хорошее настроение, несмотря на монотонность моей нынешней жизни. Много смеюсь и пою. Вообще, я по-прежнему верна себе и папино наследство – оптимизм, меня не покидает. Единственным моментом, омрачающим мое существование, является тревога за тебя и невозможность с тобой сноситься. Будь за меня абсолютно спокойна, это облегчит мне разлуку. Зина в соседней комнате. Она живет, так же как и я.
Переведи мне телеграфом немного денег. На месяц мне хватает 15 р. Кроме того, немедленно через Марию Павловну телеграфируй о своем здоровье и адресе. Ведь уже, наверное, снесли твой дом, и я не знаю, где ты поселилась.
Вот пока все. А главное – будь абсолютно спокойна за меня. Я чувствую себя превосходно, я бодра и весела. В конце концов, я не первая и не единственная.
Целую тебя очень крепко и обнимаю. Привет всем нашим. Твоя дочь Миля. Сходи обязательно к Марии Павловне Лавровой.
Это письмо сопровождала записка, написанная, вышедшей незадолго до этого на волю З. Оясон, которая могла не пользоваться никакими иносказаниями и прямо сообщить бабушке о местонахождении дочери и ее положении.
Обращаюсь к Вам, то есть к маме Мили Виленской, Я сидела вместе с ней в Красноярской тюрьме, по ее просьбе пересылаю Вам письмо от нее. Она здорова, чувствует себя бодро. Если есть возможность, перешлите ей денег на адрес красноярской тюрьмы. Если Вы здоровы, она просила телеграфировать на мой адрес. Но сейчас, хотя Вы и пошлете телеграмму, я смогу еще ей передать о Вас 2 июня 1938 г. Если успеете, то телеграфьте. Адрес мой: Красноярск, улица]9 января, д. 7/22 Оясон Зинаида Александровна. К Марии Павловне Лавровой можете не обращаться, так как я вышла из тюрьмы и все можете переслать через меня. 3.Оясон. Стилистика и орфография подлинника сохранены полностью.
Мамино письмо из Красноярской тюрьмы написано карандашом на пожелтевшем клочке бумаги, когда-то сложенном на 4 части. На таком же клочке написана сопроводительная записка.
Используя тот же эзопов язык: мама нигде не употребляет слово «тюрьма». Ее сообщение: «Я не писала тебе 4 месяца, никакой возможности не имела, ты это должна понять», следует читать, что ее арестовали нежданно-негаданно, и она не имела возможности сообщить об этом своим близким на протяжении четырех месяцев.
В письме сообщается о причине нахождения в тюрьме: «Меня упрекают» – следует читать «меня обвиняют». «Длительная командировка» означает либо отправка в ссылку, либо дальнейшую отсидку в тюрьме. «Даже деньги зарабатываю». Мама, как я уже упоминал, прекрасно вязала и этим зарабатывала на жизнь не только в тюрьме, но и в 40–50-е годы, когда была без работы. «Зина (Зинаида Сергеевна Шепелева – «Катя Трубецкая») в соседней комнате, она живет так же, как и я» – следовало понимать, что сидят подруги в разных камерах, в одних и тех же условиях, по одному и тому же обвинению, ожидают решения своей судьбы. Об этом бабушке следовало сообщить родным тети Зины.
«На месяц мне хватает 15 рублей» обозначает, что раз в месяц в тюремном ларьке можно было потратить именно эту сумму, не больше.
«Уже, наверное, снесли твой дом» – бабушка тогда жила в одном из домов на Васильевском спуске. Когда начали строить Москворецкий мост, дома, стоявшие за храмом Василия Блаженного, подлежали сносу. По рассказам мамы, бабушке предложили либо комнату, либо строиться где-то на окраине, выделив для этого какие-то деньги. Строиться бабушка не могла, и обменяла компенсацию на 2 комнаты в коммунальной квартире. Так бабушка оказалась на Большой Коммунистической улице в доме 34, кв. 4. Здесь она поселилась вместе со своей мамой, сестрой Фаней и ее дочерью Тамарой.
Однако судьба распорядилась так, что Красноярская тюрьма, возможно, избавила маму от более серьезных неприятностей, а может быть, и спасла ей жизнь. Ведь никогда не знаешь, где кончается черная полоса жизни и начинается другая. И что является причиной (или следствием) чего.
1938 год. НКВД СССР все еще «в ежовых рукавицах» наркома НКВД Н.И. Ежова.
9 января 1938г. постановлением Особого Совещания при НКВД СССР Виленской Э.С., как социально опасному элементу, была назначена ссылка в Туруханск сроком на 5 лет.
Однако в Москве на Лубянке не знали, что объект ссылки находится не в Балахте (иначе не миновать бы маме Туруханска), а по общей разнарядке НКВД осенью 1937 г. арестован, и уже два с половиной месяца находится в Красноярской тюрьме.
Система дала осечку. Постановления ОСО не нашло маму и не было ей объявлено и поэтому, к счастью, не было исполнено. Из постановления ОСО, однако, неясно, включался ли прежний срок в эти пять лет или отсчитывался новый по дате принятия нового постановления. Если последнее – то ссылка должна была бы закончиться лишь в 1943 г., а во время войны, как известно, ссыльным добавляли новый срок или заключали в лагеря до «особого распоряжения». Это могло тянуться до 1954–1956 гг.
Таким образом, как это ни парадоксально – тюрьма спасла маму от Туруханска, «где при царе бывали в ссылке вы (И.В. Сталин)». Поэтому представления людей того времени, что система работала без сбоя, как отлаженная машина, сильно преувеличены самими же энкаведешниками. По литературе известны случаи, когда меч карательных органов был уже занесен над человеком, но в силу тех или иных случайных обстоятельств, так и не опустился на голову своей жертвы.
Мама не знала об этом решении ОСО и потом, до конца жизни никак не могла отгадать, почему во время допроса в МГБ в 1950 г. следователи настойчиво расспрашивали ее о том, каким образом она миновала Туруханскую ссылку, а также понять, откуда в справке о реабилитации упоминается неизвестное ей решение ОСО.
Однако вернемся в Красноярскую тюрьму, в которой мама провела весь 1938 год.
Наступил 1939 год, полный новых событий и новых «приключений».
Незадолго до выхода из тюрьмы маме вновь удалось переправить домой весточку о себе.
ПИСЬМО КЛАВДИИ ФЕДОРОВНЫ РУЗАНОВОЙ – БАБУШКЕ
Красноярск 3 марта 1939г.
Уважаемая Клара Ильинична, шлю Вам привет от Мили, с которой мы расстались 28.02. 1939 г. вечером, пробыв вместе год без 10 дней. Миля здорова, бодра, ждет со дня на день отправки в район. Бодрости ее можно позавидовать.
Клара Ильинична! Миля просила Вам передать, чтобы Вы готовили посылку. При первом известии от нее выслали ей. Необходимо: резиновые ботики, осеннее пальто, а так же фруктов, жиров. Ну, кажется все. И, наверное, Вам писала Тамара Братухина. Так сразу же сообщите Миле ее адрес. Миля просит верить, что она вполне здорова. Надеется на скорую встречу с Вами. Мой адрес ей известен: Красноярск. Красмаш. Востребования. Клавдии Федоровне Рузановой. Не знаю, что еще Вас интересует, а посему заканчиваю. С приветом К. Стилистика и орфография подлинника сохранены полностью.
Так и не предъявив никаких обвинений, маму освободили из-под стражи 17 марта 1939 г. и направили отбывать оставшийся срок ссылки в село Казачинск того же Балахтинского района Красноярского края. Там же уже находилась тетя Зина.
К этому времени относится один смешной эпизод, о котором мама и тетя Зина любили вспоминать.
В Казачинске, куда тетя Зина прибыла раньше мамы, подруги поселились вместе. Это была комната, большую часть которой занимала русская печь. Тетя Зина не могла нарадоваться на это чудо и утверждала, что печка очень экономна и сама топится. «Положи всего пару поленьев и готовь обед», – сказала она, убегая на работу. Мама так и поступила, но печка почему-то не разжигалась. Провозившись с ней несколько часов, она позвала на помощь соседку. Та посмотрела, проверила заслонку, поддувало. Все было в порядке, а печь не хотела топиться. Было решено, что засорился дымоход. Вечером, придя с работы, тетя Зина увидела расстроенную маму, которая из-за «сломанной» печки не смогла ничего приготовить. Тут уж за дело принялась тетя Зина. Она снова проверила заслонку, поддувало и ничего не могла понять: ведь накануне печь исправно топилась. Заглянула в топку и... расхохоталась. Там по разным сторонам аккуратно лежали два полена, а посередине – гора бумажной золы. Оказалось, что мама ни разу в жизни не топила, и инструкцию тети Зины по поводу топки выполнила точно и буквально, положив именно «пару поленьев».
Сохранившиеся письма той поры дают некоторое представление о маминой жизни и ее настроениях.
Казачинск 7 апреля 1939 г.
Вот я и приехала в Казачинск, и мне как-то грустно, что теперь придется сидеть в этом селе, почти без людей, без друзей. Кстати, я думаю, что мне удастся побывать в Красноярске с началом навигации для того, чтобы съездить в Балахту за вещами. Пока что я осталась в Казачинске. Относительно работы еще не начала попыток, но вот-вот начну.
20 мая 1939 г.
Я забыла сообщить тебе, что я поступила на работу и вот уже 5 дней работаю счетоводом (какая проза!) в ДЭУ, что означает дорожно-эксплуатационный участок. Платят мне 180 р. Это не очень-то много, но больше, чем ничего. Работа, по совести говоря, утомляет меня. Во-первых, противно целый день копаться в дебетах и кредитах и постукивать костяшками счетов, а во-вторых, в ДЭУ восьмичасовой рабочий день с перерывом на обед, т.е. с девятым часом. Домой на перерыв я идти не могу, т.к. живу далеко от работы, захожу в столовую, на почту и домой возвращаюсь к 6-ти часам вечера. Дома надо помыть посуду и убрать в комнате. Вообще противно.
21 мая 1939
Я слишком много пережила, перевидала и перечувствовала для того, чтобы с детской ясностью смотреть на мир. Вместе с тем я знаю, что никогда не состарюсь душой, и в ней не будет седых волос. От этого меня избавит неугомонная жажда жизни и всегда пронизывающий меня насквозь оптимизм. Я люблю жизнь во всех ее проявлениях, пусть это будут самые большие огорчения или самая яркая радость.
Последний абзац (маме уже исполнилось 30 лет) – отнюдь не бравада, не рисовка, не фраза, брошенная для красного словца, а характерная черта маминого отношения к жизни и к тем невзгодам, которые постоянно на нее обрушивались. Мама действительно никогда не унывала, очень редко плакала. Я никогда не слышал от нее жалоб на свою злосчастную судьбу, на свою горемычную жизнь, на те жуткие условия, в которые ей приходилось попадать не по своей воле. Наоборот, чем сильнее била ее судьба-злодейка, тем тверже становился ее характер, тем сильнее делалась она.
Мама никогда не распускалась – тщательно следила за своей внешностью, была всегда элегантно одета и причесана. Туфли носила только на высоком каблуке и даже на шпильке, что в женщине 60–70 лет, видеть не очень-то привычно. Своего стиля мама придерживалась почти до своей кончины. Я редко видел, чтобы она дома носила халат – только платье, а потом, когда это вошло в обиход, – брюки и блузку или кофту, в зависимости от сезона. Она не раз говорила, что старики должны следить за собой больше, чем молодежь, поскольку молодость скрашивает то, что старость обнажает. И поэтому ежедневный утренний ритуал: легкая гимнастика, душ, тщательное расчесывание длинных, до пояса, волос, утренние кремы и обязательная губная помада.
Но вернемся к нашему повествованию, в котором нас ждут самые неожиданные повороты и непредвиденные «сюрпризы».
Сразу же после освобождения из тюрьмы, мама и тетя Зина начали хлопотать о пересмотре их «дел», об отмене решения ОСО. Ходили слухи, и это подтверждается современной литературой, что со сменой руководства, в НКВД происходило некоторое послабление режима. Людей освобождали из тюрем, возвращали из ссылки. Все это носило выборочный, случайный характер и продолжалось очень короткое время. Ссыльные и их родственники почему-то были уверены, что надо лишь более настойчиво хлопотать и доказать свою невиновность.
В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ тов. БЕРИЯ [165]
От Виленской Эмилии Самойловны,
отбывающей высылку в с. Казачинске
Красноярского края.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Решением Особого Совещания при НКВД от 29 октября 1936 г. я была выслана из Москвы в Красноярский край сроком на пять лет. Решение Особого Совещания было вынесено в связи с арестом моего мужа Бочарова Юрия Михайловича. Предварительному аресту и допросам я не подвергалась и выехала в Красноярск свободным порядком.
УНКВД Красноярского края направило меня к месту отбывания ссылки в районное село Балахту, где я пробыла до ноября 1937 г., а 27 ноября 1937 г. была арестована органами НКВД с предъявлением обвинения по статье 58–10 ч.1 У.К. Следствие было закончено в три дня. Обвинение заключалось в том, что я якобы защищала своего бывшего мужа Бочарова Юрия Михайловича, утверждая, что он невинно осужден. Причем, по заявлению уполномоченного Балахтинского РО НКВД Пронова, который вел следствие, это обвинение ни свидетельскими показаниями, ни допросами, снятыми с меня, не подтвердились. Несмотря на это, я была направлена в Красноярскую тюрьму, где в качестве следственной пробыла 16 месяцев, и лишь 17 марта 1939 г. была освобождена за прекращением дела и необоснованностью обвинения. Но, несмотря на это, я все же была после освобождения из тюрьмы снова направлена УНКВД Красноярского края в районное село Казачинск для отбывания того срока ссылки, которое было вынесено Особым Совещанием ещё 29 октября 1936 г.
Высылка моя в 1936 г. произошла в то время, когда я заканчивала 5-й курс историко-философского института в Москве, незадолго до сдачи государственного экзамена. Занятия у меня шли неплохо, я была отличницей, премированной за отличную учебу и общественную работу. (В подтверждение прилагается справка.). Еще, будучи на третьем курсе, я была рекомендована в аспирантуру. Но моих намерений мне не удалось осуществить из-за высылки.
Прошу Вас пересмотреть постановление Особого Совещания по моему делу, освободить меня от дальнейшего отбывания высылки, дать мне возможность закончить учебу и приступить к научной работе, которая была мною избрана. Обращаю Ваше внимание на то, что я уже незаслуженно несу наказание в течении двух с половиной лет, из которых 16 месяцев падают на тюремное заключение.
Бабушка также начала хлопотать за ссыльную дочь.
Сохранился черновик ее заявления в прокуратуру.
ПРОКУРОРУ РСФСР[166]От Виленской Клары Ильинишны
Москва Б. Коммунистическая 34 кв. 4.
ЗАЯВЛЕНИЕ
По постановлению Особого Совещания при НКВД от 29/Х 1936 г. моя дочь Эмилия Самойловна Виленская была выслана в Красноярский край на пять лет. Высылка ее состоялась исключительно в связи с арестом ее мужа Бочарова Юрия Михайловича. Никакой же личной вины за моей дочерью не было. По прибытии в Красноярск она была направлена на жительство в с. Балахту, где она устроилась на работу. Работала она ударно. Однако 27 ноября 1937 г. моя дочь без всяких оснований была арестована и отправлена в Красноярскую тюрьму.
По моей жалобе в НКВД от 2/XII 1938 г. и в Прокуратуру Союза (ССР) от 30 /XII 1938 г. мною было получено сообщение от Прокуратуры Союза (ССР) 29/I [19]39 г. № 1631/Л о том, что дело моей дочери передано на распоряжение Прокурора Красноярского края.
На днях я получила телеграмму от моей дочери, что ее освободили из тюрьмы 17 марта 1939 г., но все же ее высылают в один из районов Красноярского края.
Моя дочь Эмилия Самойловна Виленская находилась под стражей 16 месяцев и продолжает страдать исключительно из-за того, что состояла в браке с Бочаровым Юрием Михайловичем, о деятельности которого она не знала и не могла знать.
До высылки моей дочери, она училась в Москве на историко-философском факультете на 5-м курсе и неоднократно была премирована за отличную учёбу.
Сама я больная старуха, вдова. Мой муж умер во время служебной командировки. Эмилия Виленская является моей единственной дочерью и опорой.
Прошу снять с моей дочери дальнейшие ограничения ее в правах и разрешить ей вернуться в Москву для окончания учебы и работы по специальности».
Стилистика документа оставлена без изменений.
Конечно же, никакого ответа ни мама, ни бабушка не получили. Решения ОСО пересмотру не подлежали.
Бабушкина фраза, что ее дочь «не знала и не могла знать о деятельности Юрия Михайловича вполне совпадает с поздним маминым анализом прошлого:[167]
Ну, я-то не враг, это естественная ошибка: «лес рубят, щепки летят». Так думала я, так думало подавляющее большинство попавших в мясорубку. Я-то вообще «за мужа», меня ни в чем не обвиняют. И действительно, не за что. Так что все в порядке. А вот муж?
Сначала я была убеждена, что это просто ошибка, что его приняли за какого-то другого Бочарова, в чем-то повинного. Так я сказала вызывавшему меня следователю Ильицкому. Но он возразил, сославшись на то, что в 1936 г. ошибок такого рода не может быть, что муж сам признался в своей антисоветской деятельности.
Следует заметить, что люди, находившиеся в мамином положении, особое внимание обращали на смысловое различие юридических терминов. Им казалось, что «ссылка» и «высылка» разные понятия уголовного законодательства тех лет. С этой целью они проводили целые филологические изыскания и придавали словам собственный смысл. Поэтому в своих заявлениях и мама, и бабушка избегали употреблять слово «ссылка». Об этом мама позже вспоминала:[168]
Срок, в общем-то, был невелик – всего 5 лет, любая половина от срока в те времена максимального. И уж вовсе по-божески, к сроку прилагалось место для его отбывания – не лагерь, как позднее, а обыкновенная ссылка. Нам почему-то больше нравилось слова «высылка» – ведь в постановлении говорилось «выслать», а не «сослать». Ссылали людей в чем-то виновных. Нас же ни в чем не обвиняли, мы оказались «социально-опасными». (Заметьте, даже не элементами, которые «элементы», те явно подозрительны).
Не смейтесь над всем этим раскладом. Ну, как было людям далеким от мерзостной кухни репрессивной политики, искренне убежденных в непогрешимости НКВД, в глубокой порядочности каждого энкаведешника, вылавливающего всех и все враждебное нашему строю, и тем самым свято охраняющего каждого из нас, как было всем таким людям не изобретать объяснения (скорее, оправдания) тому, что начало твориться вокруг.
Как считает Жак Росси, большевики, сурово осуждая царскую ссылку, просто придумали эвфемизм – «высылка» и широко им пользовались, особенно в середине 30-х годов. На деле высылка стала синонимом ссылки.[169]
Юридические, а не только терминологические, различия все же были. В УК РСФСР в редакции 1926 г. в ст.35 читаем: «ВЫСЫЛКА – мера репрессии, состоящая в удалении из района жительства с запрещением возврата»; «ССЫЛКА – удаление из пределов определенной местности с обязательным поселением в другой местности».
Не получив никакого ответа на свои ходатайства, не понимая, что происходит, мама и тетя Зина решили действовать самостоятельно и личным присутствием в Москве ускорить продвижение своих «дел».
Об этом времени мама и много рассказывала, и многого недоговаривала, особенно, того, что было связано с ее личной жизнью.
1939 ГОД
«ПОБЕГ»
Начнем по порядку. Для выезда из Казачинска требовалось разрешение «компетентных» органов, в данном случае УНКВД по Красноярскому краю. 4 июля 1939 года маме выдали справку о том, что «административно- высланной ВИЛЕНСКОЙ Эмилии Самойловне разрешен выезд в с. Балахту за получением личных вещей сроком на десять дней»[170]. Далее идет живописный мамин рассказ.
[...][171] Я жила в районном центре – селе Балахта. Через год арестовали меня без предъявления обвинения. Я пробыла в Красноярской тюрьме следственной 16 месяцев. Затем меня освободили ввиду отсутствия состава преступления и велели ехать в село Казачинское. Там же была моя приятельница по Балахте, выпущенная на 2 месяца раньше.[172] Многие ее знакомые, которых я уже не застала, уехали в Москву и с них сняли ссылку: родственников, мол, не репрессируем.
Подумав некоторое время и не получив никакого ответа (и ниоткуда) на наши ходатайства, мы решили последовать их примеру. Но, как выяснилось потом, было уже поздно.
Воспользовавшись тем, что большая часть наших вещей осталась в Балахте, мы выхлопотали разрешение поехать туда за ними и до Красноярска ехали спокойно, но с соответствующими бумагами. В Красноярске мы без труда купили билеты на московский поезд, откуда-то с пути отправили телеграммы родным. Опасались только проверки документов в вагоне. Все обошлось, однако, благополучно.
И вот мы в Москве. Прежде всего, отправились в прокуратуру. Там нам сказали, что родственников действительно не репрессируют. Мы оставили заявления. Но возвращаться и ждать ответа в Казачинске, ох, как не хотелось, да и проезд дорог. Решили пойти в НКВД и просить на 101 км. от столицы. По направлению к Калинину была деревня, где родились Зинины родители. Это уже был 101 км.
Пришли в Московское управление НКВД. Но это была суббота. Лето, погода изумительная. Примерно с час простояли во дворе в очереди. Наконец, наша очередь наступила, вошли в здание, но в приемную. Теперь ждем очереди войти к чинам. Зина забоялась: а вдруг нас арестуют. Я со своим доверием в справедливость властей ее утешала. Договорились: «ты (т.е. Зина) – слезу пускай (это она здорово умела по любому поводу), а я буду голосом дрожать».
И вот нас пригласили, разговаривали любезно, велели заполнить какие-то карточки и предложили подождать в приемной. Затем нас снова пригласили, поняв, что мы дуры и никуда не уйдем. Там стоял еще один чин, нам предложили следовать за ним, и от Кузнецкого 24 мы шли, где-то позади него, к главному зданию. Испуганную Зину я снова уговаривала: «Кто же нас без документов и без провожатого впустит? Все так и должно быть!».
Действительно, все было как должно, но не так как я предполагала. Нас рассадили по разным комнатам, и у каждой начался допрос. Я все просила разрешить мне позвонить маме на работу, мне обещали, но, конечно, не дали. Зинин отец не должен был волноваться: Зина после данного визита собиралась в деревню, где была ее мать. Моя же мама, поздно придя и обнаружив мое отсутствие, немедленно отправилась к Сергею Фаддеевичу[173]. И тогда обоим стало ясно, что искать нас надо по тюрьмам. В конце концов, нас разыскали.
Но все, что было с нами – это особая глава моей жизни. Был и этап в столыпинском вагоне, разделенном на обычные купе, где вместо дверей была решетка, запирающаяся на замок. Вместо окна – нечто вроде форточки, тоже зарешечена, а у двух верхних полок была откидная, соединявшая их и образовывавшая нары.
В летних платьях, без чулок, без теплых вещей, которые могли бы принести нам родные.[174]
К этим мемуарным наброскам хотелось бы добавить некоторые мамины рассказы, не вошедшие в этот фрагмент, но сохранившиеся в моей памяти.
Мама и тетя Зина находились в раздельных одиночных камерах внутренней тюрьмы НКВД СССР на Лубянке. На допрос их водили в главное здание. Мама даже показывала большое окно комнаты, где ее допрашивали. Окно находилось на первом этаже главного здания и выходило на улицу Дзержинского (до его перестройки в 70-х годах).
Обхождение было вежливым и предупредительным, и нравы, такими же, какими их изобразил А.И. Солженицын в «Круге первом». Конечно же, был личный обыск, фотографирование, изъятие всех предметов, имеющих сходство с веревкой, снятие «пальчиков» – отпечатков пальцев, мытье в душе и т.п. процедуры, уже описанные в литературе.
Мама в это время была на первых месяцах беременности. Токсикоза не было, но ее мучил колит, и поэтому, она перестала принимать тюремную пищу. По этому поводу было вызвано тюремное начальство, которое заподозрило голодовку подследственной. Оно (начальство) сообщило, что советские люди в советских тюрьмах не голодают, что так делают лишь враги народа и советской власти. Мама ответила, что она не враг советской власти, что она больна и по этой причине не может есть тюремную баланду. Ее осмотрел тюремный врач, который подтвердил диагноз, и маме прописали диету. Удивительно, но ей приносили в камеру бульоны, протертое мясо и другие продукты диетического питания из столовой, в которой питались сотрудники НКВД. Колит вскоре прошел. Все это происходило во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке.
Следствие закончилось быстро. Двух подруг обвинили в побеге с места отбывания ссылки и этапировали на черном воронке сначала в Бутырскую пересыльную тюрьму, а затем снова в Красноярский край.
Мама впервые попала в воронок, и с ужасом рассказывала об этой поездке.
Наглухо крытый железный фургон был поделен внутри на 6 запирающихся клеток. Снаружи дверь была закрыта конвоирами. В Москве в то лето стояла сильная жара. В воронке нечем было дышать, это была настоящая душегубка. Женщины, сидевшие в закрытых боксах, упираясь коленями в запертую дверцу, начали задыхаться, стучать и кричать, чем вывели из себя конвоиров. Те обматерили строптивых узниц и пригрозили, что будут стрелять, но дверь все же приоткрыли. Видимо, они тоже задыхались, и им было жарко.
Куда направляют заключенных, им, конечно, знать было не положено, но мама, находившаяся в крайнем боксе и хорошо зная Москву, через щелку в двери определила, что их везут в Бутырки.
В Бутырках мама пробыла недолго, так как приближалась осень, и начальство спешно формировала этап за этапом на север. Маму и тетю Зину отправили вновь в Красноярский край в село Казачинское, где они после Красноярской тюрьмы должны были отбывать ссылку, а теперь предстать перед судом. Им инкриминировали побег с места ссылки.
Далее идут документы, которые лапидарным юридическим языком решают это пустяковое «дело».[175]
Утверждаю:
По следственному делу № 21871
Начальник Казачинского РО УНКВД
Сержант Госбезопасности
/Овчинников/
/черными чернилами резолюция:/
«Утверждаю по статье 82. 1 часть.УК
Прокурор /подпись/
« » Сентября 1939 года
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По обвинению Виленской Эмилии Самойловны
в преступлении, предусмотренным по ст. 82 УК РСФСР
В Казачинское Райотделение УНКВД КК поступил материал с том, что административно высланная ВИЛЕНСКАЯ Эмилия Самойловна совершила побег с места ссылки.
Произведенным предварительным расследованием установлено, что ВиленскаяЭ.С. является женой участника Антисоветской террористической группы Бочарова Юрия Михайловича, осужденного в Октябре месяце 1936 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР, Виленская, как социально опасный элемент, 29 Октября 1936 года была осуждена Особым совещанием НКВД СССР к 5 годам ссылки в Красноярский край/ листы дела 14, 16/.
Обвиняемая Виленская, отбывая срок ссылки в Казачинском районе Красноярского края, 17 июля 1939 года по сговору с административно ссыльной Шепелевой, совершила побег с места ссылки без соответствующего разрешения НКВД и была задержана органами НКВД в г. Москве / листы дела 15, 17, 18, 20, 22, 28/.
На предварительном следствии обвиняемая Виленская Э.С. виновной себя признала («в побеге» – зачеркнуто) /лист дела .24/.
На основании вышеизложенного Виленская Эмилия Самойловна 1909 года рождения, уроженка ст. Ханьдачхедзе, Манчжурия, по национальности еврейка, гражданка СССР, образование незаконченное высшее, адмминистративно ссыльная проживала в Казачинском районе Красноярского края.
Обвиняется в том, что отбывая срок ссылки в Казачинском районе Красноярского края 17 июля 1939 года, совершила побег с места ссылки и была задержана органами НКВД в г. Москве, т.е в преступлении, предусмотренном статьей 82 УК РСФСР.
Дело по обвинению Виленской Э.С. в порядке статьи 208 УПК РСФСР направить прокурору Казачинского района на заключение и передачи по подсудности.
Опер. Уполномоченный РО УНКВД
Мл. Лейтенант Госбезопасности
/Толмачев/
Обвинительное . Заключение составлено 4 сентября 1939 г.
с. Казачинское.
Копия верна: [подпись ]
Копия
ПРИГОВОР
Именем РСФСР 25 сентября 1939 года Народный суд Казачинского района Красноярского края в с. Казачинске в составе: председательствующего Кирсановой, народных заседателей Ширяевой, Варзуяк, с участием прокурора Высотина и защиты в лице Иванова, при секретаре Смольниковой, рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по обвинению
ВИЛЕНСКОЙ ЭМИЛИИ САМОЙЛОВНЫ
1909 года рождения, образование незаконченное высшее с 5 курса, б/парт.(беспартийная), одинокая, по национальности еврейка, происходящая из гр. ст. Ханьдуцкадзе, Манчжурия, последнее время проживала в селе Казачинске того же района Красноярского края, отбывая срок ссылки по решению особого совещания НКВД СССР от 29 октября 1936 года пять /5/ лет
Обвиняется по статье 82 ч. 1 УК.
Материалами дела и судебного следствия установлено, что Виленская Эмилия Самойловна по решению особого совещания НКВД СССР от 29 октября 1936 г., отбывая срок ссылки пять лет в Красноярском крае Казачинского района с. Казачинское, совершила побег с места ссылки 17 июня 1939 года по сговору с административно ссыльной Шепелевой и была задержана органами НКВД в городе Москве, арестована и этапирована в распоряжение УНКВД Красноярского края по месту ссылки. Обвиняемая Виленская виновной себя не признала, пояснила, что она побега не совершила, а выбыла без разрешения НКВД в город Москву для выяснения вопроса по делу ее ссылки. Рассмотрев материал дела, суд находит, что преступление Виленской доказано, а потому, на основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 319, 320 УПК
ПРИГОВОРИЛ
Виленскую Эмилию Самойловну по статье 82 части 1 УК признать виновной и не отбытый срок ссылки 2 г. 3 месяца заменить лишением свободы на тот же срок, то есть два года три месяца лишения свободы без поражения в правах. Зачесть осужденной Виленской предварительное заключение с 23 июля 1939 года по день суда. Мерой пресечения оставить содержание под стражей. Приговор может быть обжалован в 5- дневный срок в Красноярский Краевой суд через нарсуд Казачинского района, места вынесения приговора.
Председательствующий Кирсанова.
Народные заседатели: Ширяева и Варзуяк.
Круглая печать народного суда Казачинского района Красноярского края
Верно. /подпись/
/Кирсанова/
№ 1-107
Попытка кассации, как и следовало ожидать, ни к чему не привела.
Н.С.КИРСАНОВОЙ
копия
Уголовное дело № 7-3058
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
10 октября 1939 года Красноярский Краевой суд по Судебно-Уголовной коллеги в составе: председательствующего Бочилло и членов Красноперовой и Сорокина, заслушав в открытом судебном заседании по докладу товарища Красноперовой дело по кассационной жалобе Виленской Эмилии Самойловны на приговор народного суда Казачинского района от 25 сентября 1939 года, коим:
Виленская Эмилия Самойловна, рождения 1909 года, грамотная, б/парт. (беспартийная), по статье 82 часть 1 УК подвергнута лишению свободы сроком па два /2/ года и 3 месяца, без поражения в правах, за то, что отбывая срок ссылки по решению особого совещания НКВД СССР от 29 октября 19]36 года пять лет в Казачинском районе Красноярского края, 17 июня 1939 года совершила побег с указанного места ссылки и была задержана в гор. Москве
Заслушав члена-докладчика, выступление защиты в лице ЧКЗ (член коллегии защитников - Н.В.) товарища Булат, рассмотрев жалобу кассатора и проверив материалы дела, Судебная Коллегии по Уголовным делам находит, что приговор суда вынесен в соответствии с материалами дела, но преступление части 1 ст. 82 УК квалифицировано неправильно, так как в действиях осужденной наличествуют признаки, подпадающие под действие части 2 ст. 82, каковой и надлежит квалифицировать преступление последней, мера наказания применена судом в соответствии с содеянным, поводов к отмене приговора не усматривается, а поэтому, Судебная Коллегия по Уголовным делам руководствуясь ст. 419-а УПК
ОПРЕДЕЛИЛА
Приговор суда изменить. Преступление Виленской квалифицировать части 2 статьи 82 УК, в соответствии с чем определить меру наказания 2 года и 3 месяца лишения свободы, без поражения в правах.
Меру пресечения содержание под стражей оставить в силе.
П. П. Председательствующий – Бочилло.
члены: – Красноперова, Сорокин
С Подлинным верно:
Председатель Судебной Коллегии по Уголовным делам
/подпись/
Секретарь -/подпись/
/Михалева Н.С./
МАМА – БАБУШКЕ
Почтовая открытка: Штемпели: Красноярск. 29. 08.1939г.
Москва. Кр. Пресня 4. 9. 6 час.1939г.
29/VIII 1939 г. Красноярск.
Дорогая моя мамусенька! Пожалуйста, не беспокойся обо мне. Мы доехали очень хорошо, Едем сейчас в Казачинск. Чувствую я себя превосходно. Настроение бодрое. С беременностью все обстоит более чем благополучно, даже ни капельки не тошнит. Вообще, настроение повышенное. Срочно посылай посылку с необходимыми вещами (пальто не надо) и переведи денег по адресу Казачинское РО НКВД административно высланной мне. Как только приеду на место, дам тебе телеграмму. Главное, ты береги себя для дочки и внучонка, который ведет себя замечательно и совсем меня не тревожит. На Красноярск ничего не посылайте. Целую крепко всех. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ[176]
7 сентября 1939 г..
Дорогая моя мамуся! Пользуюсь случаем написать тебе. Завтра нас опять отправят в Енисейскую тюрьму, и по дороге можно будет опустить письмо. Обо всех наших делах написала Зина, я не буду повторять того, что она писала. Должна только сказать, что мы совсем не огорчены. Возможность сменить политическую статью на бытовую и ссылку на лагерь. По дороге мы видели многих женщин из лагерей и по их виду и по рассказам сделали окончательный вывод, что лагерь имеет массу преимуществ перед ссылкой, особенно когда идешь по бытовой статье. Мне же в моем положении это особенно хорошо. Я буду получать соответствующее и очень неплохое питание (с молоком и витаминами), посильную работу и полное освобождение на время кормления. Кроме того, а это особенно важно, во всех лагерях прекрасные больницы и медобслуживание, так как лагеря обеспечены медицинской силой. А если бы мне пришлось рожать в ссылке, даже в Казачинске, я не могла бы быть уверенной в благополучном исходе, так как здесь все страшно примитивно и нет даже порядочной акушерки. Лучшее доказательство этого – жена начальника НКВД в прошлом месяце умерла во время родов, а ведь это жена начальника, для которого вызвали потом врачей на самолете, но уже было поздно. Кроме того, если бы нас не стали судить, а оставили бы отбывать ссылку, то будь уверена, что загнали бы нас в такой медвежий угол, в наказание за самовольный отъезд, что нам оставалось бы только тихо пищать. Надежды на пересмотр наших дел у нас почти не осталось. Об этом Зина писала. Может, мы и ошибаемся, но у нас создалось такое впечатление. Если у вас там есть возможность, выясните этот вопрос. Тогда отпадет и 82-я. По-моему, надо пойти, во-первых, к юристу и рассказать ему все, о чем мы писали, а затем, в прокуратуру к военному прокурору Хуторянскому (у которого была я) или Бэндюк (у которого была Зина), или же к начальнику 2-го отдела военной прокуратуры Ульяновой. Имей в виду, что мы приехали в Москву 19 июля, тогда же были в прокуратуре, 20 – в НКВД и 21 тоже.
21 июля мы пошли в 1-й спецотдел получить разрешение проживать на 101 км. (километре) и нас задержали. 22 июля было вынесено постановление 1-го спецотдела об отправке нас этапом к месту ссылки, а 23 июля новое постановление того же 1-го спецотдела о привлечении к ответственности по 82 статье. Это постановление санкционировано заместителем Наркома Меркуловым и заместителем Прокурора СССР Рогинским. С этим мы ознакомились при подписании протокола об окончании следствия. Мое дело о ссылке оказалось не в НКВД, а в Красноярске (с марта). Вот все данные о нашем деле. Мы, по всей вероятности, возьмем защитника, главным образом, для юридического оформления и кассации.
Ехали мы не плохо. Во-первых, почти не было задержек на дороге. В Красноярске нас на легковой машине доставили в предварилку НКВД (в тюрьме мы не были), там мы пробыли 7 дней в очень приличных условиях (постель с простынями и прочее), а затем нас привезли в Казачинск. В камере мы устроились с возможным комфортом, достали старое Зинино одеяло, которое было у хозяйки. В Красноярске перед отъездом, Гольденберги успели передать мне чулки, теплые носки и платок на голову. Ватные бушлаты нам дали в Бутырках. Чувствуем себя очень хорошо. Настроение очень хорошее. Ты обо мне не беспокойся и верь мне, что я тебя не обманываю. О беременности своей даже забываю, так хорошо она протекает. Если от Алеши были письма, можешь вскрыть их и напиши ему обо мне. Если его это будет интересовать, то информацию о ребенке он сможет получать через тебя. Его фамилия Зорин Алексей Николаевич. Пиши ему до востребования. Так же свяжись с Тамарой Петровной Братухиной (тоже до востребования), я боюсь ее потерять со своими разъездами. Когда будешь посылать вещи, шли самые простые, не надо шерстяных юбок и батистового белья, а что-нибудь попроще и постарей. Хорошо бы байковое одеяло и подушку поменьше. Пока все. Целую крепко всех. Твоя Миля.
ИЗ ПИСЬМА ШЕПЕЛеВОЙ З.С. РОДИТЕЛЯМ, ПЕРЕПИСАННОЕ ВИЛЕНСКОЙ К.И.[177]
7 сентября 1939 г. из Енисейска.
Нам дали направление попасть в 1-й Спецотдел, где мы могли бы получить разрешение на проживание в 101-м километре от Москвы. В результате оказалось: не успели мы придти туда, как нас задержали и сняли допрос – почему мы приехали. Мы обстоятельно изложили причины. Выслушав, они запросили дело, для того, чтобы пересмотреть, но его не оказалось: оно было запрошено прокурором Союза ССР Рагинским на рассмотрение с марта месяца. Сделать что-либо в этом направлении больше не пытались, несмотря на мои отчаянные просьбы и требования. Вскоре нам зачитали постановление начальника 1-го Спецотдела о том, чтобы нас направить этапным порядком к месту ссылки.
После этого мы были переведены в Бутырский пересыльный корпус, правда, нас еще раз вызывали и говорили, что нас задержат в Москве до разрешения дела прокурором и, возможно, освободят совсем. Фактически это оказалось явным очковтирательством. Нас взяли на этап почти раздетыми (дали по бушлату) и в таком виде мы ехали до Казачинска.
Ехали заинтригованные, по дороге встретились с такими же, как и мы. У меня такое впечатление, что дела не рассматривают и рассматривать не будут, а только утешительные, ласковые слова. Было время, что некоторых освободили, а потом снова приступило к своей деятельности Особое совещание. Снова перед нашими глазами пошли жены с 5-ю годами лагерей, получившие сроки в июле месяце. В этапе встретились женщины из лагерей, их еще не начинали освобождать. Двоим только заменили 7 лет лагерей на 7 лет ссылки. Такова картина. Все это было для нас большой новость. Что теперь нас ожидает по приезде в Казачинск? У нас закончили, так называемое, следствие по делу. Предъявлена 82-я статья, гласившая о побеге, и также, о самовольном выезде в запрещённую зону. Обвинение сформулировали как побег, хотя оснований никаких. Даже в НКВД Москвы так не формулируют. С материалом дела нас знакомили полностью. Дело все в том, что там лежит другое постановление прокурора, противоречащее первому постановлению 1-го Спецотдела. Здесь говорится не о простом возвращении нас к месту ссылки, а о привлечении к ответственности по 82-й статье. Наше Казачинское НКВД, разумеется, очень рьяно стало рассматривать указание Прокурора Союза ССР. Ведь подпись одна чего стоит!
Сейчас нас везут в Енисейскую тюрму, прикрепленную к Казачинскому району, и там мы будем до суда, затем будет суд в Казачинске и в лагерь. Все это очень курьезно, уже сам начальник посмеялся, заключая следствие – вот преступников-то прислали. В этих случаях, по словам начальника, заменяется срок ссылки лагерями.
Можно будет освободиться раньше, чем из ссылки. Я буду иметь бытовую, безобидную статью, навсегда расстаюсь с «социально-опасным элементом».
Деньги в Бутырках мы получили от вас 2 раза по 40 рублей. 50 рублей дали на дорогу, а остальные остались в Бутырках.
Вчера мы вернулись из Енисейска случайно, Направлены для оформления дела. И вчера там же, в Казачинске, получили от вас телеграфный перевод 50 и 75 рублей. Теперь мы с деньгами. Посылайте вещи на Енисейск. Мы там будем до суда недели две. Суд будет, вероятно, 20-го или 25-го сентября. Это приблизительно.
(Письмо не имеет конца).
МАМА и З.С. ШЕПЕЛЕВА – Т.П. БРАТУХИНОЙ
8 сентября 1939 г. [178]
М.Т. (Милая Тамарушка – вероятно, так надо читать это сокращение).
Давненько не писала я Вам, но Вы, вероятно, догадались, что я была лишена этой возможности. Не успела я обернуться, как оказалась в прежних условиях, которые, как Вы знаете, мало радуют. В настоящий момент я и Зина сидим на пристани в Галанино и ждем переправы в Енисейск. Очень хотела бы знать, где сейчас Николай Васильевич. Думаю и надеюсь, что он уже с Вами и мне с ним встретиться не удастся.
Коротко сообщу о наших успехах. Дела свои мы успели двинуть и их обещали срочно рассмотреть. Когда же мы пришли просить разрешения ожидать результатов пересмотра на месте, нам предложили вернуться обратно, но не таким порядком, как мы ехали туда.
Возвратившись в Казачинск, мы выяснили, что нам придется нести ответственность за самовольные действия. Кажется, это выразится в 2-х годах. Не скажу, чтоб я была очень расстроена, Зина тоже. Это, пожалуй, лучше, чем Казачинск, особенно в моем положении, когда я бы в Казачинске оказалась без акушерской помощи, а там я буду обеспечена благоустроенной больницей и нужным режимом. Чувствуем мы себя очень прилично. Единственное, что нас смущает – это то, что мы абсолютно без вещей, в летних платьях, без шапок или платков, а погода уже явно осенняя. Ждем из дому посылок. Деньги от своих уже получили. Очень прошу Вас не терять связь с моей мамой, боюсь Вас потерять. Теперь мы бытовички, и нам будет легче дышать, тем более что теперь 1939 год.
Написала я записку Инне, не знаю, как она отнесется.
Видела я маму, теток (Анюты не было дома), бабушку, Нинку[179] и Иринку. Все это было непродолжительно, но радостно.
Лялька моя растет, но еще не выдается, ей уже 3 месяца и ведет она себя превосходно: я просто забываю, что она у меня есть.
Очень бы хотела знать, как настроение Алеши[180]. Правда, все это меня мало трогает сейчас, но было бы приятно знать что-нибудь хорошее. Я попрошу Вас сообщить ему обо мне и о Ляльке ( Проспект Сталина, 7, кв. 11 или 12. Зорин ), но лично, а не письмом. Если его все это интересует, пусть держит связь с мамой.
Последняя просьба, с которой я обращаюсь к Вам сейчас – это взять у Александры Игнатьевны (Вокзальная, 8) картонку с моим зимним пальто и послать в Енисейск посылкой на мое имя.
Постараюсь использовать все возможности для того, чтоб писать Вам. Приветствую Александру Григорьевну и Милю[181]. Миля.
Дальше уже пишет З.С. Шепелева
Дорогая Тамарушка! Получилось так, как мы не предполагали. Но, кажется, в случившемся нет ничего страшного. Пожалуй, даже все к лучшему. По крайней мере, теперь мне ясно, что никакие ускорения не изменят решения о нас. Безусловно, не отменят того, что мы хотели. Ну, а если так, то предстоящее я предпочту Казачинскам и разным Канскам.
Настроение у нас неплохое. Если бы не переезды, то выглядело бы все даже хорошо. Я виделась со своими и с доченькой. Она уже стала большой, рассудительной и умной девочкой. Теперь я могу быть за нее спокойна. Видела ее в натуре. Хочется скорей развязки, и тогда можно успокоиться.
Миля у меня молодцом. Все ест и ничем не брезгует, только подкладывай. По-видимому, внутри нее – что-то очень здоровое и крепкое!
Тамарушка, если увидишь Ваню, расскажи ему кратко обо всем.
Скоро будем в Енисейске. Пробудем там недели две-три, затем снова в Казачинск решать судьбу, а затем в Енисейск, а оттуда в Красноярск на жительство.
О своей (слово неразборчиво) судьбе сообщим обязательно.
Тамарушка, будешь у Журовой (Вокзальная, дом 8), попроси у нее какой-нибудь рвани: чулки, и платок, и рубашку. Все это вложите в теплые вещи Мили. Это на случай, если мы не получим посылку из дома. (Ведь на мне даже нет нижней рубашки). Шуре не рассказывай все в мрачных красках, потому, что это будет неверно. Пока желаю тебе всего лучшего. Привет Александре Григорьевне. Остаюсь. Зина.
Письмо написано на первой попавшейся грубой оберточной бумаге карандашом и было вложено в самодельный конверт. На конверте адрес получателя. В правом верхнем углу написано: Доплатное. Денег-то у них было в обрез, если вообще они были.
Надписи на конверте сделаны чернильным карандашом. Были и такие – чернильные карандаши – предмет совершенно необходимый для жизни в стране Советов. Чернильные карандаши были многофункциональны. Кроме того, что ими писали, слегка послюнявив кончик, ими было удобно ставили номерки на ладонях советским гражданам, стоявшим в бесчисленных очередях – они длительное время не стирались (потом их долго приходилось оттирать пемзой). Только ими можно было надписывать обшитые тканью почтовые посылки. Такая надпись ничем не сводилась и не отстирывалась. Эта бытовая принадлежность советских людей совсем недавно исчезла из продажи.
Мама оптимистично полагала, что свои дела они сдвинули с мертвой точки, и следует ожидать скорого пересмотра дела. Тетя Зина более реалистично считала, что никто ничего пересматривать не будет, и решение Особого совещания останется в силе. Она оказалась права. Теперь-то мы знаем, что решения ОСО, никогда (!) не пересматривались.
Для Тамары Петровны, искушенной в тюремно-лагерных иносказаниях, не составляло особого труда догадаться, что написанное: «нам предложили вернуться обратно, но не таким порядком, как мы ехали туда» и «если бы не переезды», следует читать, что «нас этапировали в столыпинском вагоне до Красноярска». «Кажется, это выразится в 2-х годах» – означает, что это время они проведут в лагере или, как думала тетя Зина, в Красноярской тюрьме («в Красноярск на жительство»). Судить их будут не по политической 58-й статье. Побег с места обязательного поселения считался тогда, непонятно почему, бытовым преступлением, а это уже другая статья УК РСФСР – «мы теперь бытовички, и нам будет легче дышать, тем более что теперь 1939 год» – несбывшаяся надежда на послабление режима с приходом в НКВД Л. Берия.
У мамы были ни на чем не основанные иллюзии, что в условиях ГУЛАГА, она будет «обеспечена благоустроенной больницей и нужным режимом». Это предположение, как мы увидим дальше, не имело под собой никакой почвы.
25 сентября 1939 года Казачинский нарсуд за побег с места обязательного поселения осудил маму и тетю Зину по ст. 82 ч. 2 УК РСФСР и приговорил заменить оставшийся срок ссылки лишением свободы на тот же срок, т.е. к 2 годам и 3 месяцам в колонии общего режима. Срок, таким образом, заканчивался в октябре 1941 года.
Но и здесь судьба, со всеми ее превратностями и зигзагами, как потом оказалось, была милостива к маме.
МАМА – БАБУШКЕ[182]
26 сентября 1939 г.
Дорогая мамочка! Едем на суд. На обратном пути напишу результаты. Вещи еще не получили. Может быть, сейчас в Казачинске получим. Теперь о деле. Возьмите защитника. Теперь у меня вот какая просьба. Посылай на Енисейскую тюрьму продуктовые посылки. Посылать можно все и число посылок не ограничено. Шлите сало (одно слово не читается), сгущенное какао или молоко. Не скоропортящееся мясное и соленое, сухари, чеснок и лук. Укладывай не в стеклянную посуду, а в эмалированные кружки или в кастрюльки. Денег в месяц 25 рублей. Лучше продукты, чем деньги. Зашей в какую-нибудь шапку деньги, чтоб были наличные. Как получишь письмо, переведи телеграфом 50 рублей в Енисейск. Я чувствую себя превосходно. Целую крепко всех. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ[183]
Казачинск. 27 сентября 1939 г.
Дорогая моя мамусенька! Пишу тебе, по-видимому, последнее неподконтрольное письмо. Но зато смогу писать, может быть, и не регулярно письма, которые будут проходить контроль.
Во-первых, я уже осуждена. Позавчера был суд, закрытое заседание. Мне заменили оставшийся срок ссылки, то есть 2 года 3 месяца со дня ареста лагерей на тот же срок. Теперь мне осталось 2 года 1 месяц. Суд проходил в замечательных условиях и, конечно, мы бы ничего не получили, если б не было санкции на арест Рогинского. Был у нас защитник, и выступал прокурор, но очень мягко. Сегодня подали кассацию. Дело либо прекратят, либо дадут условно. Выяснится это недели через две-три. В кассколлегии тоже будет выступать защитник. У нашего защитника сможешь выяснить результат. Дашь ему телеграмму с оплаченным ответом по адресу: Казачинск. Нарсуд. Иванову Ивану Алексеевичу. Сегодня он отправил по нашему поручению телеграмму о переводе ему денег за защиту. Большего, чем мы написали в телеграмме, нельзя было сообщить, так как начальник НКВД не разрешил. Не знаю пока, как окончательно решится дело, но в обоих случаях, не плохо. Возможно, что лучшим исходом будет лагерь, так как мы сильно сомневаемся в том, что наша ссылка подлежит пересмотру, а отбывать ее в каком-нибудь медвежьем углу менее приятная перспектива, чем отбывать в лагере, да еще по бытовой статье. Мне бы хотелось, чтоб и ты также отнеслась к этому, но, боюсь, что ты отдашь предпочтение ссылке, и я кассирую только для тебя.
Пиши мне теперь на Енисейскую тюрьму, пиши заказные письма и справляйся о том, вручены ли они. В Енисейске мы, наверно, будем недолго, не более месяца, но не исключена возможность, что и задержимся там. Неизвестно, когда будет этап в Красноярск. А из Красноярска мы получим назначение в лагерь.
От тебя я получила телеграфный перевод на 75 рублей в Казачинск. Затем мне начальник НКВД сказал, что во время моего пребывания в Енисейске, мне пришел перевод на 500 рублей, но сегодня, когда Зина получила посылку(а ей сообщили сначала, что это перевод на 600 рублей), я полагаю, что это посылка, оцененная в 500 рублей. Ее переслали в Енисейск и я, стало быть, получу ее по приезде. Выедем мы, вероятно, завтра или послезавтра.
Я писала тебе, что в Енисейске принимают продуктовые посылки. Поэтому жду их от тебя. Денег же посылай немного, рублей по 20-25 в месяц. Пиши о своем здоровье и о наших.
Я себя чувствую просто замечательно. Вероятно, моя беременность пошла мне на пользу. Ведь уже около 4-х месяцев, а я даже не ощущаю никаких неприятностей, связанных с беременностью. Настроение у меня хорошее, аппетит превосходный. Возможно, мы отсюда поедем на лошадях до Енисейска. Это будет совсем не плохо, так как погода стоит изумительная, и мы много будем на воздухе.
На будущее я планирую так. Рожать буду уже в лагере, там же буду кормить, а когда ребенку будет год, ты приедешь за ним, если мы решим, что так будет лучше, а через полгода и у меня срок окончится. Это все в том случае, если кассация утвердит приговор.
Из тюрьмы я буду тебе писать, но если долго не будет писем, не тревожься, в Енисейске довольно невнимательны к письмам заключенных, так что не исключена возможность, что оттуда они будут редки. В Красноярске же в этом отношении значительно благополучней, а в лагере – и говорить нечего. Но там количество отправляемых писем, кажется, ограничено 2-мя в месяц, а получаемых не ограничено.
Я не знаю, что ты послала мне в посылке и потому затрудняюсь сказать, что надо прислать. Мне потребуются вообще: пары 3 белья, простая юбка и блузка, пара платьев, чулки и туфли с ботами, полотенца и простыни, маленькая подушка и одеяло, желательно байковое, и красный халат. Мое зимнее пальто, шапка и варежки, а также валенки находятся в Красноярске у Александры Игнатьевны. Я просила Тамару, чтобы она переслала их мне в Енисейск, но, так как я не уверена в том, что Тамара в Красноярске, то не знаю, получу ли я их. И вообще, я боюсь, что мое зимнее на меня зимой не налезет, ведь оно и так было мне чуть- чуть узко.
Ну вот, кажется, все свои просьбы к тебе изложила. Но самое главное, о чем я прошу тебя, это беречь свое здоровье. Верь мне, что я осталась прежней, что я не обманываю тебя, когда пишу о своем самочувствии и настроении. Я хочу, чтоб ты тоже была молодцом.
Я просила тебя зашить немного денег в какую-нибудь шапку или, вообще, в какую-нибудь вещь. Сделай это, но так, чтобы не нашли. Если не в шапку, то сделай на этой вещи метку красной ниткой.
Писать я тебе буду на 9-ое почтовое отделение.
Крепко целую и обнимаю тебя и всех родных. Твоя Миля.
Заходи в 9-ое почтовое отделение, может быть с дороги напишу еще.
МАМА – БАБУШКЕ[184]
Мамусенька моя родная!
Уезжаю из Енисейска. Твою посылку, адресованную в Казачинск, я получила в Енисейске. Большое спасибо за все. В следующей готовь теплые вещи. Больше в Енисейск ничего не посылай, а то, что послала, получишь обратно. Жди письма с места, а до тех пор никуда ничего не посылай, так как еще не известно, где я буду.
Чувствую я себя очень хорошо. Беременность протекает превосходно. Думаю, что будет сын, он ведет себя замечательно, очень нетребователен, вообще думаю, что будет парень на славу. Так что жди к весне внука. Я очень прошу тебя быть за меня спокойной. Я берегу свое здоровье и своего младенца. А ты должна беречь себя для нас двоих. Обязательно следи за своим здоровьем, питайся как следует, и не волнуйся за меня. Ты же знаешь, что у меня выдержки и здоровья хватит с избытком. Крепко целую и обнимаю тебя, бабушку и теток. Твоя Миля.
Письмо, видимо, передано с оказией. На четвертинке письма надпись маминой рукой: Кларе Ильиничне Виленской.
ГЛАВНОМУ ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ СОЮЗА ССР[185]
От Виленской Эмилии Самойловны,
отбывающей наказание по статье 82 ч.2.
в Ширинской с/х ИТК.Ст. Широ
Хакасской автономной области.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Решением Особого Совещания от 29/Х 1936 г. я была выслана из Москвы в Красноярский край, как социально опасная сроком на 5 лет. Решение Особого Совещания было вынесено в связи с арестом и осуждением моего мужа Бочарова Юрия Михайловича. Мне же лично никакое обвинение не инкриминировалось, и выслана я была без предварительного следствия и ареста.
УНКВД по Красноярскому краю направило меня к месту ссылки в с. Балахту, где я работала в различных организациях.
Спустя год 29/ХI 1937 г. я была арестована органами НКВД, и мне было предъявлено обвинение по ст.58-10 ч.1, выражавшееся в том, что я якобы утверждала, что мой муж осужден невинно. Несмотря на то, что материалы следствия и свидетельские показания не подтверждали этого обвинения, меня направили в Красноярскую тюрьму, где я пробыла в качестве следственной без единого вызова на допрос в течение шестнадцати месяцев и лишь 17 марта 1939 г. была освобождена в связи с прекращением дела из-за отсутствия обвинительного материала.
По освобождении из заключения, я была направлена в село Казачинское отбывать оставшийся срок ссылки.
За время нахождения в ссылке, я неоднократно обращалась с заявлениями о пересмотре решения Особого Совещания и в Прокуратуру СССР и в НКВД, но ни одного ответа на свои заявления не получила.
На поданное моей матерью Виленской К.И. заявление в Прокуратуру СССР по поводу пересмотра моего дела, ей было сообщено, что ее заявление с соответствующей резолюцией направлено 29/I-1938г. в Красноярскую Краевую Прокуратуру на распоряжение На мои запросы из Казачинска Крайпрокуратура никакого ответа не дала.
Получив в июне 1939 г. разрешение на выезд по личным делам в Красноярск, я лично обратилась в Крайпрокурору по спецделам Бакланову, но, не получив от него членораздельного ответа, обратилась с этим же вопросом к начальнику первого спецотдела Данкову. Последний мне категорически объявил, что пересматривать мое дело может только Особое Совещание, и ни Крайпрокуратура, ни УНКВД заниматься этим вопросом не правомочны. Получив такой ответ, я в середине июля выехала в Москву для того, чтобы на месте выяснить судьбу своих заявлений. К этому меня вынудил ряд моментов:
А) Моя мать, проживающая в Москве, лишена возможности выяснить в НКВД и в Прокуратуре состояние моего дела, так как, будучи совершенно больным человеком 58-ми лет, она работает с большой нагрузкой и не располагает свободным временем. Вследствие этого, действовать следовало мне самой;
Б) Я была не первой самовольно выехавшей с места ссылки, и все мои предшественники, не прошедшие такого тяжелого испытания как тюрьма, были освобождены НКВД от ссылки. Я, таким образом, имела все основания считать, что мой самовольный выезд не может рассматриваться как преступление;
В) Шестнадцатимесячное пребывание в заключении, и тот факт, что я отбыла больше половины срока ссылки, давали мне так же право на срочное разрешение моего вопроса, тем более, что я никакого ответа на свои заявления не получала, и такое длительное молчание со стороны Прокуратуры и НКВД приводили меня к полному отчаянию добиться положительных результатов до окончания срока ссылки.
Приехав в Москву, я немедленно явилась в Прокуратуру СССР, выяснила, что мои заявления из Спецотдела переслали в Главную Военную Прокуратуру, почему я и обратилась к дежурному Военному прокурору Хуторянскому, который, выслушав меня, дал направление к начальнику 2-го отдела ГВП (Главной Военной Прокуратуры) Ульяновой. Во 2-м отделе я передала заявление об ускорении пересмотра прокурору Терехову. Кстати, по картотеке ГВП, моих заявлений, пересланных из Спецотдела, не оказалось. Прокурор Терехов наложил при мне резолюцию о срочном пересмотре и сообщил, что заявление мое будет рассмотрено не более чем в 10 дней.
Одновременно я направилась в приемную НКВД СССР, где также подала заявление об ускорении пересмотра, а затем обратилась в I Спецотдел НКВД СССР за разрешением до результатов пересмотра проживать на 101 километре от Москвы. В I Спецотделе я была задержана, с меня был снят допрос, после чего я была этапирована к месту ссылки в село Казачинское. В Казачинском мне предъявили обвинение по ст. 82 ч. I и 25/IX 1939 года Нарсуд Казачинского района проговорил меня к 2 годам 3 месяцам лишения свободы, заменив оставшийся срок ссылки отбыванием в местах заключения. Кассационная Коллегия Крайсуда оставила меру пресечения в силе, переквалифицировав лишь ч.I ст. 82 на ч.II.
Таким образом, я несу тройную ответственность за никогда не совершенное мной преступление. Высылка из Москвы была явно незаконной и противоречащей советскому законодательству, так как меня подвергли репрессии не за какое-либо преступление, а за то, что я являлась женой осужденного. Фактически безо всякого обвинения я пробыла почти полтора года в заключении, в сугубо тяжелых условиях. И, наконец, мой выезд в Москву, ни в какой степени не преследовавший цели укрытия от отбывания ссылки, был расценен как побег, несмотря на то, что следственные ораны располагали всеми данными для того, чтобы установить цель и характер моего приезда в Москву.
Прошу Вашего вмешательства в это дело для самого неотложного пересмотра по следующим причинам:
1) Я беременна и в половине февраля ожидаю рождения ребенка. Почти вся беременность протекала в условиях тюремного заключения и следования по этапу, что никак не может способствовать рождению здорового потомства, и продолжение пребывания в заключении представляет серьезную угрозу для здоровья и ребенка и моего;
2) Я безрезультатно ожидала ответа на свои заявления и полагаю, что имею право на внеочередное рассмотрение, так как прошло уже более трех лет с момента высылки.
[подпись: ]
Эм. Виленская
25 января 1940 года.
Соответствующее заявление написала и бабушка.
ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ СОЮЗА ССР
от Виленской Клары Ильиничны
Москва Б. Коммунистическая 34 кв. 4.
Присоединяю свое заявление к заявлению моей дочери Виленской Эмилии Самойловны, с материнской просьбой о скорейшем рассмотрении дела. Освободить ее от незаслуженного наказания и позора, вернуть ее ко мне, где я смогу облегчить ее теперешнее положение предстоящего материнства. Ибо после шестнадцатимесячного тюремного заключения и начала беременности в тюремной обстановке ее здоровье подорвано.
Я имею жилплощадь 18 метров по Б. Коммунистической 34, кв. 4, работаю 8-ой год в Краснопресненском отделении госбанка в качестве контролера экспедиции. До поступления на работу 4 года была на пенсии после смерти моего мужа.
Эмилия – моя единственная дочь, больше у меня никого нет, но, несмотря на это, не будь я уверена в ее абсолютной невиновности перед нашим народом и правительством, я не только как мать, а как гражданка Советского Союза, не просила бы за свою дочь.
11 февраля 1940 года.
К. Виленская.
Каким все же потрясающим ароматом эпохи обладают исторические документы, даже казенно-официального характера! Одни заявления чего стоят! Подробнейшее заявление мамы более напоминает историческую хронику, а не деловую юридическую бумагу. Бабушкино же заявление – крик души, бесхитростная мольба матери, и тут же пафосный советский патриотизм, с его обязательными шаблонами.
Разумеется, никто и не думал обращать внимание на эти, как и на предыдущие, заявления, которые так и остались без ответа.
Чудом сохранились и письма той поры. Почтовая открытка, посланная мамой каким-то образом с этапа, и письмо мамы и тети Зины Т.П. Братухиной.
МАМА – БАБУШКЕ
29/VIII 1939 г. Красноярск.[186]
Дорогая моя мамусенька! Пожалуйста, не беспокойся обо мне. Мы доехали очень хорошо. Едем сейчас в Казачинск. Чувствую я себя превосходно. Настроение бодрое. С беременностью все обстоит более чем благополучно, даже ни капельки не тошнит. Вообще, настроение повышенное. Срочно посылай посылку с необходимыми вещами (пальто не надо) и переведи денег по адресу: Казачинское РО НКВД административно высланной мне. Как только приеду на место, дам тебе телеграмму. Главное, ты береги себя для дочки и внучонка, который ведет себя замечательно и совсем меня не тревожит. На Красноярск ничего не посылайте. Целую крепко всех. Твоя Миля.
Мама и тетя Зина полагали, что в Казачинске они продолжат отбывать ссылку, думая, что за «побег» им добавят только лишний срок. Однако, все обстояло иначе.
Прибыв этапом в Казачинск, выяснилось, что их будут судить, и им грозит либо тюрьма, либо лагерь. Суд может состояться не раньше, чем через месяц, но, поскольку в Казачинске была только КПЗ (камера предварительного заключения), «беглянок» до суда отправили под конвоем в стационарную тюрьму, ближайшая из них находилась в Енисейске. Дальнейшей судьбы своей они еще не знали и поэтому строили разного рода догадки.
Все эти предположения и раздумья отражены в письме, написанном мамой и тетей Зиной Т.П. Братухиной с этапа, еще до решения суда.[187]
ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Статья 82 Уголовного Кодекса РСФСР гласила: «Побег арестованного из-под стражи или места заключения, совершенный посредством подкопа, взлома или повреждения стен, затворов, а равно возвращение в запрещенные для проживания места, побег с места обязательного поселения или с пути следования к нему карается лишением свободы на срок до одного года.
Самовольное временное оставление назначенного постановлением судебного или административного органа местопребывания, а равно неявка в срок к назначенному теми же органами месту жительства, карается принудительными работами на срок до одного месяца или штраф до ста рублей, налагаемые в административном порядке».
Однако Казачинский нарсуд, как видим, руководствовался не этим содержанием статьи, а каким-то другим дополнением или новой редакцией.
Но все-таки 82 статья УК РСФС – это не 58-я со всеми ее 14 пунктами и множеством подпунктов. Это статья «бытовая», легкая.
Свой срок осужденные по «бытовым» статьям, отбывали в колониях общего режима – сельскохозяйственных, например, как мама, а не в особых лагерях, предназначенных для 58-й и урок, хотя и в лагерях мотали свой срок «бытовики».
Колонии были исправительно-трудовыми, массовыми и подразделялись на фабричные, ремесленные, сельскохозяйственные и вспомогательные. Здесь сосредотачивались постоянные людские резервы, использовавшиеся на многочисленных стройках социализма: лесоповале, для обслуживания заводов рабочей силой, особенно во время войны, строительных и сельскохозяйственных работах. В колониях отбывали наказание люди, осужденные на небольшие сроки (до 3–5 лет) и в них, кажется, не было 58-й статьи. Политических отправляли в лагеря, где режим и существование были намного суровее, чем в колониях.
Но и в колониях и в лагерях структура управления была одна и та же. Начальник лагеря, Оперчек отдел (оперативно-чекистский отдел), спецчасть (хранила дела заключенных и готовила справки об освобождении, консультируясь при этом с Оперчек отделом), УРЧ (учетно-распределительная часть), комендатура, КВЧ (культурно-воспитательная часть), санчасть, финчасть и другие. Колонии, как и лагеря, находились за колючей проволокой с вышками и вахтой. Они делились на зоны. В зонах – несколько бараков. И колонии и лагеря находились в ведении НКВД и вливались в единый архипелаг ГУЛАГ.
КОЛОНИЯ
И мама и тетя Зина были направлены в «молодую», образованную лишь в апреле 1938 г. Ширинскую сельскохозяйственную исправительно-трудовую колонию, находившуюся в Хакасской автономной области, недалеко от станции Широ, почти рядом с Минусинском. Так что мама была совсем невдалеке (недалеко по карте, а не по сибирским масштабам) от места отбывания ссылки В.И. Лениным.
Наступил новый, на мой взгляд, самый драматичный период маминой довоенной жизни.
Мама была беременна, однако, захваченная врасплох и арестованная летом, она не имела возможность, как и тетя Зина, захватить из дома теплую одежду. Не из чего было шить и «приданое» для будущего сына. И все хлопоты легли на плечи бабушки, которой нужно было достать и теплые вещи для мамы и найти все необходимое для будущего внука. Этим бытовым, но чрезвычайно важным вопросам и были посвящены в основном их письма.
МАМА – БАБУШКЕ
29 сентября 1939 г.
Дорогая моя мамуся! Сегодня, видимо, доедем. Ждем машину. Поэтому очень спешу. Ничего нового за эти два дня не произошло, но я хотела сообщить тебе о Юре. Выяснила, что он осужден Военной Коллегией Верховного Суда по 8 п., 58 ст.[188]. Видимо, в связи с этим, наша ссылка пересмотру не подлежит. В общем, прочтешь Зинино письмо. Я уже сообщала тебе, что чувствую себя очень хорошо. У меня теперь одна забота, чтоб ты была здорова и не волновалась из-за меня. Буду пользоваться каждой возможностью, чтоб писать тебе.
О том, что я жду в посылках, я тебе писала. Очень мне хочется варенья брусничного, или какого другого. Когда будешь посылать продуктовую посылку, пришли немного. Пока все. Может быть, еще припишу, если будет время. Целую очень крепко тебя и всех наших. Твоя Миля. Это письмо дашь только Сергею Фаддеевичу или Марии Никифоровне[189]. Зина не хочет, чтоб его читал и знал о нем Валентин[190].
МАМА – БАБУШКЕ
2 октября 1939 г.[191]
Дорогая моя мамусенька. Наконец едем. Ждем парохода, который должен прийти через час или два. Чувствую себя по-прежнему очень хорошо. Питаемся замечательно; молоко, творог и прочие прелести. Ты, вероятно, уже получила мои письма и знаешь, что прислать мне. Посылка, видимо, меня ждет в Енисейске.
Но если бы ты знала, как я хорошо чувствую себя, видимо, мне на пользу пошла моя беременность. Свяжись обязательно с защитником. Если кассацию утвердят, можно действовать дальше, обращаться в Верховный Суд [о пересмотре судебного решения – прим. ред.] в порядке надзора. Целую крепко тебя и всех наших. Твоя Миля.
Суд в Казачинске состоялся 25 сентября 1939 года, но только через неделю они дождались отправки в колонию. Три месяца пребывания в Ширинской колонии в письмах никак не отражены. Видимо, они не сохранились. И об этом времени мама вспоминать не любила.
1940 ГОД
ЮРИК
БАБУШКА – МАМЕ
2 февраля 1940 г.
Дорогая Милюся! Вчера получила твое письмо. Рано окончила сегодня работу и пишу тебе, моя Миля. Ты пишешь, что будешь рожать в районной больнице, а в предыдущем письме писала, что поедешь куда-то в другое место.
Милюся, моя родная, лишь бы было все благополучно. Очень мне тяжело, что ты напрасно ждешь посылки и, главное, я не успела послать приданое для ребенка. Но только что звонил Зорин, обещал завтра до 12 часов быть у меня. Я ему сказала, что меня интересует знать, кто едет в те края, чтобы передать одежду, то есть приданое. Если он не будет у меня, то я к нему 6-го поеду и попытаюсь здесь все решить. Авось через соответствующие организации смогу послать приданое.
Теперь мне морально тяжело, что кроме как деньгами, ничем не могу помочь. Жду твое заявление и сама его отнесу по назначению, приложив свое. Дела членов семьи будут рассматривать, но надо подать заявление об ускорении, тем более при твоем положении.
Ну, родная моя, будем надеяться, что с прибавлением в семье, счастье к нам повернется. Я стараюсь всеми силами быть бодрой и работоспособной, чтобы помочь тебе, моя Милюся.
Теперь только тяжело есть, зная, что у тебя недостача, и что нет необходимой одежды у тебя и будущего ребенка. Я думаю, и того же мнения Анюта, что если будет мальчик, назовешь Юрием. Если завтра будет Алеша, напишу результат. Меня, главное, интересует, чтобы я могла передать все необходимое для ребенка и тебя. Хотя бы во что одеться. Адрес Алеши я тебе писала несколько раз. Станция Удельная, Ленинская ж.д., Ул. Первомайская № 10, комната 22. Дом отдыха Центросоюза. Он мне сказал, что в конце февраля должен уехать, а он в конце марта...
Видимо, какая-то часть письма утрачена, поскольку на первой странице имеется приписка:
Ну, Милюся, будь здорова. Целую тебя крепко, твоя мама. Привет Зине.
Милюся моя, я на телеграфе получила заказное письмо с заявлением. Посоветуюсь и пойду подавать и хлопотать. Если завтра будет Алеша, результат напишу. Он здесь пробудет до конца марта.
Ну, Милюся моя, я теперь работаю нормально, и если я смогу передать тебе вещи и (1 слово не разобрано), то я буду спокойнее. Можно ли больше денег послать?
Пиши, родная. Я 28-го прошлого месяца телеграфно поздравила тебя с днем рождения, обнимаю тебя крепко и целую. Твоя мама.
Стиль и орфография бабушкиных писем весьма своеобразны. Живя в еврейском местечке, в Коропе, (Черниговской губернии) в большой патриархальной еврейской семье, она не получила образования и в анкете писала «низшее». Обороты речи – типичны для еврейского южно-русского говора («Я ему сказала, что меня интересует знать..»; «Меня, главное, интересует, чтобы я могла передать все необходимое...»). Бабушкины письма полны грамматических ошибок, часто отсутствует согласования – их трудно читать, но, вчитавшись, обо всем забываешь, настолько они пропитаны любовью, теплотой, сердечностью, состраданием и заботой. В них передается и настроение бабушки и ее отношение к людям. Она нигде не пишет, как ей тяжело переживать разлуку с единственной дочерью, как ей физически тяжко собирать и отправлять посылки. Ведь почтовые посылки ни тогда, ни позже из Москвы не принимали, и приходилось ехать за тридевять земель, в другую область, чтобы ее переслать. Да, бабушка хлебнула горя полной чашей.
Переписка мамы и бабушки в это время сохранилась довольно неплохо и в особых комментариях не нуждается. В ней достаточно полно и детально отражена жизнь, реальная обстановка и бытовые подробности, в которых находилась мама в колонии для зэчек-матерей. Именно эта серая обыденность бесправного существования людей как в зоне, так и за зоной, на воле, ошеломляют больше всего.
МАМА – БАБУШКЕ
9 февраля 1940 г.
Родная моя мамусенька! Не писала тебе несколько дней. Верней, написала письмо, но не отправила и хорошо сделала. Нас хотели отправить в материнскую колонию, и мы ждали со дня на день отъезда. Об этом я и написала тебе. Но задержала письмо, а тут выяснилось, что останемся пока здесь. Во всяком случае, рожать будем в Шира, и жить при колонской больнице, как я раньше тебе писала. Изменения чуть было не произошли потому, что у нас новый начальник. Он производит очень деловое и хорошее впечатление. Кажется, наведет он у нас порядки. А то в этом отношении было довольно скверно.
Вчера получила твою открытку от 29/I, а телеграммы не получила. Алеше я отправила письмо. Получила от тебя перевод на 30 рублей. Видела ли ты Алешу? Между прочим, я забыла улицу в Удельной, по которой он живет. Весь адрес помню, кроме улицы. Напиши мне.
Как у тебя дела? Ты особенно не огорчайся тем, что не принимают посылок. Как-нибудь выйду из затруднения с приданым. А что касается продуктов, то у тебя их, кажется, тоже негусто. Я же хоть молоком богата. Получаю в день 1 литр. Не сегодня-завтра повезут нас на тот участок, где больница. Там спокойней и лучше питание.
Я уже не работаю. Читаю, штопаю, отдыхаю. Чувствую себя хорошо. Заявление для прокурора я тебе отправила. Говорят, что хорошо написать в Президиум Верховного Совета. Думаю написать туда. Вот уеду на Иткуль и там напишу.
Пришли мне бумагу и конверты. Не на чем писать. Деньги посылай по-прежнему. Все равно больше не выдадут. У меня на счету 50 рублей, а больше чем по 20–25 не выдают. Да и тратить-то не на что.
Кажется, обо всем написала. Бумаги-то нет. Приходится укладываться в маленькие письма. Пиши обо всех наших и о себе. Хочу сегодня отправить письмо. Ты, наверное, уже беспокоишься. Целую тебя и всех родных очень крепко. Привет от Зины. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
14 февраля 1940 г.
Родная моя мамусенька! Вот уже три дня как я переехала жить в больницу. Здесь тихо, спокойно. Читаю, шью распашонки, гуляю. Пока я одна здесь. Завтра придет вторая. Она уже родила, и мы ждем ее вместе с ребенком. Как будет дальше – плохо представляю себе.
Вообще, с ребятами здесь не оставят, а отправят в Абанскую колонию (это в 60-ти км. от Канска). Не знаю только, как скоро отправят туда. Надо бы мне с тобой решить вопрос, может, больше смысла было бы взять тебе ребенка и держать его в яслях в Москве. Боюсь я этих яслей в колонии.
Думаю, что к тому времени, когда придет это письмо, я смогу поздравить тебя с внуком. А может быть, еще и нет. Сама точно не знаю. Чувствую я себя хорошо. Скучно без Зины. Все жду писем от тебя, давно уже не получала. Наверное, с ближайшей почтой получу.
Так у меня ничего нового нет. Почему-то очень лень писать. Надо в Красноярск написать, а я все собираюсь. Письмо это отправлю завтра.
Видела ли ты Алешу? Как все наши? Пиши, мамуля, подробно. Не бери с меня пример. Мне сейчас можно полениться. Пришли бумагу для писем и конверты. Не на чем писать. Видишь, на каких огрызках пишу?
Как ты себя чувствуешь? Как здоровье? Получила ли письмо с заявлением для военного прокурора?[192]
Ну, родная моя, не сердись, что мало пишу. Сейчас буду брюкву есть и читать. А потом надо еще дошить распашонку. На теплые пеленки придется пустить байковое одеяло. Немного мануфактуры нам дали со склада, но это не для теплого.
Пиши мне чаще. Крепко целую тебя и всех родных. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ[193]
18 февраля 1940 г.
Родная моя мамусенька! Получила сегодня твое письмо от 2 февраля. Оно долго пролежало на почте, так как давно не ездили за письмами. Кроме того, Зина мне писала, что пришел еще от тебя перевод на 30 рублей. Напрасно ты посылаешь деньги. У меня теперь на счету 70 рублей. Все равно их нелегко получить. А при себе у меня 20 рублей. Я полагаю, что колония как-нибудь перебьется без того, чтобы ее кредитовали.
Сегодня мне сообщили, что пришла мне посылка, но ее еще не привезли. Не понимаю, от кого. Может от тебя. А возможно от одной девушки, которая, уезжая отсюда, обещала мне прислать, если достанет, мануфактуру для приданого. Если она пришлет, то я тебе сообщу ее адрес, и ты ей переведешь деньги.
Я сейчас живу в больнице, так как здесь тихо, спокойно, врач под боком и питание хорошее. Моя компаньонка Аня уже родила сына, и мы с ней вместе нянчим его. Только что его купали в первый раз. Ему это дело понравилось. Сейчас он ест и собирается спать. Дали нам немного мануфактуры. Шьем распашонки и пеленки. Желтое байковое одеяло я собираюсь после родов разрезать пополам: сделаю две теплые пеленки и одеяльце. Рожать буду в Шира, но, по-моему, не раньше чем в середине марта. Пусть тебя вопрос с приданым особенно не волнует. Первое время будет чем (одно слово не читается), а в материнской колонии ясли полностью обеспечивают ребят.
Очень прошу тебя как следует питаться. Я сейчас питанием обеспечена лучше, чем на свободе. Получаю молоко, манную кашу молочную, вкусные супы и прочее. Кроме того, ем ежедневно брюкву.
Почему ты решила, что я не обеспечена одеждой? У меня все есть. А если бы чего не хватало, то мне бы выдали. Здесь я хожу в красном халате, а раньше в коричневом сарафане, который я еще в Енисейске перешила из коричневого платья. Наверх надевала Зинин вязанный шерстяной жакет, а она носит мой черный, от твоего костюма, так как мне он узок. У меня за последнюю неделю очень вырос живот.
Сына, значит, назову Юрием, по общему решению. Ты мне только напиши правду, не в память ли это о Юре? Жив ли он?
Аня с сыном уже уснули, а я пишу тебе. Завтра это письмо уйдет.
От Зины почти ежедневно получаю записки. Она все хочет соорудить себе командировку сюда, чтоб повидаться. Ей там особенно тяжко одной. Ведь публика у нас весьма и весьма не интересная, не с кем поговорить. У меня здесь хоть Аня и малыш есть. А Аня очень милая девушка. Кроме того, у меня есть время почитать, шить и прочее. Зина очень заботиться обо мне, во всем себе готова отказать, лишь бы я была обеспечена необходимым в моем положении. Вообще, она очень трогательно ко мне относится, и я к ней очень привязалась.
Сейчас я лягу спать, а завтра еще припишу. Пока. Целую тебя и всех родных очень крепко.
Напиши мне, какое впечатление произвел на тебя Алеша. Как он относится сейчас к появлению ребенка? Он наверняка в обиде на меня, что я ему не писала все время. Но теперь я ему написала и думаю, что он должен понять, чем было вызвано мое молчание.
Как относится Анюта и дядя к появлению ребенка? Наверно ругают меня за легкомыслие. Может быть, это и верно, но с другой стороны, я не хочу остаться бездетной смоковницей. Ведь мне уже 31 год, куда дальше откладывать?
Итак, мамуля, до завтра. Целую. Твоя Миля.
19 февраля 1940 г.
Сегодня дописываю. Возможно, врач скоро поедет и увезет это письмо.
Мамуся, пиши, как ты живешь. Ты почти ничего о себе не пишешь. Как все наши? Видишь ли ты Нину, Лиду?
Грише в Красноярск я написала уже очень давно, но ответа не получила.
Я теперь ношу косички, закладываю их сзади. Волосы стали длинными.
Целую тебя, родная моя, очень крепко и всех родных. Привет от Зины. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
29 февраля 1940 г.
Родная моя мамусенька! Пишу тебе первое письмо после рождения сына. Только сегодня мы переехали из районной больницы на Иткуль, а из Шира я никак не могла написать, так как у меня не было конверта, и склеить там нельзя было. Сегодня приехала, получила твое письмо от 18/II и вот теперь пишу тебе. Рядом лежит сын, скоро его кормить, он уже проснулся, открыл глазенки и ловит ротиком.
Вообще, он очень забавный. Черноволосый. Волосы длинные и густые, глаза черные и чудесные же черные ресницы. Носишка курносый. Весь он очень смуглый, прямо цыганенок. До смешного похож на Алешу. Ведет себя очень скромно, не кричит, не знаю, как дальше будет. Дался он мне не тяжело. Вообще он вел себя примерно, еще будучи в утробе. Ведь меня не тошнило, и не было никаких капризов. Роды тоже были легкие. Я не успела оглянуться, как родился Юрка. И после родов все протекало очень благополучно. Конечно, ребёнок слабенький, так как все-таки беременность, особенно первая половина, протекала не в блестящих условиях, и питание было меновое. Но он хорошо ест и, видимо, быстро наверстает упущенное.
Судя по твоему письму, ты Алешей не довольна. Мне, конечно, интересно было бы знать, как он отнесся к ребенку. Очень жаль, что ты не послала мне его первую записку и не сообщила содержание ее.
Я Алеше писала. Не знаю, получил ли он мое письмо и думает ли отвечать.
Байковое одеяло я разрезала на теплые пеленки и одеяльце для Юрика. Разрезала на пеленки одну простыню. Кроме того, у меня есть еще пара пеленок из выданной нам мануфактуры. В общем, мы обойдемся на первое время. Сшила я и нижние рубашечки и теперь делаю верхние, чтоб не прятать ручки в пеленки.
Мне теперь так хорошо: посмотрю на сына, и хочется все улыбаться. Досадно только, что Зину давно не видала, уже 3 недели. Она пишет мне и заботится о нас. Надеется приехать сюда в командировку. Надо же ей малыша посмотреть.
Теперь по поводу твоего письма. Я не пойму твоей фразы о том, что «в первой части это проще» (по поводу разговора с прокурором). Потом, что это за комиссия, которая пересматривает дела? Все дела, или только родственников?
Ты просишь, чтоб я хлопотала относительно твоего приезда. Мамуся, это совершенно невозможно. Во-первых, скоро нас, наверно, отправят в Абанскую колонию (там ясли). Дают ли там более длительные свидания, я не знаю. Но здесь это абсолютно немыслимо, так как нет помещения, где могут жить приезжающие. А кроме того, я уже писала тебе, что к тому времени, когда ребенка надо будет отнимать от груди, я бы очень хотела, если это возможно, чтоб ты его взяла. Это самый опасный период в яслях.
Как только нас будут отправлять, я дам тебе телеграмму. Но я совершенно не представляю, когда это будет: через 2 недели или через месяц. Начальник сейчас в командировке и, вероятно, до его возвращения этот вопрос не будет разрешен.
Что касается посылок, и того, что ты меня не можешь поддержать, то пусть тебя это не беспокоит. У нас здесь очень приличное питание, лучше, чем на воле. Есть и молоко, и жиры, и овощи, и мясо. О хлебе нет заботы. Так что ты не тревожься. Я совсем не голодна.
Пришли ты мне, мамуся, свою карточку, ту, которую посылала в Казачинск. У тебя там дочка есть, а у меня твоей нет. Жаль, что я не могу сфотографировать своего малыша, чтоб показать его тебе. Но, честное слово, он очень забавный.
Письмо отправлю завтра. Кажется, есть мне еще письма. Сейчас пойду, узнаю. Если есть, припишу еще. Привет всем родным. Целуем крепко нашу хорошую родную мамусю и бабушку. Твои Миля и Юрик.
Да, забыла сообщить тебе, что посылки мне никакой не было, это был перевод от тебя. Еще раз целуем. Твои ребята.
21 февраля 1940 г. в 7 часов вечера у мамы родился сын Юра. Никто из родных не сомневался в имени новорожденного, все были уверены, что сын будет назван в память Ю.М. Бочарова.
Как мы видим из этого письма, и таких писем будет много, мама целиком ушла в сугубо материнские заботы о новорожденном сыне. Ребенок был ее утешением и счастьем в условиях одинокого и подневольного существования в колонии, оторванности от друзей и близких, от дома, от любимого дела.
«У нас здесь очень приличное питание, лучше, чем на воле. Есть и молоко, и жиры, и овощи, и мясо. О хлебе нет заботы. Так что ты не тревожься. Я совсем не голодна». Я не думаю, что это преувеличение, чтобы успокоить бабушку. Мама рассказывала, что питание для кормящих матерей в колонии было вполне приличным. Но поражает, что оно было лучше, чем на воле. Что же тогда творилось на той «воле», если в «неволе», на «государственном обеспечении» жить было лучше и проще? Эта же мысль прозвучит позже, осенью 1941 года, когда мама выйдет на свободу без всяких средств к существованию.
БАБУШКА – МАМЕ
26 февраля1940 г.
Моя Милюся и Юрик! Родные, дорогие, любимые! В 10 часов утра получила от тебя телеграмму, моя Миля. Я как раз собирала посылку для тебя и будущего внука, а теперь уже настоящего.
Обещал Алеша сегодня вечером придти, и я завтра с ним поеду на ближайшую станцию не московской области отправлять посылки, а если почему-либо Алеша не приедет, то я в выходной с кем-нибудь поеду. Главное, чтобы переслали туда, где ты будешь.
Милюся, можешь себе представить, как меня взбудоражила телеграмма, как я рада.
Но у меня работа валится из рук, еле взяла себя в руки. Прости меня за маленькое письмо, уже надо идти на работу и что-нибудь покушать. Ведь я все сама делаю, и опоздать нельзя.
Теперь я уже хочу знать твое здоровье. Пиши хоть пару слов. Каков мальчишка? Тяжелые ли были роды? А главное, как себя чувствуешь? Есть ли молоко для сына?
Целую вас крепко-крепко. Как бы хотела быть возле вас. Целую крепко, твоя мама и бабушка.
Бедная бабушка! Ну и досталось же ей: посылки-то, оказывается, нельзя было отправлять на периферию не только из Москвы, но и из Московской области. А поэтому, ей приходилось ехать на вокзал, садиться в поезд, ехать до ближайшей станции за пределами Московской области, разыскивать почту. На почте, наверняка, надо было отстоять очередь, ведь бабушка была не первая, открывшая такой способ оказания помощи своим близким. Кроме того, в посылке не все разрешали отправлять, а лишний вес приходилось увозить назад. Да надо было успеть еще и обратно вернуться: ведь на следующий день на работу, на которую нельзя опаздывать. А дома, кроме всего прочего – больная мать – моя прабабушка, (ей было тогда около 90 лет), которой необходим уход. А еще надо купить продукты, приготовить еду, убрать в комнате, постирать. А сама-то бабушка была не первой молодости и даже не второй (в 1940 г. ей было 58 лет), к тому же у нее было больное сердце – грудная жаба, как тогда говорили (теперь это называется стенокардией).
В несохранившихся письмах бабушка, видимо, высказывала желании приехать на свидание к маме в колонию. Она рвется к дочери, к внуку, стремясь всеми силами облегчить им жизнь.
В маминых же письмах начинает проскальзывать тревога за жизнь ребенка, тревога, которая усиливается в каждом письме. Материнский инстинкт, предчувствие, знание лагерных реалий подсказывают ей, что сына надо как можно скорее отправить в Москву, подальше от «колонских яслей». Но, сама этого вопроса она решить не может. Нельзя же переложить заботу о ребенке на старуху-мать и на стареющих теток.
Отец Юры, судя по письмам, не пожелал взять на себя какую-либо ответственность или оказать помощь. По-видимому, он боялся связывать себя с осужденной, и к тому же, женой врага народа. Раньше мамы это поняла моя мудрая бабушка, чувствовавшая, что растить и воспитывать ребенка им придется вдвоем.
БАБУШКА – МАМЕ
28 февраля 1940 г.[194]
Моя Милюся родная и Юрик! Вот хорошо: вместо одной дочки, еще и внучек. Здоровы ли вы, мои дорогие? Это главное.
Пишу на почте, зашла после работы. Теперь 22 часа. Я получила от тебя письмо, где ты пишешь, что вы купали сына Ани. Передай ей от меня привет, и ее сыну.
Относительно Ю.М. я ничего не знаю, тетку не встречаю и к ней никак не соберусь, так что ты напрасно так думаешь.
Относительно Алеши, то я его не понимаю. Виделась я с ним всего 5 минут во время перерыва занятий. Обещал 26-го вечером приехать. 27-го у него выходной. Поэтому я и телеграфировала Алеше. А телеграмму я получила 26/II утром. Так что он не знает о рождении сына. Я больше ему писать не буду. Моя Милюся, дело не в нем. Главное, как твое здоровье и ребенка, а остальное пустяки. Целую крепко моих деток. Твоя мама и бабушка.
МАМА – БАБУШКЕ
10 марта 1940 г.
Родная моя мамусенька! Вот я и переехала на новое место. Наш отъезд был настолько неожиданным, что мы даже с Зиной так и не видались после родов. Она в последний момент узнала о том, что нас отправляют, и прислала мне душераздирающее письмо и… одеколон.
Ехали мы очень неплохо. За нами ухаживали, помогали, усаживали в вагон, вообще, была проявлена большая забота. Приехали мы позавчера вечером и вчера уже прибыли на окончательное место, то есть на тот участок, где находятся ясли. Самой большой заботой у нас было не простудить ребят. Ведь пришлось ехать больше 50 км. на машине. Здесь еще холодно, а там, в Шира, уже весна началась. Ребятишек мы довезли в полном порядке, сдали их в ясли и теперь ходим каждые два часа кормить их, так как они маленькие, а потом будем кормить их через 3 часа. Ясли неплохие, с ребятишками возятся, развлекают их, моют, подмывают и прочее. Правда, культурный уровень оставляет желать многого. Они, например, старших ребят кормят, предварительно пожевав их еду, а потом дают ребятам.
Юренка мой вырос, округлилась мордочка, он очень спокойный ребёнок, почти не плачет, иногда покричит немного перед едой. Вообще, парень что надо. Такая чудесная мурзилка.
На днях его будут регистрировать. Фамилию дам ему свою.
Мне очень досадно, что я не успела получить от тебя письмо в ответ на телеграмму о Юркином рождении. Я рассчитывала получить письмо числа 7-го, его, конечно, перешлют сюда, но досадно, что получается задержка. Ездили ли вы с Алешей в Калинин? Если посылку отправили, не беспокойся, ее перешлют сюда. Я оставила заявление об этом, и потом Зина об этом побеспокоится. Вообще, здесь есть казенное белье для ребят, но свое лишним не будет.
Как обстоит здесь с питанием, я еще сама не знаю. Пока мы получили дополнительный для матерей паек: сахар, масло, молоко. А как кормят в столовой, не могу сказать: ужинали вчера, но по одному разу не определишь.
Сегодня хочу написать и Алеше, но вложу в твое письмо, так как нет конверта, а надо еще Зине написать. Думает ли он заехать повидать сына? Почему он у тебя взял мой адрес, разве он не получил мое письмо?
Как отнеслись к Юркиному рождению все наши родные? Анюта, наверно, ругает меня за легкомыслие, но знаешь, мамочка, Юрка такой очаровательный мальчуган, что когда она увидит его, то простит мне все мои прегрешения.
Только что ходила кормить его, и врач его записал по имени, отчеству и фамилии. Теперь не шути с нами! Так и записала: Юрий Алексеевич Виленский. Я бы, конечно, могла его и Зориным записать, пусть это будет Алеше в наказание за то, что поздно начал искать меня.
Ну вот, мамуся, как дела идут. Тебе, наверно смешно, что я только о Юрке и пишу, но я так переполнена им, что мне лично кажется это самой интересной темой. Ему сегодня 18-ый день и он очень пополнел и округлился.
Я еще в декретном, но думаю проситься на работу, так как скучно так сидеть. Аня уже работает и я теперь одна. Надо только перешить сарафан и платье, а потом пойду работать.
Куда должны сообщить результаты по моему заявлению: тебе или в колонию? Во всяком случае, надо об изменении адреса заранее сообщить, чтоб не было задержки в случае положительного ответа. Впрочем, я мало верю в это, а поэтому и руки не поднимаются писать. По форме все правильно, а существо мало кого интересует. Ведь эта волынка тянется уже почти 3,5 года и ничего добиться нельзя: я уже к этому отношусь с каким-то безразличием. Мне только больно за тебя и за Юрку. За что вам столько переживаний? Ведь тебе кажется, что я вдвое больше переживаю, чем в действительности, а поэтому, и тебе надо переживать, да не столько, сколько я по твоим представлениям, а еще вдвое больше. А за Юрика больно потому, что он-то, конечно, не получит здесь тех условий, которые ему можно было бы создать на воле. А может быть, и лучше для него. Знаешь ведь, что ясельные ребята обычно бывают крепче, чем домашние.
Ну вот, мамуся, расписалась я сегодня. Скоро, наверно позовут Юрика кормить. Я уж, итак, пишу и все на дверь поглядываю – не идут ли за мной.
Будь здорова, моя хорошая, береги себя для нас. Я уже Юрику говорила, что сегодня мы пишем письмо бабушке.
О приезде сюда и не думай. Свидание могут дать на час, может быть, на пару часов или в течение нескольких дней по часу. А жить придется в деревне в нескольких километрах от колонии. Это не по твоим силам и я буду нервничать из-за этого. Поэтому, прошу тебя не приезжать. Вот если б Алеша приехал, когда будет возвращаться в Красноярск, я была бы рада ему. Для него это бы большой сложности не представило и, кроме того, ему ж не специально сюда ехать, а почти по дороге. Целую тебя и всех родных очень крепко. Твои Миля и Юрик.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Все, наверное, помнят по школьным урокам географии, что Енисей делит Сибирь на Западную и Восточную. Красноярск стоит на Енисее. К северу от Красноярска, на Енисее же располагается райцентр Казачинское, место маминой ссылки и суда 1939 года.
К югу от Красноярска находятся Балахта – место отбывания до тюремной ссылки. Еще южнее ИТК – Широ, где мама находилась до рождения сына. Недалеко от Широ – Иткуль, где первое время после родов пребывала мама – сейчас это курортное место в Хакасии. После Иткуля маму снова отправляют в Широ, но поскольку, там не было яслей, «мамок» (кормящих зэчек) отправляют на север, в «материнскую колонию». А это и по карте получается расстояние неблизкое.
На станции Широ зэчек с детьми сажают в поезд, который следует через Красноярск на север края до станции Канск и оттуда 60 километров до районного центра Абан, где имелась колония для «мамок».
Самой большой заботой мамы было не простудить Юрочку. Ведь им пришлось ехать и поездом, а затем в кузове открытой всем ветрам машины, вечером, когда мороз усиливается, около 60 км., а это часа 2, а то и больше. При этом, не следует забывать, что маме и новорожденному уже приходилось минимум три раза перемещаться из одного места в другое. Переезд в новую колонию был самым длительным и последним.
Судя по предыдущим письмам, до переезда в Абанскую колонию, мама и Юрик находились вместе. В «материнской колонии» детей пришлось «сдать» в ясли. ( Боже, ну и слово! Словно: «Дама сдавала в багаж: диван, чемодан, саквояж…»). Кормящих матерей поместили в отдельном бараке. На кормление, за ними через каждые два, а потом 3 часа приходила няня (из зэчек).
Ясли неплохие – утверждала мама – и приводит убийственный пример. Старших детей няни-зэчки кормят, предварительно пожевав их еду, а потом дают своим питомцам. Можно себе представить, что из пережеванного доставалось детям. Правда, вспоминается, что точно так же кормили своих детей крестьянки, и это приводило писателей, наблюдавших эту процедуру в 60–80-е годы XIX века в шок. Быть может, поэтому и была такая высокая детская смертность в России XIX века и в сталинских лагерях ХХ века?
Все эти бытовые подробности и делают мамины и бабушкины письма бесценным источником для познания жизни советских людей в довоенное время. Мемуаристы на эту сторону жизни мало обращают внимание – детали со временем расплываются, стираются или забываются. Кроме того, следует иметь в виду, что писем из ГУЛАГА и в ГУЛАГ сохранилось не так уж много. Обычно по прочтению их уничтожали – кто знает, что при обыске на «воле» или шмоне в бараке придет в голову следователю, какие улики об антисоветской деятельности он вычитает в «вещественном доказательстве» подозреваемого. А на подозрении у органов находились все подданные страны Советов.
БАБУШКА – МАМЕ
15 марта 1940 г.[195]
Моя Милюся и Юрочка! Пишу открытку, дабы ты не волновалась. Днями послала тебе заказное письмо. От тебя имела 2 письма после родов. Пиши о своем здоровье и ребенка.
Ты спишь с ним вместе. Будь осторожна. Он очень маленький. Ты только не корми сонная, не оставляй его спать у груди. Накорми и уложи отдельно. Хотела бы знать, получила ли ты мои посылки, посланные 6-го сего месяца?
У нас два дня как сделалось тепло и снег тает. А зима была суровая.
Теперь у тебя нет ничего для весны. Когда буду знать, где ты будешь с ребенком, я пошлю необходимое.
Я очень рада, что ты перестала курить. Это очень хорошо как для тебя, так и для ребенка, а то, что хорошо для вас, мои дорогие, то хорошо и для меня.
Алеша не был. И я не была у него. Целую вас. Мама и бабушка.
Мама, всю жизнь, сколько я себя помню, много курила: и махорку, и крепкие папиросы, и сигареты с фильтром и без фильтра. Это модное увлечение послереволюционной российской молодежи вскоре переросло у мамы в привычку. «Нет ничего проще, как бросить курить, – говаривал Марк Твен. – Я это делал сто раз». И мама делала неоднократные попытки бросить курить: и в 1936-м, и после рождения Юрика. Всерьез же она перестала курить лишь в середине 70-х годов, когда стала задыхаться. Но и тогда, особенно когда волновалась или на душе было тошно, нет-нет да и попросит у меня сигарету.
МАМА – БАБУШКЕ
21 марта 1940 г.
Родная моя мамусенька! Вчера получила твое письмо от 26 февраля, открытку от 28 февраля. Все это переслали из Ширинской колонии. В общем, у нас с Юриком был вечером праздник. Я ему немедленно сообщила, что от бабушки пришли письма и ему и мне. Он немедленно сложил губки трубочкой и вытаращил глазенки. Вообще, по всему было видно, что он был этим обрадован. Ведь это было первое письмо в ответ на телеграмму о рождении Юрика. Воображаю, как тебя взбудоражила эта телеграмма.
Сегодня в 7 часов вечера Юрику исполнится 1 месяц. Он подрос, побелел немного и, вообще, становится взрослым. У него уже есть свои капризы. Например, он ни за что не хочет лежать на спинке, и как только его так положишь, он поворачивает головку направо. Это его излюбленная поза. Няня, у которой он в группе, убеждает его лежать на затылочке, так как боится, что у него будет некрасивая форма головки, но эти убеждения ни к чему не приводят.
Он по-прежнему самый маленький, хотя ростом он обещает быть высоким. Но он худенький, кроме того, он болен сейчас. У него грыжа, увеличена мошонка и, поэтому, болит животик. Но он не плачет, вообще он спокойный мальчик.
Но как я боялась за него, когда мы ехали сюда. Ведь мы 60 км. ехали на машине. Дело было под вечер, был сильный ветер и морозный день. Ехали мы в кузове, а не в кабине. Я боялась, что не довезу его. Но он молодец, доехал хорошо, даже насморка не получил.
Живет он в яслях. Его кроватка рядом с кроваткой Аниного Геночки. Растут они как братишки. У них общие пеленки и подгузники, мы с Аней называем их племянниками. У Геночки бас, а у Юрика звонкий со свистом голосок. Он уже, кажется, начинает видеть. Во всяком случае, стал поворачивать головку ко мне, когда я в красном халате. Няня утверждает, что он уже видит. Мне очень жаль, что я не могу послать тебе его карточку. Он такой забавный, такой мурзилка. Но до чего же он курносый, ты бы посмотрела! Прямо Павел I.
Я его несколько раз кормила развернутого. Он схватится ручонкой за платье или за грудь и держит меня. Вообще, мне с ним так хорошо. Кормлю его часа через 2–2,5.
Недавно исполнился год со дня моего освобождения. Я вспоминала тот день, когда дала тебе телеграмму, когда говорила с тобой по телефону и, вообще, все эти 4 месяца, которые я провела на воле. И представь, я все-таки более счастлива сейчас, чем в прошлом году, потому, что у меня есть эта чудесная куколка – Юрик.
Послала ли ты посылку в Широ? Ее оттуда перешлют сюда, если она отправлена.
Чувствую, что ты в большой обиде на Алешу. Ты, конечно, права, но все же известить его о рождении Юрика надо. Его дело – отнестись так или иначе к этому факту. Вообще, конечно, он ведет себя странно. То разыскивал меня в Казачинске и жаловался одному знакомому шоферу, что очень огорчен, не зная, где я и что со мной и, вообще, убивался, по словам этого шофера, написал тебе письмо, а потом вдруг замолчал. Что он писал мне в первом письме? Ты так и не пишешь.
А о какой телеграмме ты упоминаешь? Вероятно, ты телеграфировала в ответ на мою телеграмму. Но я ничего не получала.
Принимают ли теперь посылки? Послала ли ты шерсть какую-нибудь? Пошли фисташковую, я Юрику свяжу кофточку и шапочку.
Сегодня я уже начинаю работать, декретный кончился. Правда, я работала понемногу в конторе, будучи в декретном, все равно надо что-то делать, скучно без работы.
Если принимают посылки, посылай продуктовые. Я хочу дольше кормить Юрика грудью, а поэтому нужно дополнительное питание.
Ты спрашиваешь о родах и прочем. Я писала тебе, что роды были легкие, схватки я проспала и проснулась к тому моменту, когда сошли воды. А после этого минут через 40 родился Юрик. Я даже не кричала, а только немного постанывала. Я, кажется, не писала тебе, что ждала двойню, были подозрения на это. Но хорошо, что родился один, иначе они были бы очень слабенькие.
Ну вот, родная моя, кончаю письмо. Пиши нам чаще. Еще раз пишу адрес: Абан. Красноярского края, Абанская с/х ИТК, 2-й участок, мне.
Целуем тебя крепко. Целуем всех родных, пиши о них, как они приняли рождение Юрика. Твои Миля и Юрик.
Оказывается, декретный отпуск для зэчек заканчивался ровно через месяц после рождения ребенка. Еще бы, стране, еще не полностью победившего социализма, нужна рабсила, ведь колония, как и лагерь – это не курорт, как любили повторять энкаведешники. А поэтому, работа и работа, которая и должна исправить заключенных, ведь не зря же и колонии и лагеря называлась исправительными и трудовыми.
Мама переполнена счастьем от рождения сына, все письма посвящала только Юрику: описанию его внешности, поведения, характера, кормлению и прочим материнским радостям и тревогам. А поводов для тревог было хоть отбавляй, поскольку мальчик родился слабеньким, маленьким и подверженным разным болезням. Бесконечные переезды, в том числе и в кузове грузовика, по сибирским морозам и ветрам не укрепляли здоровья младенца.
БАБУШКА – МАМЕ
21 марта 1940 г.[196]
Милюся моя и Юрик! Дорогие мои ребята! Сегодня месяц твоему сыну, Милюся! Желаю вам, мои родные, быть в скором времени со мной.
Я теперь на почте, зашла после работы, и получила от тебя письмо, моя Миля. Отлегло несколько от сердца. Правду говоря, я волновалась за вашу поездку.
Посылки я тебе послала две. Одну с вещами для Юрика и тебя, и одну с продуктами. Послала я 6-го сего месяца. Теперь я пошлю сюда непосредственно, если к вам примут. Главное, что бы те посылки переслали тебе. Так же завтра сделаю перевод тебе.
Алеша так и не был. 24-го может поеду к нему. Или не стоит? Ты только не огорчайся. Сын у тебя есть, а у меня внук и хорошо. Целую крепко. Мама и бабушка.
Мама адресовала письма не на Большую Коммунистическую улицу, где жила бабушка, а на ближайшее почтовое отделение. Бабушка не хотела, чтобы соседи знали, где находится ее дочь, хотя, конечно, они догадывались, и даже помогали бабушке подносить посылки до почты. Люди были разные, и некоторые очень сердечно относились к Кларишне (так сокращенно называла бабушку одна соседская девочка).
МАМА – БАБУШКЕ
29 марта 1940 г.
Родная моя мамусенька! Опять целых 9 дней не писала тебе. Все не было времени. Ведь я теперь уже работаю. Работаю пока на общих работах, то есть, куда пошлют. То убирала двор, сгребала навоз и солому в кучи, то чурки деревянные складывала, а последние три дня белила. Пожалуйста, не смейся, научилась белить. Правда, здорово разъело известкой руки, но это потому, что после побелки как-то мыла топчаны и полы. В общем, приобретаю новые специальности. Кажется, через пару дней начну работать в яслях няней, но не в тех яслях, где Юрик, а в других, где старшие ребята. В общем, живу неплохо. Привыкаю к здешней обстановке понемногу.
Здесь все не так, как в Ширинской колонии, и первое время мне было странно привыкать, а теперь обжилась. Скучно только без книг, здесь библиотека хуже, чем в Широ, и без людей. Совершенно нет культурных, хотя бы относительно, людей. И это скучно. Скучно без Зины, я к ней очень привыкла и привязалась. Всегда хочется ей рассказать всякие новости.
С питанием обстоит все очень хорошо. Первое время было хуже, чем в Широ, а теперь ввели некоторую реорганизацию в системе питания матерей, и в этом отношении все благополучно. Только хлеб здесь ржаной, а в Широ был пшеничный, так как там сеяли пшеницу, а здесь рожь. Едим три раза в день. Завтраки горячие, часто мясные, затем обед мясной. Сегодня, например, были котлеты и каша с маслом, а на первое картофельный суп мясной и с мясом. Ужин тоже горячий из двух блюд. Кроме того, ежедневно получаем молоко и раз в 10 дней – сахар на декаду.
В общем, я вполне сыта, молока для Юрашки у меня много. А это такой жадный мальчуган, что ему целую корову нужно. Высасывает он много молока, половину разольет по пути, спешит, будто у него отнимут, и молоко течет по губкам на подбородочек. Кроме того, он срыгивает много оттого, что переедает и оттого, что у него грыжа. Я стараюсь не давать ему кричать, это обеспечит выздоровление от грыжи месяцам к трем. Сейчас у него есть в этом некоторое улучшение.
На днях он у меня хворал. Перепугалась я до смерти. Вдруг ночью, когда я кормила его, он начал плакать, плакал долго и очень жалобно. Всю ночь я просидела с ним, не спуская его с рук. Он много плакал, и вообще, было видно, что ему плохо, грудь не брал, стал сразу какой-то мягкий и податливый. А вообще, он упругий мальчишка и так упорно сопротивляется, когда его пеленаешь, а тут позволял делать с собой что угодно. Утром у него была небольшая температура. Все время он не мочился. В этом и было все дело. Врач посмотрел его, сделал массаж, Юрка пустил фонтан, сделав при этом уморительную мордашку, как обычно он делает при этих делах, и сразу стал по-обычному спокоен и заулыбался.
Все же в этот день он был немного нездоров. Я ему давала уротропин. К вечеру он совсем поправился и теперь вполне здоров. Он подрос, стал крупнее, очень подвижный. Вот что, мамуся, пришли в конверте для него сухой укроп, наверное, где-нибудь можно достать. Здесь нет, а ему надо пить укропную воду от грыжи.
Юрику уже пошла шестая неделя. На днях его зарегистрировали в Загсе.[197] Теперь у него есть метрика. Фамилию я ему дала нашу. Правда, он на меня совсем не похож. Возможно, глаза будут мои по форме и ножки у него наши, такой же изгиб под большим пальцем, как у меня, и потом, он хмурит брови, точно как папа или Анюта, совсем по-Виленски. Я ему часто рассказываю про бабушку, и он так смотрит на меня, будто что-нибудь понимает.
Воспитывается он далеко не по последнему слову техники: и пустышку сосет, и качают его, чтоб уснул, и ест он не строго по часам, а когда проснется. Но, в общем, ничего, может здоровее будет. Купаться он очень любит, на воздухе совершенно не бывает, маленьких не выносят, так как не очень благоприятная погода и ребятишки кашляют. Юрик тоже немного покашливает. Ну вот, родная моя, все о нашем малыше написала.
Посылки от тебя я обе получила. Их переслали из Широ, и они пришли сюда числа 26-го. В общем, все путешествие заняло дней 20. Это, конечно, немного. Все пришло в полной исправности, только немного рассыпалась картофельная мука. Большое спасибо за все. Юрик у меня теперь богатый жених. Рубашечки, которые побольше, ему будут велики еще долго: он ведь маленький. Очень я благодарна за Светочкину карточку. Какая чудесная девочка. Она просто красавица. Передай Лиде[198], что я ею очарована, и все, кто видел карточку, восхищались девчуркой.
Продуктами я теперь надолго обеспечена, при том питании, какое я получаю. Правда, аппетит у меня бешеный, после каждого кормления должна покушать, но, все равно, я хорошо обеспечена, особенно теперь.
Что касается вещей, то тут дело хуже обстоит. Все мои платья либо узки, либо широки, либо с таким вырезом, что кормить нельзя. Все надо переделывать. Синяя юбка безнадежно узка, Анютин костюм широк и длинен. Хороша только блузка, она вообще миленькая.
Посылками я очень довольна и очень благодарна за них. Теперь не спеши с посылками, так как я всем обеспечена, а когда будешь посылать, пошли фисташковую шерсть, я Юрику свяжу что-нибудь, и какое-нибудь одеяло для меня. Я свое изрезала Юрику, когда мы были в той колонии, так как у него не было ничего теплого.
Ну вот, родная моя, все написала. Пиши мне обо всех подробно. Видела ли ты еще Алешу? Знает ли он о Юрике? Как к рождению Юрика отнеслись все родные и друзья? Как бы мне хотелось быть вместе с вами и показать моего Юрашку. Он очень миленький, его нельзя не любить.
Будь здорова, мамусенька, береги себя для нас. Время пролетит быстро, и мы будем вместе растить нашу капельку. Ведь осталось всего полтора года. Целую тебя и всех родных крепко-крепко. Твои Миля и Юрик.
МАМА – БАБУШКЕ
5 апреля 1940 г.
Родная моя мамусенька! Получила от тебя сразу много писем: открытки от 15-го, 21-го, и 27-го и письмо от 11-го. Кроме того, вчера же получила письмо от Зины. Рада была очень и очень.
Посылки я получила 27-го в полной исправности, все дошло и ничего не испортилось. Хватит мне этого надолго. Питаюсь я хорошо.
Теперь буду отвечать на твои письма. Начну, конечно, с самого главного – с Юрика. Вчера ему исполнилось 6 недель. Он сильно вырос, много ест, правда, срыгивает много тоже. Молока у меня для него хватает с избытком. Я много ем, почти после каждой кормежки что-нибудь съедаю.
Он такой же забавный, как и был, любит лежать раздетый с освобожденными ручонками. Как только его положишь играть на стол, он сразу ручонки к мордашке и обязательно оцарапает щечки. Хватает себя за уши, даже за глаза. Тут же он таращит глазенки. А глаза у него замечательные: большие и черные, черные с блеском. Сам он смуглый, головка черная. Чудесный парень.
Он здоров, грыжа его проходит, видимо. Во всяком случае, она его не очень тревожит. Вот если б еще получить для него сухой укроп, чтоб сделать укропную воду, было бы совсем хорошо. Мне очень жаль, что ты еще до сих пор не видела Юрика. Но ничего, скоро увидишь. Можешь быть уверена, что он тебе понравится. Посылаю тебе его ручонку. Обводили мы вдвоем и с большим трудом, так как Юрику в этот момент захотелось держать меня за палец или вообще согнуть пальчики в кулачок.
Купают его не очень часто, дня через 4. Это потому, что ребятишки простужены и их часто не купают. На прогулку он вовсе не ходит из-за погоды. Но в первый же теплый, главное, безветренный день, я его вынесу.
За появление Юрика на свет ты должна, прежде всего, благодарить НКВД. Если б меня не арестовали тогда, то, возможно, я бы предприняла что-либо, чтоб его не было. У меня, грешным делом, мелькали соображения на этот счет, и даже я вела кое-какие переговоры об этом[199]. Но неожиданный арест обеспечил Юркино существование. Я очень рада этому обстоятельству. Я Юрику рассказала о твоих письмах, он, конечно, ничего не понял, но слушал внимательно.
Что касается Алеши, то ты напрасно думаешь, что я огорчаюсь его поведением. Нисколько. Конечно, приятней было бы, если б он проявил больше внимания к рождению сына, но огорчаться я вовсе не собираюсь. В конце концов «Мавр сделал свое дело, мавр может идти». Ехать тебе к нему незачем. Можно просто известить его письмом о рождении сына и о том, где мы находимся. Найдет нужным – приедет или напишет, нет – тем хуже для него: сын его знать не будет.
Что же касается материальной стороны, то я считаю, что ты не имеешь права отказывать себе во всем, чтоб поддержать нас. Вместе с тем, мне бы не хотелось взыскивать с него алименты – пусть ребенок будет только мой. Будь я на свободе, я бы смогла сама обеспечить ребенка, но в этих условиях я вынуждена прибегать к твоей помощи, а ты и сама едва концы с концами сводишь. Поэтому, я подожду еще немного, чтоб более точно выяснить его отношение к ребенку, а потом подам иск. Правильно, мамуся?
Все твои письма, адресованные в Широ, так же как и посылки, немедленно пересылали сюда. Принимают ли теперь посылки из Москвы или приходится выезжать куда-нибудь?
Часы и ручку мне прислали в Широ. Ручка здесь, в Абанской, а часы я оставила в Ширинской, чтоб ими пользовался врач. Не знаю, носит ли он их, но знаю, что они под контролем Зины.
Махорку, мамусенька, пришли, поскольку она у тебя куплена. Я курить не буду, раз бросила, то пока не собираюсь возобновлять. Пусть Юрка растет здоровым. Но здесь совсем нет курева, и люди страдают, а я, как старая курильщица, понимаю их. Сама же я не испытываю тяжести от того, что не курю.
Укрываться Юрашкиным одеялом я, конечно, не могу, ведь я чуть-чуть больше него. Я укрываюсь Зининой ватной подстилкой, которую мы бросили в Казачинске, а когда попали туда снова, взяли. Эта подстилка служит мне 3 года и выручает сейчас. В ней я везла Юрашку. Если это будет не очень сложно, пошли мое голубое одеяло. Простыню, которую я изрезала на пеленки, я сшила снова. Анютину юбку я переделала по себе, переделаю и жакет. А синюю юбку я обменяла на чемоданчик, так как не в чем держать вещи, а юбка безнадежно узка. Никакого конверта для Юрика не покупай. У него и так в наших условиях слишком богатое приданное, а ватное одеяло, которое, по-твоему, неважное, здесь роскошное и необходимо для прогулок.
Я очень рада, что тебя премировали. Ты у меня молодец!
Из продуктов можешь посылать все, что есть. Я ем все, ведь я вообще не привередлива. Посылай то, что подешевле, не надо никаких деликатесов. Важно, чтоб были жиры. Вообще, эта посылка была очень удачной. Можно еще чего-нибудь соленого. Того, что ты прислала, хватит надолго, хотя я не отказываю себе ни в чем.
О моем здоровье не беспокойся. Я чувствую себя очень хорошо, поправилась и выгляжу прилично. Почки в полном порядке, сердце тоже, а зубы надо лечить, но негде, да они меня не тревожат. Во время беременности сердце немного пошаливало, отекали ноги, бывали перебои. Но теперь ничего этого нет. Принимала я конволяри. А сейчас мне ничего не требуется.
Аня с ребенком тут же. Ребятишки наши спят рядом и пеленки у них общие. Когда Юрик хворал, он в тот день мало ел, а молока у меня было много, у Ани же не хватало. Я покормила в тот день ее сына. Он сейчас хворает, у него был грипп и, кроме того, у него пупковая грыжа и он много кричит.
Была ли ты у прокурора? Есть ли надежды на пересмотр? Послала ли ты свою карточку или только собиралась? Ее в письме не было. Пришли мне карточку Юрия, где он с Котей.[200]
Как все наши? Я хочу знать, как они относятся к Юрику.
Я работаю на общих работах. То убираю двор, то чурки таскаю, то белю, то зерно перелопачиваю, а то в конторе помогаю. В общем, иду туда, куда посылают. Скоро ясли переедут на Центральный участок, там мне, наверно, дадут более определенную работу.
Мамуся, когда будешь посылать посылку, пошли шерсть светлую, у меня там есть фисташковая, красная. Пошли и маленькие клубочки для отделки. Я свяжу Юрику кофточку и всякие шапочки и туфельки. Кроме того, пришли мулине мое. Много не посылай, но цветов 5 – 6 по 1 мотку. Если есть тонкие белые нитки, пришли тоже. Обязательно присылай мыло: и туалетное, и хозяйственное. Вот и все мои заказы.
Ну пока, родная моя, все. Надо идти работать. Сегодня я на уборке усадьбы, сгребаю лопатой куски льда от колодца. Скоро позовут к Юрику. Сегодня отправлю это письмо и постараюсь почаще писать тебе.
Целую тебя очень крепко. Юрик тоже целует и обнимает свою бабушку. Очень хочу к тебе и ко всем родным. Твои Миля и Юрик.
МАМА – БАБУШКЕ
12 апреля 1940 г.
Родная моя мамусенька! Сегодня получила твое открытое от 30 марта. Ты не беспокойся, если от меня долго нет писем. Я пишу часто, но бывает задержка с отправкой, даже по моей вине. Вообще ты же знаешь, что иногда не всегда и время есть. А если б что-нибудь случилось, или я или Юрик заболели бы, то в таком случае всегда чаще пишешь, чтоб ты не тревожилась. Не, мамуся, все благополучно, я чувствую себя очень хорошо.
Юрашка мой здоров, хорошо кушает, вырос и повзрослел. Уже понимать начинает, улыбается уже сознательно, а сегодня даже смеялся с голосом. Начинает держать головку, очень любит лежать раздетый и махать ручонками и ножками, а сам, тем временем, такие уморительные рожицы строит, что просто удовольствие. Очень милый мальчуган. Сейчас пою его содовой водичкой, чтоб не срыгивал.
Работаю я сейчас уборщицей мужского барака. Это меня устраивает, так как я более свободна, могу больше времени уделять Юрику, посидеть с ним в яслях, лучше выспаться. А ты же знаешь, как кормящей матери всегда хочется спать, потому что спишь с перерывами. Несколько дней я работала на пилке дров. Успела загореть на солнышке. Вообще, мне не вредна физическая работа, тем более что ею никогда не занималась.
Что касается Алеши, то действительно – Аллах с ним. Он располагал всеми возможностями, чтоб узнать о Юркином рождении, даже без того, чтоб писать мне, если его связь со мной компрометирует. Если же он этого не сделал, то он недостоин такого чудесного сынишки, как Юрик. Похож Юрик на него до смешного. Не знаю, как теперь быть с материальной стороной. Как твое мнение?
Я хочу, возможно, дольше не прикармливать Юрика, а для этого мне нужно лучше питаться. Сейчас это не сложно, так как я получаю паек и буду получать его до шести месяцев, а потом ребенок переходит в основном на прикорм, но продолжает одновременно питаться материнским молоком. Так как Юрке будет 6 месяцев в августе, то есть в самое поносное время, то я постараюсь не переводить его на прикорм, и вот тогда мне важно будет питание. Напиши, что ты думаешь на этот счет.
Ну, мамочка, становится темно, а я хочу, чтоб это письмо ушло завтра.
Пиши обо всем подробно, обо всех родных. Целуем всех родных. Твои Миля и Юрочка.
МАМА – БАБУШКЕ
12 апреля 1940 г.[201]
Родная моя мамуся! Получила твою открытку от 5 апреля и посылку. Большое спасибо за все. У меня от прошлой посылки еще много всякой всячины осталось. Не посылай так много сахара, ведь я еще и материнский паек получаю 1 кило в месяц и его не съедаю. Лучше дешевых конфет, если есть. В общем, с питанием у меня обстоит замечательно. Жаль, что табак не прислала, вся колония страдает по куреву. Я же не курю.
Когда будешь посылать следующую, пошли мыло и хозяйственное и туалетное, а также синьку, та где-то затерялась. Обязательно пошли шерсть фисташковую для Юрика и пары 2 моих чулок, я сама заштопаю. Хотелось бы скорее получить ответ из Прокуратуры, да еще положительный. Вот было бы хорошо!
Юрик мой здоров, растет и становится все забавней. Он уже что-то понимает, а поэтому, учится капризничать. Если я задержусь минут на 5 к кормлению, он, капризничая, голосом плачет. Очень он миленький. Пиши, родная, о себе и о родных. Как они относятся к Юркиному появлению. Целуем тебя очень крепко. Твои Миля и Юрик.
МАМА – БАБУШКЕ
20 апреля 1940 г.
Родная моя мамусенька! Получила от тебя посылку и заказное письмо. А тебе после посылки отправила открытку. Спасибо, моя хорошая. Посылка шла всего 10 дней. Все пришло в полной исправности. А я даже еще не успела уничтожить продукты из предыдущей посылки. А ведь я себе ни в чем не отказываю, хорошо питаюсь.
Вчера я внимательно посмотрелась в зеркало, предварительно нарядившись и подмазавшись, и обнаружила, что я поправилась и выгляжу не хуже, чем когда в Москву приехала. Это, несмотря на то, что мой Юреныш высасывает из меня такую бездну молока, что я после каждого кормления вынуждена сама что-нибудь поесть. Видимо, мне на пользу пошло материнство и то, что я бросила курить.
Живу я вообще неплохо. Работаю на общих работах, неделю проработала уборщицей мужского барака, а потом попросила перевести на общие работы. Тяжело мне полы мыть. Только начну – вызовут к Юрику, а приду обратно – вымытого места не найду, так его извозят грязью. Вчера опять работала на воздухе, сгребала мусор, солому, навоз.
А сегодня у нас выходной. Выспалась вволю, позавтракала, Юрика покормила и уложила и тебе села письмо писать. Еще и Зине напишу.
Вчера у нас был вечер, ставили спектакль, и я суфлировала. Проморила бедного Юрашку из-за этого. Но он, кажется, не очень был на меня в обиде. Когда я пришла, он яростно набросился на грудь и столько наулыбался мне, что я сразу поняла, что он мне обрадовался и на меня не сердится.
Вот уже дня три, как он стал сознательно улыбаться и хохочет во весь ротик, когда ему чмокаешь губами или легонько постукиваешь пальцем по его курносому носишке. Но до чего же он курносый! И в кого это он такой угодил? Ведь и Алеша не курносый. А у Юрки нос на одной линии с подбородком. Так и кажется, что маленьким рубанком уровняли носик с подбородком.
Вообще, он очень миленький, это не только я нахожу, но и другие матери. У него большие черные глаза и черные, красиво изогнутые брови и ресницы. Он еще очень худенький, ручки и ножки, как палочки, но все же он заметно поправляется. Хворать он не хворает теперь. Раза два у него болел животик, но грелочка его моментально успокаивала. Что же касается того случая, с задержкой мочи, о котором я тебе писала, то это больше не повторялось.
Врачи здесь есть и очень неплохие специалисты по детским болезням. Как только я заметила тогда, что Юрик болен, тут же обратилась к врачу, и Юрашке немедленно была оказана нужная помощь, и все прошло. Думаю, что это было связано с тем, что до того дня у него в мошоночке было только одно яичко, а другое задержалось в брюшине. В связи с этим, у него была грыжа. А в тот день к вечеру обнаружилось и второе яичко. Должно быть, оно в этот день вышло. А думали, что Юрик так и останется с одним. Теперь у него признаков грыжи нет. Он спокоен и марается хорошо.
Завтра ему два месяца, совсем взрослый парень. Я уже писала, что он стал сознательно улыбаться. Видит он уже давно: следит глазками за мной, когда я его, укладывая в кроватку, обойду вокруг кроватки. Любит лежать не запеленутый и водить ручонками и ножками. Может по часу и больше пролежать так и играть. Обычно его в таких случаях кладут на стол, где пеленают ребятишек, возле печи. Ему там тепло и поиграть есть где.
Сегодня я пойду к нему и дольше с ним просижу, так как выходной. Люблю смотреть, как он играет, как таращит глазки и складывает трубочкой ротик. Я его расцеловала от тебя, как только получила твое письмо, рассказала, о чем бабушка пишет, и он внимательно слушал. Потом он меня два раза чмокнул в щеку. Это, по-моему, для передачи тебе. Так что принимай поцелуй от внука. Я убеждена, что когда вы познакомитесь друг с другом, то будете крепко друг друга любить.
Рассказала я ему, какой тебе сон снился. А мне, мамочка, каждую ночь один снится сон: будто меня в ясли вызывают. Я говорю: «сейчас», – и все не иду и, просыпаясь, не могу понять, во сне это было или наяву, и надо ли спешить в ясли. Часто сажусь на кровать и собираюсь одеваться, а потом соображаю, наконец, что это был сон.
А позапрошлую ночь я совсем собралась, уже надела халат, шапку и валенки. Сняла с вешалки пальто, но в этот момент в барак пришла дежурная няня и спросила меня, куда я собираюсь. Когда я ей ответила, что я в ясли, она посмеялась надо мной и сказала, что никто меня не звал, а Юрик крепко спит и есть ему не время. Посмеялись потом надо мной. А мне пришлось раздеться и лечь спать.
Ну, вот сколько о Юрике написала и о себе. Повторяю, что молока для Юрашки у меня много: одной грудью кормлю, а из другой течет, как в первые дни после родов.
Заявление о перемене адреса мне лень писать. Если будет положительный ответ – найдут меня, а если отрицательный, то зачем спешить?
Спасибо, родная, что ты написала обо всех наших. А где теперь Наталия Михайловна? Все у Анюты?
Скажи Марочке[202], что я ею недовольна. Мы с ней когда-то заключали договор: она обещала хорошо окончить школу. Пусть-ка подтянется. Чем хворала Фаня?
Ты мне так и не пишешь, как мои тетушки приняли Юркино рождение? А я хочу знать об этом. Впрочем, все равно Соня и Анюта в него немедленно влюбятся, как только его увидят. Ведь, кроме всяких достоинств, которыми он обладает, он хмурит брови совсем как настоящий Виленский, и у него над переносицей образуются две морщинки, как у Анюты и у моего папы. Перед этим не сможет устоять ни Анюта, ни Соня.
Ты спрашиваешь, что мне необходимо. Я, право, сама не знаю. Пожалуй, нужны мне блузки и пары две чулок. Обувь у меня есть, все можно починить, ботинки совершенно целы, я совсем недавно стала их носить. Думаю только тапочки здесь купить.
Из белья пришли мне пару рубашек простых, но крепких. Непременно пошли шерсть для Юрика и мулине мое. Юбку из Анютиного костюма я переделала, надо будет жакетом заняться. Кроме того, у меня здесь Зинин шерстяной жакет, я его взяла, когда уезжала, да и в Широ в нем ходила. Синюю юбку я обменяла на сундучок с замком, так как негде держать вещи и продукты, а держать их открытыми нельзя – народ всякий. Одеяло Юрочкино пусть для него останется, да мне оно и мало. Я укрываюсь Зининым ватным одеялом старым. Оно в Казачинске служило нам подстилкой.
На Юрика не обижайся, это он только во сне не хотел тебя признать, а наяву будет крепко любить.
Ну вот, мамуся, какое я тебе письмо большое написала. Отправлю его завтра, а пока оставлю место, может быть, еще что-нибудь напишу.
Целуем крепко тебя и всех родных. Рада моя бабушка новому правнуку? Твои Миля и Юрик.
МАМА – БАБУШКЕ
27 апреля 1940 г.[203]
Родная моя мамусенька! Получила твою открытку от 19 апреля. Как же я могу на тебя сердиться, если ты хворала. Как твое здоровье теперь? Смотри, мамуся, береги себя, ведь у тебя теперь большая семья.
Юрашка здоров, грыжа у него прошла, да и была не пупковая. А укропная вода ему нужна, чтоб не срыгивал. Он очень много срыгивает. Вырос он и пополнел, но ручки худенькие. Стал смеяться осознанно. Что-то говорит, любит лежать раздетый и размахивать ручонками и ножками. Стал поднимать одну бровь выше другой, как настоящий Виленский. Он тебя крепко целует.
Пришли, мамуся, марли метров пять. Это нужно для Юрика на лето, чтоб затянуть его кроватку. Ведь здесь мошка и комары. Когда будешь посылать посылку, пошли всякие супы и бульона в кубиках, каши и прочее, что есть. Это стоит не дорого, кажется. Пришли также пуговки маленькие перламутровые, совсем маленькие и чуть побольше.
У меня пока ничего нового нет. Работаю, по-прежнему, на общих работах. Сейчас работаю на уборке навоза, отгребаю вилами и граблями. Все время на воздухе.
Пиши, родная моя, подробно обо всем. Как твое здоровье, как сердце? Целую тебя крепко и всех родных. Твои Миля и Юрик.
МАМА – БАБУШКЕ[204]
(Начало письма утрачено)
1940 г.
Погода стоит очень теплая. Юрик у меня уже гулял два раза. Сегодня ветер и я его не носила гулять. Дни все время солнечные. Уже немножко пахнет весной. На озере подо льдом наши рыбаки ловят рыбу. Здесь в озере водятся только окуни. Мы ежедневно едим свежую рыбу, очень вкусную: и уху, и сибирские пироги с рыбой.
Ну вот все о себе и сыне.
Я очень рада, что Алеша произвел на тебя хорошее впечатление. Видимо, он не получил мое письмо. А я ему не пишу сейчас, ожидая от него. Пожалуй, завтра я ему напишу и вложу в письмо к тебе. Мамуся, а почему ты решила с посылкой ехать в Калинин? Неужели ближе никуда нельзя? Зину еще не видела. Она собирается сюда приехать, но сама не знает когда.
Ну, мамусенька, до завтра. Завтра еще напишу. Целуем тебя крепко. Твои Миля и Юрик.
Ничего нового пока нет. На днях опять напишу. Целую всех родных. Миля.
БАБУШКА – МАМЕ
21 мая 1940 г.
Мои дорогие Милюся и Юрашечка! Вот сегодня 3 месяца твоему сыну. Как-то он выглядит? Поправился ли? Бывает ли на воздухе? Как твое здоровье, моя Миля?
Письмо от тебя получила, которое ты писала несколько дней.
Хорошая ли у вас погода? У нас весна неважная: теперь уже тепло, но дождей нет. 12/V я тебе послала 2 посылки. Список прилагаю. Теперь уже и этой возможности нет. Как ты там будешь жить и кормить ребенка, не знаю. Это мне так тяжело, что представить себе не можешь. Я себя утешаю тем, что, если ты получишь эти посылки своевременно, то на месяц должно хватить, а потом, может, положение изменится, и я смогу тебя поддержать питанием. Поживем – увидим. Главное, я послала махорку, которая у меня была уже давно куплена, и это не так просто было достать. Просто, где только кто-нибудь из знакомых встречали махорку в продаже, они для меня покупали.
Меня теперь только беспокоит: в порядке ли ты получишь посылки. Как только получишь – сообщи. Марли больше, чем я послала, не могла достать.
Знаешь, моя Милюся, вот еду я в трамвае, и когда едут матери с ребятами, я смотрю и думаю, а какой-то мой внук? Вчера маленькая девочка мне улыбнулась, и когда я спросила мать, сколько ей, она сказала, что 1 месяц. Вот видишь, какие ребята уже в 1 месяц смеются. Да, моя родная, раньше я смотрела на тех, кто в положении и представляла себе мою Милю. Как хочется дождаться, чтобы ты была со мной. И ты скрасишь мою старость, а я, может, смогу облегчить твою жизнь.
Завтра иду на Дмитровку 15[205]. Что-то мне скажут? Ведь раньше говорили в справочной, что ждите ответа в конце апреля, а теперь дали талон к прокурору (я была 17/V). Результат напишу. Может быть, надо было копию постановления нарсуда из Казачинска для подачи в Верховный Совет? Если тебе это доступно, то достань. Пока напишешь и вышлешь, на все время надо, а время идет своим порядком.
Я работаю по-прежнему. С 1-го июня назначен мой отпуск, если не отложат, то пойду, буду, конечно, дома.
Пиши, впору ли тебе туфли, которые послала.
Да, Милюся, в прошлой посылке, я, помимо ватного одеяльца для ребенка, послала еще байковое, новенькое одеяльце светло-серенькое, скорее голубое, очень мягонькое. Получила ли ты, а то не пишешь, а я забываю спросить.
Нового у нас ничего. Фаня собирается куда-то на дачу. Куда – не знаю. Возьмет, наверно, бабушку. И я отдохну одна. Может, Соню попрошу пожить со мной. У нас все-таки тихая квартира, а у них шум от трамвая. Анюта на лето уезжает с детсадом недалеко от Москвы, а работает в больнице. Дядя[206] теперь в больнице. Немного подлечить надо его.
Ну вот и все. Будьте, мои дорогие, здоровы. Целую крепко. Твоя мама и бабушка.
БАБУШКА – МАМЕ
21 июля 1940 г.
Моя Милюся, родная! Сегодня 21/VII знаменитый день, и Юрашечке 5 месяцев. Очень жаль, что в прошлом году этот день не был выходным. Вчера только получила твое открытое от 5-го сего месяца. Где-то странствовало. А я, правду говоря, очень волновалась. Хотя, моя Миля, я стараюсь успокаивать себя, что одно письмо могло затеряться и поэтому получается интервал. Но, как видно, нервы очень потрепаны у меня. Ведь ничего у меня в жизни нет, кроме тебя и теперь твоего ребенка.
Целый день я занята, и счастлива, что работаю, а работаю на «отлично», работать люблю. Отношение мое к работе, вообще, ты знаешь, а к государственной нашей работе, тебе тем более известно. Начинаю свой рабочий день в 14 часов. Из дому уезжаю в 13 часов. Кончаю к 22 часам без перерыва. Домой приезжаю в 2330. Утром дома надо приготовить кушать и постирать, погладить. И так день в день. Если удается, побегаю по твоим делам. И это пока безрезультатно. 26-го пойду в Прокуратуру и я заранее знаю, что справочная даст направление к прокурору на какое-нибудь число. Словом, потом напишу.
Вчера приезжала Фаня. Выглядит неважно. Имела жестокую ангину. Мара начала готовиться в институт иностранных языков.
Бабушка поправилась и уже ходит по комнате. Я ей все приготавливаю и она одна до моего прихода с работы. Анюта тоже была больна малярией, но теперь работает на даче в детском саду, и также в Боткинской больнице. Дядя с Наталией Михайловной, а Соня на квартире, я кажется, тебе уже об этом писала.
Относительно посылки, то я нашла список, как будто все. Я не помню, ты в предыдущей посылке получила конфеты крыжовник 1 кило и 1 кусок туалетного мыла и кусок для стирки. Но я не помню, в этой это было или посылкой еще с Александровска[207].
Теперь с Можайска не принимают посылок. Такое же положение и с Москвы, только для Красной Армии в воинские части принимают посылки. Но если в вашем 2-м участке есть № п/я (почтового ящика), то напиши мне и, возможно, мне бы удалось послать. Непременно напиши. Я пока ищу другие возможности, но пока безрезультатно. Даже не знаю, что и делать, разве обратиться к Тале[208]? Я бы ей денег перевела, но не знаю, насколько это удобно. Ты же, моя дорогая, пиши, что тебе надо.
Какао я приготовила, да и соки куплю, что просишь для Юрашечки. Но как послать?
Письмо это я завтра отправлю, когда пойду на работу. Если что получу от тебя – припишу.
Ты не пишешь, в каком виде получилось масло, не испортилось ли оно. Да сахар-то. Эти коробочки как-то не очень полные, а с одной мне пришлось 14 кусков снять, так как было больше весу. Сухари положила не полное кило, чтобы заполнить ящик, наверно, пришли в таком виде, что кушать нельзя.
На днях послала тебе двойную открытку, а когда опустила в ящик, вспомнила, что марок не добавила. Пошли открытки с 10 копеечными марками. И тебе, моя родная, придется доплатить, такая досада.
Книжки и конверты, тетрадь общую послала бандеролью, ведь до сих пор могла это делать, посылки этим не стоит загружать.
Будь здорова, моя дорогая. Целую тебя и сынишку очень крепко. Твоя мама и бабушка.
22 июля, 22 часа.
Утром не успела быть на почте. После работы зашла. Получила твое письмо от 10-го сего месяца, законченное 13-го сего месяца, а печати Абана 15-го сего месяца.
Да, моя дорогая, ты там волнуешься, а я здесь. Передумала всякого. Не помню, я, кажется, часто пишу: не волнуйся, моя Миля, береги ребенка. Я стараюсь быть здоровой для вас, мои родные, невинные.
Напиши обязательно, может есть п/я (почтовый ящик), для возможности посылать посылки. Целую, твоя мама.
И мама, и бабушка все-таки не теряли надежд на пересмотр маминого «дела». Они постоянно пишут в разные инстанции, получают одинаково отрицательные ответы, снова надеются и снова пишут. В письме имеется одна подробность, которая мне нигде не попадалась, хотя она очевидна. К прокурору на прием сразу попасть нельзя. Надо сначала записаться, получить талон и через какое-то время явиться на прием в строго указанный день и час.
Обращает внимание еще одна деталь довоенного быта. Из Москвы и Московской области перестали принимать продуктовые посылки. Их принимали только на адрес почтовых ящиков для Красной Армии. С чем это было связано, выяснить не удалось. Возможно, родное советское правительство решило, что негоже гражданам заниматься перераспределением продуктов и занимать государственную железную дорогу разными глупостями. А может быть, прав Виктор Суворов, который в своих книгах доказывает, что Сталин именно в это время усиленно готовился к войне, и почтовые вагоны были нужны для иных целей.
И еще. Как же бабушка мечтала о встрече с внуком и дочерью! Эту встречу она видит во сне, ее внимание привлекают сначала беременные женщины, в которых она видит свою дочь, а затем новорожденные малыши, в которых она пытается разглядеть своего внучонка. Ее письма, как и мамины, переполнены счастьем от рождения Юрика и тревогой за его благополучие, здоровье и жизнь. Они отсчитывают недели, месяцы со дня его рождения, как бы подгоняя время, чтобы быстрее прошел этот опасный догодовой период в жизни малыша. Кто знает, возможно, они предчувствовали, что счастье их будет непродолжительным, что близится печальный конец, и гнали от себя черные мысли.
МАМА – БАБУШКЕ
21 августа 1940 г.[209]
Родная моя мамочка! Все ограничиваюсь одними открытками и все по той же причине – нет времени. Сегодня Юрику полгода, вот он какой взрослый. Я отправила тебе открытку дня 3 назад, от тебя получила от 9/VIII. Я по-прежнему работаю на зерноскладе. Зине я не писала целую вечность, она, наверно беспокоится, но ничего не могу поделать. Как ты живешь? Ты ничего о себе не пишешь. Когда будет у тебя отпуск?
Юрик наш здоров, опять немного кашляет, у него бронхит, ставили ему банки, и стало лучше. Он очень смешной и забавный. Мне очень хотелось бы показать тебе его.
Ну вот, родная, времени так мало, так быстро оно идет, что глядишь, незаметно еще год пройдет, и я начну готовиться к отъезду. На эту зиму мне потребуются валенки, мои износились, и какое-нибудь сооружение на голову. Остальным я всем обеспечена. Ну, моя хорошая, пойду сейчас к Юраше, он, наверно, хочет есть. Передай от меня всем родным, что я очень хочу, наконец, увидеть их и показать им Юренку. Целуем крепко нашу хорошую мамочку и бабусю. Твои Юрик и Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
31 августа 1940 г.
Родная моя мамуся! Получила твое письмо от 23/VIII. Теперь жду посылку. Спасибо, мамочка. Получила и 5 рублей. Пишу на работе во время маленького перерыва. Позавчера отправила тебе открытку. Хочу, наконец, написать письмо.
Так у меня все по-прежнему. Работаю и кормлю нашего малыша. Он уже взрослый совсем. Его велено с двух грудных кормлений снять и перевести на прикорм.
(Кем? Почему? Зачем? Ребенок слабенький, ему всего-то чуть более 6-ти месяцев, ему бы материнского молочка поесть. Но Советскому государству не хватает рабсилы. Н.В.).
Правда, он еще плохо ест, приходится докармливать грудью и во время обеда и во время ужина. Он уже стал приучаться. За 24 дня он прибавил 675 грамм. Но вообще он маленький, всего 5 кг. 600 грамм. Нельзя сказать, чтоб он был худым, он упитанный мальчуган, но не полный. Очень живой и подвижный. Сидеть самостоятельно еще не умеет. Зато без конца болтает и уже не только гласные звуки, но и согласные. А мое материнское сердце трясется как овечий хвост от радости, когда я прихожу и вижу его улыбающуюся рожицу. Он всегда встречает меня с улыбкой и криком.
1 сентября
Получила час назад от тебя посылку. Большое спасибо, мамуся. Обидно только, что нет табаку и мыла. Мыло только детское, но придется его для себя использовать, так как на детей мыло дают, а я совсем без мыла, и белье стирается в одном щелоке.
Получила я следующее: масло с шоколадом в большой банке, банки простого масла, баночку варенья, кило сахара, чернослив, чернику три пакетика, чай, детское мыло, мочалку, клеенку, одеколон, башмачки Юрику, рейтузы и штанишки, платьица, 2 пары чулок, марлю и десяток папирос. Теперь Юренка у нас обеспечен опять и я вместе с ним.
Сейчас, вообще, улучшилось питание, правда нет жиров, но есть мясо, рыба и овощи. Молоко я получаю и сахар. Но это только до 21 сентября, то есть до семи месяцев, а там видно будет.
Носильными вещами я обеспечена. У меня 2 летних платья, бумажная синяя юбка (выменяла на блузку), 2 блузки, шерстяной костюм и шерстяной Зинин жакет. Белья тоже хватит. Вот нитки мне очень нужны: и черные и белые. На будущее мне нужны также валенки, мои уже порвались основательно, и вообще они холодные. Зимнее пальто мое у Шуры Ивановой в Красноярске, там же и шапка с ушами. Может быть, не стоит тебе их затребовать. Через год, когда я буду возвращаться, я заеду и возьму, тем более, что в том пальто, которое у меня здесь, ехать будет не очень прилично.
Книги, которые ты послала, целы. Больше не посылай. А бумагу и конверты – обязательно пошли бандеролью. Нельзя ли послать бандеролью табак? Почтовый ящик здесь есть, но он не зарегистрирован в общем списке, поэтому, наверно, ничего не выйдет. Его номер я сообщу тебе на всякий случай через некоторое время.
Очень скоро должны переехать в Центральный, в новые ясли. Там уж нельзя будет заходить в спальную к детям, и сидеть у ребенка все свободное время. Это хуже. Но в отношении работы там будет легче. А в общем, видно будет.
Пиши, как ты живешь, как все наши. Чьи это платьица и штанишки? Все они Юрке велики. Он ведь маленький.
Я хочу через год поехать куда-нибудь на Север, если и ты поедешь вместе с нами.
Ну, моя хорошая, пока все. Может быт, вечером еще припишу. Целуем крепко нашу любимую мамочку и бабусю. Твои Миля и Юрик. Привет и поцелуй всем родным.
МАМА – БАБУШКЕ
13 сентября 1940 г.[210]
Родная моя! Сегодня утром часов в 6 –7 умер наш мальчик. Что еще писать тебе? Последние часы жил на камфаре, мог бы выжить, но слишком много болезней за раз. Сейчас он лежит на кроватке и остывает, а я пишу тебе. Ты за меня не болей, видно уж участь моя такова, что счастье бывает у меня кратковременным. Но эти 6 месяцев я была счастлива. Когда он умер, он оказался поразительно похожим на моего папу, особенно на ту карточку, где папе лет 20, особенно нижняя половина лица.
Я здорова, держу себя крепко в руках. Ведь у меня есть ты, и я тебе нужна. Да, явления менингита прошли еще вчера. А в общем, теперь это уже не важно. Крепко целую и обнимаю мою родную, хорошую мамочку. Твоя Миля.
Он умер от менингита.
Уже в двух последних письмах чувствуется усиливающаяся тревога за жизнь малыша. Мама вновь стала курить, чтобы снять напряжение и от ухудшающейся обстановки в колонии и от беспокойства за Юрика. Но мама уверена, что все еще обойдется, верит в чудо – ребенок поправится, хотя, почти в каждом письме пишет, что Юрочка был слабеньким и худеньким, постоянно хворал, не бывал на воздухе, Мама утешает себя тем, что малыш живой, подвижный и организм справится с болезнями.
Бабушка еще не получила этой страшной открытки с известием о смерти внука.
БАБУШКА – МАМЕ
15 сентября 1940 г.
Дорогая моя Милюся! Я теперь у Анюты и пишу тебе, моя родная.
Письмо от 1-го сего месяца я получила, где ты пишешь о получении посылки. Я тебе открытку двойную тут же послала, а письмо все собираюсь и все времени нет. То, что ты пишешь, получила, все в порядке. Видишь ли, моя дорогая, когда начинаешь собирать посылку, надо чтобы вес соответствовал, и в ящике чтоб было туго. То начинаешь одно вынимать, другое класть и положишь то, что по весу подходит.
Пиши, не испортилось ли масло. Может послать макароны, манную или, в общем, какую-нибудь крупу? Если табак не достану, то папиросы куплю. Да, моя дорогая, мало у тебя всяких лишений, то еще это курение мучит, когда его нет.
Я, кажется, писала тебе, что купила для Юреньки костюмчик фланелевый, голубой, такой мякенький (штанишки и рубашечку с карманом). Я очень люблю маленькие вещи и маленьких ребят.
Бандероль (тетрадь и конверты) не приняли у меня, а я пошлю немного заказным письмом. Так что папиросы нельзя.
Пообедала у Анюты. Теперь здесь все родные со стороны дяди. Они разговаривают, а я пишу тебе, моя Милюся. Как бы хотелось повидаться и помочь тебе, облегчить тебе твою жизнь. Когда я еду, и никто не мешает, я думаю и думаю без конца, и не до чего не могу додуматься, и мысленно говорю с тобой. Смотрю на ребятишек и думаю, какой же Юрашка?
Милюся, ты не пишешь, посылать ли тебе кубики бульона и каши? Съедобны ли они?
Милюся моя, пиши как твое здоровье, когда перестанешь кормить Юрашку? Побереги себя, пока молоко пропадет. Это очень болезненно: надо туго перевязать груди.
Где теперь Аня? Пишет ли тебе Зина? Относительно себя, то работаю по-старому. В отпуск не знаю когда пойду, у меня нет желания пойти в отпуск. Если б можно было бы оставить на будущий год, то было бы лучше, и я могла бы поехать к тебе, если ты до тех пор не сможешь приехать.
Будь здорова, моя дорогая, береги себя и ребенка. Целую тебя и Юрашечку крепко. Твоя мама и бабушка.
МАМА – БАБУШКЕ
17 сентября 1940 г.
Родная моя мамусенька! Вероятно, сегодня или завтра ты получишь письмо о болезни Юрика. Не писала тебе со дня его смерти. Ты не думай, что я очень вышла из равновесия. Конечно, что и говорить, тяжело очень. Ведь такой чудесный был мальчуган. Даже заведующая яслями, у которой за это лето погибло много ребят[211], особо отметила его.
Вина в его смерти падает на лекпома 2-го участка, который давал ему то, что ему было противопоказано, а пить воду, которую ему необходимо было давать побольше, запрещал. Действительная помощь была ему оказана только на 5-й день. Но было поздно, менингит уже начался. Он оказался результатом кишечного заболевания – диспепсии, токсины (яды) проникли в мозг. Причину же диспепсии искать трудно: все как будто было в порядке.
Юрочка умер, будучи в сознании, глазки были ясными, и он следил ими за мной. Бедняжка, вероятно, сильно страдал и тихо умер. Его за 8 дней совсем перевернуло. Он похудел не очень сильно, но выражение лица стало совсем другим.
В тот же день я похоронила его, в гробике он лежал как живой, глазки были полуоткрыты и, казалось, что он дышит.
Я еще не работаю, так как у меня перетянута грудь. Занимаюсь своими делами, стараюсь развлечься. Вчера и сегодня днем видела во сне Юрика и тебя.
Какая работа меня ожидает в настоящий момент, еще не знаю. Вероятно, опять физическая, но это временно. Сейчас, насколько я знаю, нет свободных мест в конторе.
Очень мне больно за тебя, моя хорошая. Сколько горя я тебе принесла, а хорошего ничего ты от меня не видела. Будем надеяться, что через год и мы с тобой увидим радость. Только береги себя. У меня теперь единственная забота – сохранить себя для моей милой, родной мамуси. А когда мы будем вместе, будет у тебя и внук и внучка, и будет рядом с тобой дочь.
Что мне делать с Юрочкиными вещами?
Бандероли я еще не получала. Неужели и эта затерялась. Посылай заказную. Совсем нет бумаги и конвертов.
Пиши, как ты себя чувствуешь? Как твое здоровье? Как все наши?
Целую тебя очень крепко. Целую всех родных. Твоя Миля.
Посылаю лепестки астры, которые лежали у Юрочки на губах…
Это и следующее письмо мамы от 23 сентября по форме спокойные, самые драматичные из всех маминых писем.
Лепестки астр до сих пор хранятся в конверте.
Условия содержания детей в лагерных яслях, как становится понятным из маминых писем, было удручающим. Смерть детей было явлением обыденным, фоновым и уже потому жутким. Это была еще одна из форм изощренного изуверства, применяемая сталинской системой к «врагам народа» – наказание смертью ребенка. Можно представит, как на кончину очередного ясельного малыша реагировала моя мама («за это лето погибло много ребят»). Отношение к кормящим матерям, так же соответствовало лагерному режиму. Это была, прежде всего, бесплатная и бесправная рабочая сила, которая обязана в любом случае выполнять дневную норму, а уж потом думать о ребенке. (Уже в мое время была распространена песня, в которой рефреном проходило: «Раньше думай о Родине, а потом о себе).
Судя по всему, в яслях врача, о котором писала мама еще в марте, в колонии уже не было, а пользовал больных «легпом», видимо из лагерных «придурков» – санитаров, у которых не было, по-видимому, никакой медицинской подготовки.
МЕДИЦИНСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Диспепсия – расстройство пищеварения, возникающее при неправильном вскармливании ребенка. Сопровождается поносом, рвотой и нарушением общего состояния. Встречается в основном у детей первого года жизни. У Юрочки, судя по маминому описанию, была токсическая форма, которая возникает у недоношенных детей, страдающих дистрофией, у детей, ослабленных или перенесших различные заболевания.
Диспепсия возникает при грудном вскармливании вследствие нарушения основных правил режима питания. Более частые, чем необходимо, кормления (особенно при большом количестве молока у матери); резкий переход от грудного вскармливания к искусственному без предварительной постепенной подготовки к новым видам пищи; несоответствие состава пищи возрасту ребенка. Этому заболеванию способствует перегревание, при несоответствии одежды ребенка высокой температуре помещения, где он находится. При этом повышается потребность в жидкости, ребенок жадно сосет, но, даже если получает грудное молоко, не может его переварить. Ребенок срыгивает, его часто рвет. В это время ему необходимо давать достаточное количество жидкости.
Иногда токсическая диспепсия развивается внезапно. Состояние ребенка быстро ухудшается, он становится вялым или необычно капризным. С рвотой и поносом ребенок теряет воду и развивается обезвоживание организма. Токсические вещества, всасываются в кровь и вызывают поражение печени, нервной системы – развивается токсический синдром. В тяжелых случаях у ребенка появляется редкое мигание, взгляд устремлен вдаль, лицо маскообразное; постепенно угасают все рефлексы, ребенок перестает реагировать на боль; кожа бледная или с багровыми пятнами, учащается пульс, падает артериальное давление.
Эти сведения сейчас может почерпнуть каждый – надо только взять обыкновенный медицинский справочник. Вряд ли таковой был в колонии. Квалифицированного детского врача в колонских яслях не было, и проконсультироваться было не с кем. Врач Анна Семеновна была далеко, в Москве, а болезнь развивалась быстро. Описанное в справочнике течение болезни малыша совпадает с теми сведениями, которые мама посылает в Москву.
По несохранившемуся письму мамы бабушка уже знала о болезни внука, но все еще не ведала о его смерти. Узнав о трагедии, она наспех пишет душераздирающую открытку.
БАБУШКА – МАМЕ
21 сентября 1940 г.[212]
Миля, моя родная! Только что получила от тебя письмо от 11/IX. Милюся, моя родненькая. Как мне тяжело писать, не могу, хочу надеяться, что выздоровеет наш мальчик. И вдруг ударит мысль в голову. Я реветь, кричать хочу, а надо идти на работу. Скоро час.
Милюся, моя родная. Как нас наказывает судьба. За что, моя доченька? Обнимаю тебя и нашего мальчика. Твоя мама и бабуся.
Радуюсь с тобой вместе, и плачу с тобой вместе. Береги себя (несколько слов не разобрано).
МАМА – БАБУШКЕ
23 сентября 1940 г.
Родная моя мамусенька! Сегодня получила твое письмо с бумагой и конвертами. Спасибо большое. Отвечаю сразу. С сегодняшнего дня мне остается 13 месяцев[213]. Хочу, чтоб они скорее прошли, чтоб увидать тебя.
Я здорова, живу на Центральной, но еще не работаю. Грудь у меня уже в норме и врачебного освобождения нет, но на полевые работы меня не посылают, так как нет ватных телогреек, а уже холодно. Других же работ пока нет. Я сижу в бараке и переделываю себе платье клетчатое, чтоб его можно было носить зимой. Без работы скучно, но у меня своих дел прорва, поэтому дни проходят незаметно. Столько всякой починки и штопки, что на месяц хватит.
В письме пришли 2 черные пуговицы и нитки. Но конверт был дорогой немного порван, возможно, вылетели. Были ли деньги?
Нового у меня ничего нет. Очень хочется поскорей домой. Мне необходим ребенок, а для этого нужно ждать освобождения. Я очень боюсь, что смерть Юрика нанесла тебе слишком большое огорчение, и тревожит меня твое здоровье.
Мамусенька, что и говорить, это ужасно тяжело, но береги себя, как берегу себя я. И почему это такому чудесному ребенку не пришлось увидеть свою бабушку и жить? Он был очень хороший, это не мое субъективное мнение. Никто бы не подумал, что мальчик умрет, не справится с болезнью. Он был крепкий ребенок, со здоровым сердцем. И до последней минуты он был в сознании и искал меня своими чудесными глазками, такими печальными из-за болезни и перенесенных мучений.
До последнего момента врач обнадеживал меня, хотя знал, что конец неизбежен.
Сделали ему маленький гробик, и лежал он весь в цветах в желтом платьице. Он был очень похож в эти часы на моего папу. А потом приехала телега, и мы повезли его на кладбище. Там я раскрыла гробик, и солнышко на закате еще немного погрело моего мальчика. А старичок, который вез нас, копал могилу. Потом мы вместе опустили туда гробик и зарыли Юрочку. Я положила на могилку красные осенние листья и астры. И мы уехали.
Я не плакала, мамуся. И сейчас не плачу. Что сделать, чем помочь? Я счастлива хоть тем, что полгода ему было хорошо. Ведь он был всегда такой веселый и спокойный – значит ему было хорошо. И теперь он больше не страдает. А я утешаю себя тем, что у меня обязательно будет другой, такой же хороший сынок года через два.
Ну вот, родная моя, все тебе написала. Посылай по мелочам деньги.
Юрочкины вещи я почти все раздала. Оставила одеяла и две рубашечки, в которые любила его наряжать.
Целую крепко и обнимаю мою родную мамусю. Привет и поцелуй всем родным. Твоя Миля.
Страшное, раздирающее душу письмо с описанием подробностей похорон маленького сына. Мама, по всей вероятности, я это замечал и потом, когда на нее неожиданно накатывалось очередное горе, находилась в каком-то оцепенении, надолго уходила в себя и делала все механически. Она не могла и не умела плакать, не умела по-бабьи голосить. Вся душевная боль накапливалась где-то внутри и не находила эмоционального выхода. Эту внутреннюю боль мама старалась заглушить табаком – махоркой, папиросами или, под конец, сигаретами. Ведь не случайно у них с тетей Зиной было «разделение труда» во время поиска правды в кабинетах НКВД и разных прокуратур.
Маме, конечно, нужен был ребенок, но в условиях колонии это было невозможно. Только после выхода на свободу, и только по любви, через два года можно было осуществить это намерение. Это письмо можно считать первым намеком на мое нескорое появление. Если бы не смерть Юрика, вряд ли мама решилась бы завести меня.
МАМА – БАБУШКЕ
30 сентября 1940 г.[214]
Родная моя! Получила сегодня твою открытку и письмо. Очень беспокоилась. Ведь у тебя двойное горе: и обо мне и о Юрике. Но за меня ты будь спокойна. Я работаю на огороде. Сейчас еще не холодно, и на воздухе приятно работать. Чувствую себя прилично.
Когда будешь посылать посылки, пошли чулки, теплые варежки и темную блузку, хоть синюю трикотажную. Пришли пемзу, если есть, и щетку для рук. Подробное письмо на днях напишу.
Береги себя, моя хорошая. Через год мы будем вместе, и я обязательно подарю тебе внука, которого мы вместе будем растить. Хочу, чтоб он был таким же, как наш Юрик, но он должен быть более счастливым и долголетним. Целую и обнимаю мою мамочку. Твоя Миля.
БАБУШКА – МАМЕ
5 октября 1940 г.
Моя Миля, родная! Уже два дня как получила твое письмо от 23-го прошлого месяца. Что и говорить и скрывать? Там же, на почте, наплакалась. Зашла к Анюте. Приняла какую-то пакость и пошла на работу. Работа меня спасает все время. Стараюсь ни минуты не быть свободной.
Я, моя Миля, моя умница, страдаю за тебя и за ребенка. Ну ладно, моя Миля, простишь меня за такое письмо?
Я хотела иметь от тебя письма и боялась их. Теперь я только живу тобой, моя Миля, и надеюсь, что когда будем вместе, помогу тебе, в чем только смогу. На одно лечение мы можем надеяться – это на время, другого лекаря в таких случаях нет.
Милюся моя! В том письме большом с конвертами я еще послала стрептоцид и 4 пуговицы, больше ничего.
Вчера была у Анюты, застала только дядю. Соня уехала к родным в Калинин. Анюта на работе.
Я послала стеклянную банку со сливочным маслом и жестяную банку с маслом (масла 1 кг. 200 гр.), баночку варенья, 1 кило сахара. Конфеты кило в пачечках, если память не изменяет, то 18 пачечек, 1 коробку какао, сыр 400 грамм или меньше немного, печение 200 грамм, пачки папирос, 1 пачку табака трубочного, 1 пачку (называется легкий табак), 1 катушка белых ниток, 2 куска мыла для стирки, 1 кусок туалетного, платье летнее в цветах.
Вчера не закончила письма и ушла на работу, с работы прихожу поздно и не могу писать. Сегодня с утра ходила и ездила почти по всей Москве – достать для тебя валенки, но пока безрезультатно. Обещали достать. Пока дядя купил такие большие и толстые, что его нога заходит, а я купила, на всякий случай, невысокие и тонкие и куплю для них галоши.
Нужно ли тебе твое голубое одеяло? Кофточку вязанную бумажную я тебе купила, так же трико темное. Если достану теплое платье байковое, то куплю. Целы ли у тебя ботики, имеешь ли в чем ходить? Ты как-то отказывалась от жакетки Анюты. Помнишь? Клетчатый жакет. Может надо? Пиши, моя родная. Так же, относительно пищи. Может крупу какую, также макароны, лапшу. Относительно п/ящика, если есть, тогда я пишу адрес, где ты находишься, и пишу п/я для тебя и могла бы отсюда послать.
Милюся! Может, тебе было бы лучше в Широ, где ты была раньше? Могут ли тебя туда перевести? Может, можно было бы тебе хлопотать поближе?
Я еще в отпуске не была, и он мне ни к чему. Если смогу оставить на будущий год, тогда бы я смогла поехать к тебе, а за один год отпуска трудно успеть – дорога дальняя, а за 2 года смогла бы. Как ты на это смотришь?
Была у прокурора. Ничего пока нет. Все зависит от дела мужа. Советовал, чтобы ты написала т. Берия. Сказал, чтобы месяца через 2 опять пришла. Очень сочувственно отнесся к нашему горю, так как сам перенес такую же потерю.
О чем тебе писать, моя Миля, дорогая?
Рядом со мной работает молодая сотрудница, и ее зовут Миля. И когда ее зовут, я оглядываюсь, и мне приятно, что слышу твое имя.
У нас все по-старому: бабушка совсем состарилась, Фаня берет работу на дом – вышивает, Тамара учится в институте и помогает ей понемногу работать.
На днях с курорта должен быть здесь Талин муж. Постараюсь с ним повидаться. Завтра перед уходом на работу пошлю тебе это письмо заказным. Если будет от тебя письмо, то припишу.
Целую тебя очень крепко. Привет и поцелуй от всех родных. Обнимаю и целую крепко тебя, моя Миля. Твоя мама.
БАБУШКА – МАМЕ
11октября 1940 г.[215]
Моя Милюся, родная! Вчера после работы получила твои два письма. Письмо с лепестками и открытку от 30/IX.
Моя Миля! Да, мне нелегко все время из-за того, что ты безвинно уже 4 года мытарствуешь, и это утешение, которое ты имела, тяжело за ребенка, о чем говорить…
Моя Миля! Если я живу, и по возможности берегу себя, то только, исключительно, для тебя. Помимо, как дочери, а как человека в полном смысле слова.
Моя Миля! Просимое тобой все послано. Вот валенки я еще не могу достать. В этот выходной пойду на рынок, может быть, там достану. Послать ли тебе твои лыжные штаны (в каждом письме я хочу спросить и забываю)?
У меня ничего нового нет. Работаю по-старому. Живу твоими письмами. Есть ли теперь у тебя, в чем ходить? Можешь ли ты быть опять в Широ или другом месте? Возможны ли у вас переводы? В отпуску я еще не была.
Целую тебя крепко. Твоя мама.
БАБУШКА – МАМЕ
14 ноября 1940 г.
Моя Милюся, родная! Получила от тебя письмо от 25/Х, 11-го сего месяца вечером. Я, кажется, об этом тебе писала в открытке, а может, и нет.
Миля моя! Когда нет письма от тебя, я очень волнуюсь. Но это письмо, Милюсенька, меня очень волнует. Я понимаю, я очень переживаю за тебя, за ребенка и даже за себя.
Пиши моя Миля, выплачь свое большое горе – даже в письме ко мне. Никто тебя так не поймет, и может тебе будет легче. А ты все в себя, в себя, и все это на здоровье отражается и нервной системе.
Ведь я, кажется, писала тебе, что когда умер Изя, твой маленький брат, я была молода, в других условиях, ты была у меня маленькая, и папа был, я оберегала папу. Но когда папа уходил на работу, а ты гулять, я давала волю своему горю, и, главное, меня стукнет, и я держусь, а чем дальше, я больше страдаю. Теперь я чувствую эту черту в тебе. Не надо, Миля, ничем не поможет. Только надо меньше воспоминаний, а ты окружена теми же условиями, и все там же, а ребенка нет. Это очень тяжело. И вместо того, чтобы избегать, по возможности, воспоминаний, ты разговариваешь с ним (1 слово не разобрано).
Миля, Миля моя, что ты делаешь! Выплачься лучше, как и я, плачу, даже не замечая, как слезы льются, да не помогут слезы счастью, но сердцу легче станет.
Если б ты знала, моя Миля, как я креплюсь ради тебя. Что моя жизнь? Я так рада была, когда наша горсточка прибавилась, и теперь одно тебе скажу, что я еще надеюсь помочь тебе вырастить ребеночка. Ты же не избегай мне писать твои переживания, авось тебе легче будет. Прижмись ко мне своей измученной усталой головкой, время пройдет, а здоровье не вернешь. А без здоровья очень плохо.
Милюся, если была бы возможность перевестись в другое место, подальше от воспоминаний.
Да, Милюся, что-то очень долго шло письмо, хотя печать от 3-го сего месяца, потом много строчек подряд ты вычеркнула, то есть зачеркнула.
Ну, моя Миля, я два дня не писала и теперь, когда я пишу, и высказалась, хоть немного, мне как будто легче. Так что ты пиши все мне.
До чего же непосредственны, трогательны и мудры бабушкины письма! Все, кто знал Клару Ильиничну, всегда вспоминали такие черты ее характера, как безграничная доброта, отзывчивость, заботливое внимание, желание помочь как родственникам, так и просто знакомым или соседям. Бабушка сумела найти и подходящие слова и дать добрые советы, которые в то время так нужны были маме.
Я знал, что у мамы был брат, который умер в младенчестве. Мне даже помнится, мама говорила, что они были близняшки. В бабушкиных письмах упоминается и имя маминого братика.
Наконец-то подходил к концу этот тяжелый для мамы високосный 1940 год. Год смерти сына. Мама вообще не любила и всегда боялась високосных годов, полагая, что они приносят одни несчастья. Да как было не поверить в мистику годов, если каждые четыре года, почти без пропусков, были связаны с потерей родных и близких.
Мама считала, что все ее несчастия начались в 1924 году. Тогда, еще живя в Чите, она разбила большое напольное зеркало, стоявшее в комнате. По всем народным поверьям – это плохое предзнаменование, и мама всю жизнь помнила об этом разбитом зеркале.
А дальше понеслось... В 1928 году умер дедушка, в 1932-м – Таня, дочь мамы и Юрия Михайловича. В 1936-м – погиб Юрий Михайлович, а маму отправили в ссылку, в 1940-м – умер Юрик. Через четыре года, в 1944 году умерла бабушка. В 1948-м и в 1952-м годах были какие-то неприятности, носившийся в воздухе оголтелый, почти официально признанный антисемитизм (борьба с космополитизмом, дело врачей), непосредственно касавшийся мамы и ее родственников. 1956 год – смерть нескольких близких друзей. 1960 и 1968 годы как-то проскочили, а в 1964-м умерла Анна Семеновна. В 1972-м – маму «по сокращению» уволили из института Истории СССР АН СССР, а в 1988-м году она скончалась.
Более счастливыми, по маминым «приметам», должны были быть годы, следующие за високосными.
На протяжении последующих пяти месяцев с ноября 1940 г. по март 1941 г. писем ни от мамы, ни от бабушки не сохранилось, а поэтому, детали и частности этого времени я не знаю, да и спросить-то уже не у кого.
Мамины же письма завершающего периода ее пребывания в колонии (бабушкины письма не сохранились) достаточно ясны и подробны, и в особых комментариях, на мой взгляд, не нуждаются.
1941 ГОД
МАМА – БАБУШКЕ
23 марта 1941 года.
Мамочка моя хорошая! Позавчера получила твое письмо от 6/III и письмо от Гриши Гольденберга. Как мне хочется, чтоб скорей пролетели эти 7 месяцев, чтоб вернуться к тебе и жить вместе.
Мне хочется, чтоб моя хорошая мамуся, наконец, зажила спокойно и не испытывала вечных огорчений от своего недостойного чада. Ведь подумать только, что кроме горьких переживаний, ты получила от меня? Радости от меня бывали так недолговременны и быстро сменялись полосой длительного горя и боли. Я чувствую себя настолько виноватой перед тобой, что не знаю, хватит ли моей жизни искупить эту вину.
Мне надо жить с тобой так, чтоб ты не знала тяжелых забот, чтоб ты, наконец, почувствовала, что есть, кому позаботиться о тебе. Чтоб возле нас было какое-нибудь маленькое существо, которое скрасило бы твою старость. Все это от нас не уйдет.
Я, мамуся, здорова, работаю. Скоро наступит весна. Погода у нас все время меняется. Было совсем тепло, лужи этакие стояли, а потом, как поднялся ветер и дул дня два, да так, что нос высунуть было страшно. Затем опять морозы начались. И сейчас еще морозно. Но уже к полудню тает снег, каплет с крыш, и солнышко так ласково улыбается, что всякие сомнения о том, что весна наступает, исчезают.
Сегодня у нас выходной. Я сижу в конторе и пишу письма. Написала уже три письма. Сейчас допишу тебе, пойду в прачечную за бельем, потом в общежитие и, наверно, буду играть в шахматы. А затем я приглашена на именины к одной знакомой. Она получила посылку, и мы будем пировать. Вечером, возможно, что-нибудь будет в клубе: либо лекция, либо мы повторим какую-нибудь пьесу, либо репетиция. Время так незаметно проходит, что никак не успеваешь сделать всего, что наметил.
Ты спрашиваешь, что мне нужно на лето. Я, кажется, писала тебе, что обувь у меня есть. Сейчас я хожу в ботинках с ботиками. На лето у меня есть брезентовые туфли и сандалеты (их починили). Обувь мне нужна будет только к возвращению. Я вообще рассчитываю получить от тебя посылку, в которой была бы юбка шевиотовая (лучше синюю пришли), пара вязаных кофточек (из моих), что-нибудь на голову и на ноги. Не хочется возвращаться замарашкой. На лето недурно было бы получить одно или два платья или материал для них. Пришли также светлые чулки из старых. У меня нет ни одной пары. Жду также ленточку узкую для прически, и широкую для банта к платью (или креп-жоржетовый бант).
Я уже потеряла всякие надежды получить сведения от тебя или от Фани, что теперь носят (от прически до носка у туфель включительно). Просила Нину известить меня, может она не откажет.
Ну, мамуся, будь здорова и береги себя. Надо кончать письмо и заняться остальными делами.
Целую тебя крепко. Привет всем родным. Твоя Миля.
Шли срочно бумагу, конверты и открытки.
Мама испытывала постоянное чувство вины перед бабушкой. Хотя какая же была ее вина и в чем? В том, что она вышла замуж по любви, а муж сгинул в застенках НКВД? В том, что ее неизвестно за что отправили в ссылку, потом в тюрьму, и, наконец, в колонию? В том, что ей не дали уберечь сына в лагерных яслях? Мамины чувства всегда были искренни, она вполне обходилась без рисовки и позерства, без расчета на внимание и жалость широкой аудитории, у которой она могла бы найти сочувствие.
И все-таки, находясь в колонии, вкалывая на общих работах, (в конторе она стала трудиться счетоводом, по-видимому, лишь в конце 1940 – начале 1941 гг.) мама оставалась женщиной. Также основательно следила за собой и своей внешностью. Готовясь выйти на свободу, не желая выглядеть «замарашкой», перешивала имеющуюся под рукой одежду и интересовалась последними направлениями моды.
МАМА – БАБУШКЕ
23 апреля 1941 года.
Родная моя мамуся! Получила сегодня сразу и посылку, и заказное письмо с бумагой и конвертами. Большое спасибо, моя хорошая. Посылка пришла в полной исправности. Все очень вкусно, и вовремя пришло, так как у меня уже иссякали запасы.
Огорчило меня твое письмо. Как ты теперь будешь сводить концы с концами? Если никаких изменений не будет, то о посылках мне и думать больше не смей. Я же имею все основное, и мне совсем не приходится заботиться о завтрашнем дне. Я всегда уверена в том, что самое главное для питания у меня будет. Разумеется, я превосходно понимаю, что из своей зарплаты, даже прежней, ты не могла посылать мне посылки и делала это на средства Анюты, либо «загоняя» что-нибудь. Но теперь это тебе нужней, чем мне. Очень прошу тебя, продавай все мои вещи, ничего не жалей, и пальто и прочее. Приеду – заработаю на это, а твое здоровье для меня важнее. Можешь продавать и книги – они тоже дело наживное. Я очень прошу тебя послушать на этот раз свою дочь. Не всегда же мне быть послушной, пора и за тебя взяться.
Откуда у Анюты малярия? Вот еще не было печали!
У нас уже становится тепло. Сегодня такие лучи и такое приветливое солнышко, что и жить весело. Сейчас у меня опять с работой спокойно, нет большой загрузки; обычно я более всего занята перед 1-м и после 1-го.
Пишу сейчас на работе, еще не начались рабочие часы, но собрался народ и всем очень весело, хохочут, шутят и поют и, конечно, мешают мне писать.
От Нины больше ничего не получала. Долго не было писем от Зины, но вчера получила и письмо, и карточку, но очень неудачную. Сегодня хочу ей написать.
7 апреля.
Не удалось окончить письмо сразу, а так как я его оставила на работе, то не могла дописать вчера.
Опять у нас портится погода и меня это очень огорчает, так хочется настоящего тепла, а тут опять снег пошел, слякоть непролазная.
Переделали мне коричневый сарафан, и опять его носить можно будет. Я вышила маркизетовую песочную блузочку, и она с этим сарафаном очень гармонирует. Я просила тебя, чтоб ты прислала мои старые светлые чулки. Это для весны и лета. А то у меня только темные.
Что ж тебе еще написать? Какое-то у меня сегодня рассеянное состояние. Спешу сейчас на ужин. Проболталась без пользы два часа, а скоро опять работать, поэтому спешу. Но на днях пошлю письмо, в которое вложу мерку для Сони.
Ты писала, что Фаня поедет только в июле. Если она действительно намерена заехать ко мне, ты дай мне знать заранее, чтоб я могла уже не принципиально просить разрешения на свидание, а имея в виду что-то конкретное.
Ну, будь здорова, моя родная. Береги себя. Привет и поцелуй всем родным. Крепко целую и обнимаю. Твоя Миля
Привет от моей приятельницы Шуры.
МАМА – БАБУШКЕ
18 мая 1941.[216]
Дорогая моя мамусенька! Получила твою посылку из Харькова и письмо, писанное до отправления посылки. Большое спасибо, родная. Теперь я сыта выше меры. Недавно меня премировали, как и всех почти счетных работников за досрочную сдачу квартального отчета, и на премию (денежную) мы купили в ларьке всякие вкусные вещи сверх нормы. А тут еще и посылка. А почему ты не послала чулки и платье, и прочие мелочи? Я их очень ждала. Как у тебя дела с работой? Куда тебя переведут, если не будет прибавки зарплаты? Ну мамочка, осталось уже совсем немного, всего 5 месяцев, одно только лето, а оно быстро пролетит.
У меня есть вот какая новость. На днях здесь был заместитель начальника управления Енисейлага[217] (ведь мы теперь колония Енисейлага), и я с ним говорила о переводе меня в Ширинскую колонию. Он мне обещал. Возможно, в этом месяце я перееду. Если это выйдет, я буду рада. Правда, я привыкла к местным условиям и к людям, но всегда меня гнетет то обстоятельство, что здесь я потеряла моего малыша. А с наступлением лета чувство утраты усиливается. Слишком ярко встает прошлая весна и лето, когда он был со мной. Нервы у меня всегда были в беспорядке, ты это знаешь, и, разумеется, это горе не укрепило их. Я держу себя в руках, ты знаешь, что я это умею, но чувствую, что перемена обстановки сыграла бы большую роль[218].
Сегодня выходной. Все утро я вышивала и занималась хозяйством. А с обеда пошла в контору, чтоб написать письма. У меня еще одно огорчение: моя приятельница Шура, о которой я тебе писала, отправлена на другую работу на участок, и я теперь одна. Это не буквально, так как у меня есть друзья, но друзья эти – мужчины, а всякая дружба с мужчинами может быть истолкована моими товарищами, как роман, и это усложняет дружбу. Романов же, мамочка, у меня совсем нет. Это не похоже на твою дочку, да? Ты не думай, что это потому, что я состарилась, нет, мамуся, ты скоро убедишься в обратном.
Здесь это носит слишком нечистоплотный характер, и это мне претит, даже при том условии, что мне глубоко симпатичен один человек, но я даже не хочу, чтоб он знал об этом.
Ну вот, изложила тебе и свои сердечные, если не дела, то настроения. Ой, как нам много нужно будет поговорить, когда мы встретимся! Ты будешь делать важное и серьезное лицо и попытаешься сделать мне материнское внушение, хотя великолепно будешь знать, что меня ничем не проймешь.
Ты будешь говорить: «Милюся, бросила бы ты курить», или о каком-нибудь «нем»: «Ну, что ты в нем нашла хорошего?», будешь мне внушать, что я как была, так и осталась ветром и прочее, что полагается говорить матерям. Но вместе с тем, ты будешь рада, что у тебя такая взрослая (старая) дочь, что дочь с тобой говорит как с близкой приятельницей, и тебе будет казаться, что такая она у тебя умная и хорошая, какой другой в целом свете не сыщешь. Признавайся, вот сейчас, когда ты читаешь это письмо, ты тоже делаешь умное лицо, но уголки рта подрагивают, и ты немножечко усмехаешься, и так и хочется сказать: «Ладно, иди, иди дура ты большая, больше ничего». Угадала я, мамуся?
У нас еще холодно. Ведь наступила вторая половина мая, а еще приходится в зимнем ходить. Правда, на усадьбе совершенно сухо и хожу я в туфлях, но без пальто не выйдешь. Такая в нынешнем году весна неудачная, и сев из-за этого сильно задержался.
Если я поеду в Ширинскую колонию, то перед отъездом дам тебе телеграмму, а пока пиши по старому, может быть еще ничего и не получится. Хотя говорят, что заместитель начальника, если что пообещает, то не забывает. Опять увижусь с Зиной. Она теперь важная шишка – начальник планового отдела колонии, а дочка твоя скромный счетоводишка.
Привет всем родным и знакомым. Пришли как-нибудь в письме синьку.
Ну, будь здорова. Крепко целую тебя и всех родных. Твоя Миля.
Мамуся! Срочно вышли справку от домоуправления о том, где ты проживаешь, и что у тебя есть своя площадь такого-то размера. Это сделай срочно и вышли. Я подаю заявление в Москву о разрешении выбрать местом жительства Москву.
МАМА – БАБУШКЕ
26 мая 1941 г.[219]
Родная моя мамусенька! Вот, наконец, и у нас тепло стало. Уже ходим в одних платьях. Но зелени еще на деревьях нет. Подснежники уже появились хорошо.
Я последнее время много бываю на воздухе. Загорела уже. Езжу по делам на участки. Последние 3 дня даже в контору не заглядывала, все время в разъездах была. Относительно поездки в Ширао пока еще ничего нет, жду со дня на день, но, может быть, и затянется это дело.
Как твои дела, мамуся? Что слышно с работой?
Мне нужна синька, пришли в конверте.
Мне уже осталось меньше 5-ти месяцев. Лето быстро пролетит, ведь это самая горячая пора. Чувствую я себя хорошо. Все же большое значение имеет то, что живу не в городе.
Если у тебя будет все в порядке с работой, то есть прибавят зарплату, сделай перевод небольшой. Скоро можно будет покупать яйца и прочие приятные вещи. Привет всем родным. Крепко целую. Твоя Миля.
И в который раз мама вновь торопит время, отсчитывая месяцы и дни, оставшиеся до выхода на свободу. Так ей хочется поскорей вновь увидеть бабушку и всех родных, словно предчувствует, что встреча произойдет, ох, как нескоро. Лишь в мае 1943 года мама и бабушка снова заживут вместе.
МАМА – БАБУШКЕ
3 июня 1941 г.[220]
Родная моя! Опять долго не писала, совсем завертелась. Как хорошо сейчас! Кругом зеленеет лес, пропаханы поля, такой чудесный воздух. Настроение, в связи с этим, замечательное. Я писала тебе, чтоб ты выслала справку из домоуправления. Не задерживай этого дела. Я тогда подам заявление.
У меня все по-прежнему. Так и не знаю, выйдет что или нет с моим переездом в Широ. Ведь и времени осталось уже немного, меньше пяти месяцев.
Пиши, родная, о себе подробно. В самые ближайшие дни напишу подробное письмо. Как все наши? Наверно разъезжаются уже на лето. Будь здорова. Очень спешу. Крепко целую. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
8 июня 1941.
Родная моя мамусенька! Уже сколько времени я все обещаю написать тебе письмо, и никак не выберусь. Время сейчас горячее, я разъезжаю часто по участкам. За это время скапливается работа здесь, и у меня мало свободного времени поэтому. Но зато, я хорошо выгляжу, поправилась, много бываю на воздухе, да не среди городской пыли, а на чистом, деревенском и чувствую себя превосходно. Я выгляжу сейчас почти так же, как когда ты видела меня в последний раз[221].
Настроение у меня тоже хорошее. У нас совсем тепло, даже жарко. Сегодня выходной. Мне разрешили пойти на участок на свидание с приятельницей (Шурой, о которой я писала). Я шла туда и обратно пешком и так замечательно провела первую половину дня, что и сейчас у меня замечательное настроение в связи с этим. Шла лесом, полями, переходила вброд маленькое болотце. У нас уже много цветов. Цветы стоят на моей тумбочке в общежитии и на столе в конторе. Возможно, завтра я пошлю тебе свое фото, оно не совсем точное, но сходство есть. Это меня снимали для паспорта, но так как это пробная карточка (не на такой бумаге, что требуется для этого), то мне обещают ее дать, а я пошлю тебе. Ты увидишь, как я сейчас ношу косы.
Вчера получила письмо от Нины[222]. Она пишет, чтоб я ехала в Ростов, и она туда же приедет, и обещает помочь материально.
Я, разумеется, так далеко от тебя не поеду. Если не разрешат в Москву (завтра подаю заявление), то попрошу что-нибудь близ Москвы. Ты там с тетками посоветуйся, и придумайте, куда лучше. Может быть, Малый Ярославец? Надо этот вопрос срочно решить, ведь осталось 4 месяца. Я уезжаю отсюда 23 октября.
Готовь мне к сентябрю посылку с шевиотовой юбкой и парой вязаных блузок. Пошлешь синюю трикотажную с коротким рукавом, серую вязанную, комбинированную с красным и оранжевую. А юбку пошли синюю. Вот с обувью, как быть не знаю. Выехать-то мне не в чем будет. Пришли какие-нибудь свои. Новые не вздумай покупать. Это уж когда я сама приеду, мы что-нибудь сообразим, а пока не надо. По поводу зимнего пальто, я напишу в Красноярск. Я думаю, что оно цело. До Красноярска доеду в этом, а там переменю. Об этом мы еще потолкуем.
Ну, вот и все. Осталось теперь немного. Лето незаметно пролетит. Скоро, мамочка, увидимся.
Как твои дела? Что слышно с обещаниями по поводу работы? Как ты сводишь концы с концами? Как живут мои тетушки? Я очень соскучилась по вам всем. А Анюту ведь я не видела почти пять лет. Как быстро время летит! Давно ли я уезжала?
Мамочка, пришли мне в письме синьку.
Про часы меня больше не спрашивай. Их нет, как это ни печально. Их украли еще в Широ.
Ну, кажется, все о себе написала. Надо ещё Нине написать. Может быть, ещё завтра ещё допишу.
Пока, мамуся, всё. Будь здорова, береги себя. Поцелуй теток, и бабушку, и моего мишугеного[223] дядю. Крепко целую тебя. Твоя Миля.
Карточку мне не дали, поэтому не жди. Ну, ничего, скоро увидишь меня в подлиннике.
Целую, родная. Твоя дочка.
МАМА – БАБУШКЕ
21 июня 1941 г.[224]
Родная моя мамочка! Я так давно не писала тебе, что придется посылать телеграмму, чтоб ты не беспокоилась. Совсем я закружилась. Работы сейчас много, потом репетиции, день пролетает, оглянуться не успеваешь. Я еще Нине не ответила на письмо.
Получила посылку из Киева с продуктами. Большое спасибо, мамочка. Но ты писала, что посылаешь платье и прочее. Этого ничего нет. От Нины получила журналы.
Мамуся, осталось всего 4 месяца, и мы увидимся. Настроение у меня превосходное. Чувствую себя превосходно. Много разъезжаю и много бываю на воздухе. Выгляжу хорошо. Никто не дает мне моих лет. Говорят, что не больше 25-26. Вообще, можешь быть довольна дочкой. Вчера ездила по делам верхом и так довольна, столько удовольствия от этого получила. В воскресение напишу письмо подробное.
Что слышно у тебя? Как с работой? Заявление мое с твоей справкой пошло в ГУРКМ[225]. Подай туда же от своего имени и узнай, как там обстоит дело. Привет всем родным. Крепко целую. Твоя Миля.
Открытка ушла в Москву 22 июня 1941 г.
Никто из них, ни мама, ни бабушка не знали, что в этот день начнётся ВОЙНА.
ЧАСТЬ III
ВОЙНА
Как известно, в воскресение 22 июня 1941 г. в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Но лишь в 12 часов 22 июня с заявлением о начале войны по радио от имени Советского правительства выступил нарком иностранных дел В.М. Молотов.
В этот день мама собиралась написать бабушке большое письмо. Настроение у нее было прекрасное, насколько оно может быть таковым в условиях колонии. Она не унывала, предвкушая скорую встречу с бабушкой и родными, готовилась к ней, приводила в порядок свой нехитрый «гардероб» и строила планы на будущее. Мама вновь подстегивала время, ведь оставалось всего 4 месяца пребывания в неволе и 23 октября 1941 г. наконец-то придет свобода!
Но все рухнуло. Грянула война. Судьба преподнесла очередной сюрприз и не только маме и бабушке, но и всему народу.
Об обстановке в стране сообщали громкоговорители, установленные повсюду, в том числе и в колонии. Маму, как и других, особенно удивило то, что по радио 22 июня выступал не Сталин, а Молотов, чью речь потрясенные заключенные слушали, затаив дыхание. И лишь 3 июля 1941 года, к ним обратился сам вождь. Наибольшее впечатление на зеков произвели вступительные слова Сталина, который и к ним обратился со словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Так по-человечески к советскому народу вождь всех времен и народов никогда ни до, ни после войны не обращался.
Уже 22 июня 1941 года в секретной директиве за № 221, подписанной наркомом НКВД Л.П. Берия и Прокурором СССР В. М. Бочковым, было приказано:
- 1. Прекратить освобождение из лагерей, тюрем и колоний контрреволюционеров, бандитов, рецидивистов и других опасных преступников.
- 2. Указанных заключенных, а также польские контингенты, немцев и иноподданных сосредоточить в усиленно охраняемые зоны, прекратив безконвойное использование на работах. Содержащихся в лагере заключенных максимально законвоировать.
- 3. Арестовать заключенных[226], на которых имеются материалы в антисоветской деятельности.
- 4. Охрану лагерей, тюрем и колоний перевести на военное положение.
- 5. Прекратить отпуска всем работникам лагерей, тюрем и колоний и работников прокуратуры ИТЛ, находящихся в отпусках немедленно вызвать.
- 6. Прекратить всякую переписку заключенных, а также содержащихся в спецпоселках, с волей.
- 7. Исполнение донести в 24 часа».[227]
Так ГУЛАГ встретил войну.
Директива № 221 сразу же стала неукоснительно исполняться. Заключенные о ней не знали, но ужесточение режима зэки сразу же почувствовали на собственной шкуре. Об этом красноречиво говорят документы
ШУРА ЕРМОЛАЕВА – БАБУШКЕ
Почтовая открытка [228]
4 августа 1941 г.
Клара Ильинична! По просьбе Мили пишу Вам. Это пишет та Шура, от которой Миля передавала в письмах привет. Я освободилась в июле. Вам сразу послала телеграмму о здоровье Мили. Должна Вам сообщить: корреспонденция не вручается. Я выслала посылку только с куревом. Продукты не принимаются. При первой возможности перешлю и продукты. Здоровье ее хорошее. Работает в конторе. По-прежнему у нее много работы. Проявляет о Вас большое беспокойство. Пишите мне. До свидания. Шура.
ШУРА ЕРМОЛАЕВА – БАБУШКЕ
Письмо[229]
25 сентября 1941 г.
Клара Ильинична!!! Большое спасибо за открытку, сегодня получила. Прежде всего, должна сообщить Вам о Миле. С 22 июня у них прекращена отправка и получение всей корреспонденции. 23 сентября должна оттуда выехать ее приятельница Зина Шепелева, которая будет у нас, и после этого должна Вам сообщить более подробно.
Когда я была там в колонии, Милины мнения были примерно такие: остаться в Красноярске или в северные районы уехать.
Клара Ильинична, должна Вам сказать, что когда была вместе с Милей, не считаясь ни с чем, кушали вместе, все наши средства были общими. Это я говорю потому, что Вы хотите послать деньги за посылку. Этого совершенно не требуется. Я считала обязанностью ей помогать, да и необходима там помощь к ее отъезду. Нужны туфли, которые я достала, но отправить их не смогу, ибо приема посылок туда нет. Как быть?
Клара Ильинична! В Бодайбо я приехала, потому что здесь у меня муж и больше нет никого. Живу хорошо, отдыхаю и поправляюсь. Буду просить Вас об одном. Как только узнаете о Миле, телеграфируйте ее адрес. Я сейчас с ней связи не имею. Одновременно пишу письма в Красноярск к ее знакомым, где ее зимние вещи, куда она обязательно должна зайти. Посылаю Вам ее фото. До свидания. Будьте здоровы. Желаю всего хорошего. Шура. Пишите.
Господи! Какие же люди встречались на жизненном пути мамы! Тетя Зина, дружбу с которой мама пронесла до конца ее дней. После смерти тети Зины в 1963 г., мы, время от времени, навещали старенькую и до того теплую и сердечную Марию Фоминичну – маму тети Зины; Тамара Петровна Братухина – больше года делившая с мамой топчан в Красноярской тюрьме и, приятельские отношения с которой, также продолжалась вплоть до маминой кончины.
И вот Шура Ермолаева, о которой я ничего не знаю, поскольку связь с ней видимо рано прервалась и мама, если и рассказывала о Шуре, в моей памяти эти рассказы не сохранились.
Судя по особенностям почерка и характеру писем, Шура была простой, не очень грамотной женщиной: письма написаны корявым почерком, без знаков препинания и разбивки на фразы. Письма читаются с большим трудом, они написаны бледным карандашом на пожелтевшей уже тогда бумаге. Наверняка это была не очень обеспеченная женщина, которая категорически отказывалась от денег за посылки и вещи, заготовленные ею для мамы. Помогать ближнему она считала своим вполне естественным человеческим долгом.
Но самым интересным является то, что в Шуриных письмах сообщаются такие подробности жизни колонии в начале войны, рассказов о которых сохранилось не много. Заключенных, согласно директиве № 221, сразу же изолировали от внешнего мира, и они попали в информационный вакуум: переписка с волей была прервана, посылки также не принимались.
Согласно той же директиве прекращалось освобождение из тюрем, лагерей, и колоний контрреволюционеров, бандитов, рецидивистов и других опасных преступников. Но отбывших свой срок заключенных по «бытовым» статьям все еще выпускали. Штрафные роты и батальоны появились на год позже.
Вот тут-то и маме и тете Зине, я думаю, фортуна все-таки улыбнулась. Будь у них не 82-я, а политическая 58-я статья, по упомянутой директиве не видать им воли: так и просидели бы они всю войну в колонии до «особого распоряжения», а там, глядишь, и новый срок схлопотали бы.
Война перевернула все планы и мамы и бабушки. Мама после освобождения решила остаться в Красноярске. В Москву ее все равно бы не пустили. Попытка уйти на фронт оказалась безуспешной.
Бабушка же, боясь остаться одной в осажденной Москве, присоединилась к Анне Семеновне, которая в качестве врача эвакуировалась с Московским вторым часовым заводом в Чистополь. Вместе с ней вся семья, родственники и просто знакомые двинулись в далекий путь на восток. С осени 1941 г. до лета 1942 г. они провели в Казани, а потом отправились в Чистополь.
Выйдя на волю 23 октября, мама уехала в Красноярск, ничего не зная ни о бабушке, ни о ее планах. Ее связь с матерью и тетками прервалась почти на два месяца, и возобновилась лишь в конце декабря 1941 г.
СПРАВКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ[230]
(см. фото в начале текста.)
МАМА – БАБУШКЕ
ТЕЛЕГРАММА[231].
Здорова. Целую. Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
ТЕЛЕГРАММА[232].
Перевод получила. Здорова. Телеграфь здоровье. Целую. Миля.
Через две недели после освобождения дочери бабушка написала письмо, которое мама получила лишь в самый канун нового 1942 года.
БАБУШКА – МАМЕ
5 ноября 1941 г.[233]
Моя Миля, родная! Перевела тебе, моя доченька, двести рублей в Канск до востребования.
Я уже 5 дней жду отъезда с Анютой, дядей, Соней и Зиной[234]. Но пока мы на месте, возможно, что сегодня выедем, но не уверена. Если уеду, то Дуня даст телеграмму. Есть ли от тебя телеграмма, где ты устроишься жить, я не знаю. С последней телеграммы я знаю, что ты остаешься в Сибири, едешь на пару дней в Красноярск. Я думаю, что с Красноярска я должна иметь телеграмму. Пока я пишу в Канск до востребования. Ты, наверно, оставишь распоряжение переслать корреспонденцию туда, где будешь жить.
Мы направляемся в г. Чистополь Казанской области. Пиши на всякий случай туда. Если же мы останемся там, то буду телеграфировать.
Вот что, моя Миля. Бабушка приказала всем долго жить. Она умерла 1-го сего месяца в больнице.
Будь здорова, моя родная. Целую тебя крепко, твоя мама.
Если б ты могла застать Гришу[235] в (название места не разобрано).
МАМА – БАБУШКЕ
ТЕЛЕГРАММА[236].
Осталась Красноярске. Пиши. Телеграфь: Красноярск. Правый берег Енисея. Злобинская колония. Работаю экономистом. Пишу. Целую. Миля.
ТЁТЯ ЗИНА – БАБУШКЕ
ТЕЛЕГРАММА. [237]
[...] Благополучно. Миля здорова. Писала Зина.
БАБУШКА – МАМЕ
30 ноября 1941 г.[238]
Моя Милюся, родненькая! Находимся пока в Казани. В первых числах декабря поедем в Чистополь. Едет Анюта врачом со вторым часовым заводом. С ней: Лева, Соня, Зина и я. Еще едет сестра Мани Гутиной в качестве медицинской сестры.
Моя Миля! Бабушка умерла 1-го с/м в больнице. Я уехала 6-го сего месяца. С работы снялась 31/Х.
С родных осталась одна. Мерка[239] не хотела уезжать. Я тебе писала и телеграфировала, что Фаня в Ташкенте. Фрума[240], Эбба в Фергане. Где Сахна – не знаю, где твои приятельницы, тоже не знаю. Где ты в данное время находишься, я так же не знаю. Не знаем, сколько времени будем в Казани, а то могла бы я иметь от тебя ответ в Казань.
Получила ли свое пальто зимнее? Шура тебе купила туфли, но не знает твой адрес. Я ей перед отъездом писала. От тебя я еще получила телеграмму с Красноярска, что ты будешь 10-го в Канске, и больше ничего не знаю.
Вещи твои в Омске, у бывшей Анютиной домработницы Кати. Елена Соломоновна[241] знает. С Чистополя спишемся. Сможешь ли ты приехать к нам или я к тебе? Привет от всех родных. Целую тебя крепко. Твоя мама.
Как изменилась стилистика и форма бабушкиных писем! Они стали сбивчивыми, лихорадочными. От испытаний, выпавших на ее долю – смерть матери, неопределенное положение дочери, суматоха сборов в эвакуацию – все это отражается в бабушкиных письмах. Она все чаще употребляет обороты речи, характерные для южно-русско-еврейского говора, с отсутствием согласований и большим количеством грамматических ошибок, которые были исправлены.
ИЗ ЗОНЫ В ЗОНУ
Выйдя на волю в конце октября страшного 1941 года, промыкавшись в поисках жилья, работы и средств к существованию, маме ничего другого не оставалось, как обратиться в alma mater за помощью. На фронт ее не взяли, возможно, из-за недавнего прошлого, а может быть из-за того, что у «соискательницы» не было «фронтовой» специальности. Не было и тыловой. Она могла печатать на машинке, но на секретарскую должность идти не хотелось, поскольку это обрекло бы ее на полуголодное существование. В колонии же мама научилась мало-мальски разбираться в бухгалтерской документации, сводить дебет с кредитом и т.п. премудростями. Видимо, это у нее получалось.
Во время войны ГУЛАГ обрастал новыми пенитенциарными островами. Кадровых работников не хватало, и на некомандные, главным образом, хозяйственно-экономические должности, набирали вольнонаемных грамотных женщин, в том числе и из бывших заключенных. Такими новоиспеченными экономистами в годы войны стали и тетя Зина, и мама, и многие их знакомые и друзья по тюрьме, ссылке и колониям.
Поскольку вся страна находилась на военном положении, то и вольнонаемные сотрудники ГУЛАГа подчинялись как военной дисциплине, так и дисциплине, установленной в системе НКВД. Налаживая всю производственную работу колонии, они, однако, не имели воинских званий и носили гражданскую одежду. Ордена и медали получало гулаговское начальство, а вольнонаемные награждались денежными премиями или дополнительно снабжались продуктами. Кроме того, гулаговское начальство, пользуясь безнаказанностью и бесправием зэков, обворовывало и объедало тех, кого система должна была не только охранять, но и перевоспитывать.
«В силу сложившихся обстоятельств, мне во время войны пришлось работать с заключенными, среди которых было большое число уголовников-рецидивистов. Многих из них удавалось вызвать на откровенные разговоры. Они обосновывали сою «профессию» тем, что все воруют, но мы это делаем честно, а так называемые честные люди воруют скрыто. Трудно было прямо опровергать их аргументы, когда вокруг все лагерное начальство всякими незаконными путями получало из кладовых и из кухни, предназначенных для питания заключенных, разные продукты через хлебореза, повара, кладовщика из заключенных. И, хотя это было широко известно и самим заключенным, но круговая порука охраняла начальство от ответственности».[242]
Кое-что, в зависимости от отношений, конечно, перепадало и вольнонаемным работницам. Читая мамины письма военных лет, в этом убеждаешься и не один раз. Она это воспринимала как само собой разумеющееся…
«Органам» использование труда бывших зэчек также приносило тройную пользу. Они набирали ни на что не претендующих, знающих свою работу вольнонаемных, держали их под постоянным надзором и, наконец, всегда имели под рукой виновного с подмоченной биографией, на которого, в случае чего, можно было бы свалить вину за просчеты руководства. Мама рассказывала, что она ни раз находилась под дамокловым мечом оперчекотдела, укомплектованного кадровыми сотрудниками, который не выпускали ее из под своей опеки.
Так что мама, выйдя из зоны 23 октября, вновь в нее попала 19 ноября 1941г., но уже в ином качестве.
В мамином трудовом списке (так тогда называлась трудовая книжка) имеется запись под номером: № 22: 1941 XI 19. Принята на работу экономистом производственной части Злобинской колонии массовых работ. Приказ № 644 от 22 XI 1944 г.[243]
ЗЛОБИНСКАЯ КМР
Злобинская колония массовых работ (п/я 288/7) была организована в Красноярске еще в мае 1939 г. наряду с другими колониями для использования труда заключенных при строительстве одного из военных заводов.
В начале войны в Красноярский край и в сам город прибыло 14 эвакуированных предприятий, а в 1942 году их было уже 80. Из Коломны, Калуги, Брянска и других городов европейского запада СССР эвакуировались предприятия тяжелой промышленности, которые вливались в красноярские заводы, выпускавшие военную продукцию.
На подъездных путях Красноярского паровозоремонтного завода шла разгрузка вагонов с оборудованием Полтавского паровозоремонтного завода. А на пустыре, возле станции Злобино, сгружались станки, прибывшего в августе 1941 года из города Бежицы (Брянской области), паровозостроительного завода «Красный Профинтерн» – почти 6 тысяч вагонов! Уже в ноябре 1941г. этот завод начал давать первую военную продукцию. С 1942 года он стал крупнейшим в Сибири паровозостроительным заводом. После войны «Красный Профинтерн» был переименован в «Сибтяжмаш». Вот этот-то завод и строился, а потом и обслуживался силами заключенных, в том числе зыковской, а потом и злобинской колонии.
Во время войны население Красноярска почти удвоилось, но рабочей силы все равно не хватало. Бесплатные и бесправные людские ресурсы руководству предприятий приходилось черпать из близлежащих островов ГУЛАГа – колоний и лагерей.
Колонии массовых работ давали эвакуированным предприятиям неквалифицированную рабочую силу главным образом для строительных работ. В дальнейшем предприятия получали от колоний массовых работ уникальные кадры специалистов.
Заключенные работали по 12–14 часов в сутки, без выходных дней. В сорокаградусные сибирские морозы люди долбили ломами и кирками мерзлую землю, лопатами рыли котлованы, заливали бетон, разгружали вагоны, в строящихся корпусах монтировали станки. Одновременно для предприятий проектировались и возводились котельные, электрические подстанции.
В Злобинской колонии мама первоначально работала экономистом по труду, т.е. она должна была заниматься организацией труда заключенных, рассчитывать их численность по разнарядкам предприятий, вести переговоры с заказчиками рабочей силы и обеспечивать их рациональное использование. В ее ведении находился фонд заработной платы зэков, распределение дополнительных доходов, получаемых ими. (Работягам-зэкам зарплата на руки не выдавалась). По результатам работы заключенных экономист по труду ежемесячно и ежеквартально сдавал отчеты о работе и представлял руководству колонии списки на премирование, как вольнонаемных служащих, так и заключенных. В мамином ведении находилась также вся бухгалтерская отчетность по труду и заработной плате, как начальствующего состава, так и бригад заключенных.
Мама вспоминала, что отношение к заключенным, особенно в начале войны, существенно изменилось: их стали лучше кормить, одевать. По приказу сверху, администрация колонии должна была следить за сохранением физического состояния заключенных, налаживать их медицинское обслуживание. Вводился обязательный восьмичасовой беспрерывный сон. Между колониями были даже соревнования за снижение смертности заключенных! (Интересно, сохранились ли в архивах социалистические обязательства по этому пункту?).
Разумеется, никакого альтруизма здесь не было. Просто в условиях сурового военного времени высшее гулаговское руководство требовало от начальников лагерей и колоний полное использование бесплатной рабочей силы заключенных.
Начальником Злобинской колонии был Яков Никитич Синицын – кадровый сотрудник НКВД, но не ГУЛАГа. Накануне войны он командовал пограничной заставой где-то на западной границе СССР и, предчувствуя ее неизбежность, он сумел отправить семью в тыл, подальше от границы. В самом начале войны, попав в окружение, Яков Никитич, действуя по заранее известной работникам его уровня инструкции, закопал где-то в лесу свои документы, в том числе и партбилет. Чудом выйдя из окружения, он, естественно, попал в руки спецотдела, который проверял его вдоль и поперек. Не найдя в его действиях никакого криминала, на фронт его все же не отправили, видимо до конца не доверяли, а направили в глубокий тыл – начальником колонии, что считалось для чекистов серьезным понижением. Не знакомый с мерзостями гулаговской системы, Яков Никитич, при всей суровости военного времени, как к зэкам, так и к вольнонаемным относился по-человечески, и люди ему платили тем же. С новым начальником колонии у мамы сложились дружеские рабочие отношения. Он ценил мамину въедливую добросовестность, ее умение организовывать и направлять производство, принимать неординарные решения. Мама очень хорошо отзывалась о Якове Никитиче, который не раз ограждал ее от оперчекистских угроз. В ГУЛАГе он не прижился и после войны перешел на гражданскую работу в Чернигове.
Дальнейшие письма, хотя и сумбурны, но достаточно обстоятельно описывают будничную жизнь отдаленного специфического тыла, повседневные заботы двух женщин – мамы и бабушки и в особых комментариях не нуждаются.
МАМА – БАБУШКЕ
28 декабря 1941 г.
Родная моя, хорошая моя мамусенька! Мне хочется плакать от радости, что я снова пишу тебе. Сегодня у меня один из счастливейших дней – я, наконец, получила весточку от тебя. Не знала, что и думать, места себе не находила. Почти 2 месяца ничего не знала о тебе. А сегодня пришли из Канска 2 открытки от 5/XI и от 30/XI. Правда, все это древнее, но теперь я спокойна, я знаю, что ты жива и тетки мои тоже.
Огорчила меня бабушкина смерть. Правда, от радости, что от тебя пришло письмо, я не так остро это пережила, но, когда пришла в себя, мне стало очень горько. Я знаю, что бабушка была очень старенькой, что в такое тяжелое время жить ей было бы тяжелее, чем умереть. Мне больно, что она не дождалась меня. Ведь она любила меня, и я помню, как ты писала, что ей хотелось умереть, но прежде повидаться со мной. Чем она была больна? Отчего умерла? При каких обстоятельствах? Напиши, если это тебе не тяжело.
Я осела в Красноярске. Первый месяц основательно помытарствовала. Первые дни пыталась через Военкомат попасть сестрой на фронт, но из этого ничего не вышло. Поехала в Красноярск, в управление нашего лагеря, чтоб устроится на работу.
Вообще сейчас с работой очень неважно, большой наплыв эвакуированных, а у меня, к тому же, никакой специальности. Ни в редакцию, ни на педагогическую работу я идти не могла, да если бы и могла – людей и без меня хватает, а пойти на работу счетоводом или секретарем на 250 – 300 рублей – это значило обречь себя на голодное существование.
Управление пошло мне навстречу (не сразу), и там стали подыскивать подходящую для меня работу в своей системе. Направили в Канск, но там не оказалось вакантных мест. Я вернулась обратно. Направили, но неудачно, в другие места. И, наконец, получила направление в Злобинскую колонию, где и работаю экономистом. Ставки своей не знаю еще. Прошла месячный стаж на 450 рублей, а сейчас ставку должно утвердить Управление. Колония ходатайствует о 600, но в Управлении любят урезать.
Колония находится в Красноярске, но на правом берегу Енисея. Летом ходит катер, а зимой – автобус и поезд. Живу выходным.
Сегодня вообще-то рабочий день, но у нас об этом своевременно не знали, не все сотрудники пришли, а поэтому рабочий день перенесли на будущее воскресение. Все утро я провозилась с получением картошки, и совсем было решила не ехать в город, так как завтра все равно туда ехать в Управление по делам. Но потом стало меня подмывать съездить, будто чувствовала, что есть от тебя письмо. Я в Канске сделала переадресовку на адрес Шуры Ивановой (у которой было мое зимнее пальто). Приезжаю к ней – и от тебя открытки. Я сейчас же пошла на телеграф и дала тебе телеграмму в Чистополь.
Да, мамуся, тяжелый был у меня первый месяц. Без работы, без близких, почти без денег, в обтрепанной одежонке и без крова... Но теперь все хорошо. Я работаю. Ко мне хорошо относятся, работа меня удовлетворяет, я сыта, у меня есть свой угол и славная хозяйка. И у меня есть моя мамочка и родные. Я, наверно, самый счастливый человек на свете.
А ведь за первый месяц я не раз с огорчением вспоминала последние 2 года и завидовала тем, кто там остался. Как в это время ко мне чудесно отнеслась Шура!
Сначала я остановилась у Гольденбергов, но потом я стала чувствовать себя у них лишней, словно на положении бедной родственницы.
В следующий приезд из Канска я остановилась у Шуры. Как трогательно она ко мне относилась! Мое пальто увезла Зина, я ходила в жакете, переделанном из того пальто, что ты мне прислала. А уже начались морозы. Она одела меня в свое пальто, дала свои валенки и вообще проявила столько заботы, что я чувствую себя обязанной ей навеки. Сейчас мое пальто снова на мне, но в валенках я хожу ее. Скоро у меня будут свои: Зина должна прислать или привезти.
Насчет вещей я написала Леле Атлас, но боюсь, что переслать их будет трудно. В крайнем случае, придется через месяц съездить за ними. А то я без белья и одеть нечего. Но это все ерунда. Не я одна сейчас в таком положении.
Вообще устроилась неплохо. Приобретаю новую специальность – планово-экономическую. Руководит мной очень знающий и с большим практическим опытом человек. Начальник планового отдела обещал перебросить меня на самостоятельную работу, как только подучусь. В общем, здесь все благополучно обстоит. С питанием сейчас тоже неплохо. Первое время было трудновато. Колония наша новая, снабжение не организовано, а на рынок существовать невозможно. А сейчас понемногу наладилось. Обедаю в столовой, обеды хорошие, а утром и вечером дома готовит хозяйка. Есть у меня мясо, масло, картофель. В общем, полное хозяйство. Запас месяца на 1, а потом еще выдадут.
Чувствую я себя очень неплохо. Сдала немного, но уже опять стала поправляться. Одно у меня плохо. Я, кажется, тебе об этом не писала раньше. После смерти Юрика, у меня появилось нервное заболевание кожи: сильный зуд всего тела и вся покрыта волдырчиками, струпьями и пятнышками. Это то усиливалось, то почти проходило, а за последнее время дошло до апогея. Сейчас я лечусь, и врач уверяет, что это пройдет. Принимаю пантокрин, бром с кодеином. Все это очень неприятно, хорошо хоть на лице и на шее нет ничего, но короткий рукав сейчас носить не могу.
Живу я очень замкнуто, нигде почти не бываю, только к Шуре езжу, изредка заглядываю к Тамаре и сейчас жду приезда Зины. Новый год, возможно, буду встречать. Вот и все о себе.
Как ты? У тебя, наверно, очень туго с деньгами. Напиши об этом, дай телеграмму, я достану и переведу. Работаешь ли? Я, конечно, никуда сейчас не поеду. У меня хорошая работа и в моем положении это лучшее, что может быть. Что касается тебя, то я считаю, что самым правильным было бы вернуться в Москву. Если же это невозможно, то приезжай ко мне. Хватит нам врозь жить. Здесь ты устроишься на работу по силам, в нашей же системе, там же, где я. У нас охотно берут родственников своих сотрудников. Будем вместе, и нам будет хорошо. Я полагаю, что в случае, если нельзя вернуться в Москву, было бы неплохо и Анюте переехать сюда к нам же. В общем, обсудите там этот вопрос.
Как вы устроились там? Напиши обо всем.
Пиши мне либо в адрес колонии: Красноярск. Правый берег Енисея. Злобинская КМР, или в домашний: Красноярск. Правый берег Енисея 4 участок,46 барак, комната 22.
У моей хозяйки чудесная 6-месячная девочка. Я с ней играю и вспоминаю своего Юрика.
Ну, мамочка, будь здорова, береги себя. Крепко целую моих теток и дядю. Счастлива, что все нашлись. Обнимаю мою мамочку и много раз целую. Твоя Миля.
Главной маминой заботой по выходе из колонии, кроме поиска работы, была экипировка. Вещи, подготовленные бабушкой к отправке из Москвы, оказались разбросаны почти по всей Сибири, по друзьям и знакомым. Часть вещей оказалась в Омске, за которыми мама должна была поехать. Однако эта поездка была связана с большими трудностями, и не только материального порядка. Еще до войны шла борьба за укрепление трудовой дисциплины, и во время войны с работы не отпускали. Трудности были связаны и с загруженностью железных дорог (перевозки шли на запад), и с комендантским режимом (требовалось получить специальное разрешение на передвижение).
Сердце кровью обливается, когда читаешь, что голодная, неустроенная мама завидовала тем, кто остался за колючей проволокой, находясь на «государственном обеспечении». Конечно, война есть война, в это время никому не бывает хорошо, ни на воле, ни в ГУЛАГе, где нормы питания были снижены, а нормы выработки повышены. Об этом мама узнает позже, работая экономистом в колонии.
И снова везение на людей – Шура Иванова (Александра Игнатьевна)[244]. О ней, как и о Шуре Ермолаевой, я ничего не знаю. Знаю только, что познакомились они в Красноярской тюрьме, что в случае непредвиденных обстоятельств, письма, телеграммы и посылки – все это шло на ее адрес. Видимо она была смелая женщина, раз позволяла тюремным знакомым пользоваться своим адресом. Во всех письмах военного периода, Шура (Александра Игнатьевна) будет фигурировать постоянно. После войны, вероятно, они потерялись, и мама уже не встречалась с Александрой Игнатьевной. Сохранилось очень теплое мамино письмо к ней, почему-то не отправленное (или вернувшееся?), которое относится к январю 1945 г.
1942 ГОД
БАБУШКА – МАМЕ
4 февраля 1942 г.[245]
Моя родная Милюся! Наконец-то вчера ночью привезли из Чистополя письмо от 28-го декабря 1941 г. Печать 31 декабря 1941 г. и телеграмму. Это за 3 месяца первая весточка от тебя, мое солнышко. Сегодня телеграфирую на адрес колонии, дабы ты была спокойна. Завтра буду в городе. Если принимают авиа, то пошлю, а нет – пошлю заказным и все напишу.
Намытарствовалась ты, моя родная, достаточно.
Телеграфировала много в Канск, указывая адрес: «Казань 19 востребования». Телеграфировала Зине с оплаченным ответом. Ответа нет. И я одновременно телеграфировала в Канск – Довгилову, в Красноярск – Тале, в Омск – Е.С. Атлас. Но ответа нет. Это все пока в прошлом.
Хотела бы знать о твоем здоровье, как твоя кожная болезнь?
Насчет вещей. Целы ли они в Омске? Они оставлены у бывшей домработницы Анюты: 2-ая Северная 59. Екатерина Федоровна Зяславич. В письме все напишу.
Анюта работает. Наверно, пока останемся в Казани. Мне деньги не нужны. Кушай хорошо. При хорошем питании пройдут скорее эти болячки. Пишу тебе адрес Шуры: Бодайбо, Мамакан, Иркутской области. Ермолаевой А.С. Обнимаю, целую. Твоя мама. Привет от родных.
БАБУШКА – МАМЕ
5 февраля 1942 г.
Моя родная Милюся! Вот уже 2-ой день, как я получила от тебя весточку за 3 месяца. Вчера телеграфировала тебе на адрес службы и послала открытое на адрес, где ты, моя Миля, живешь. Я думаю, что до сих пор ты получала мои письма и телеграммы, посланные с дороги и Казани. 31/XII 1941 г. я тебе послала поздравительную телеграмму в Канск до востребования. 14/I 1942 г. запросила Зину о тебе, оплатила ответ, но ничего нет. 29/I – день твоего рождения.
Я запросила о тебе Довгилова в Канск, Атлас в Омск и Талю в Красноярск. Наверно ты начнешь теперь получать мои письма и телеграммы.
Относительно твоих мытарств, я так и чувствовала, но не знала, где ты, не могла помочь ничем. Своевременно писала Зине в Широ, просила ее тебе помочь. Теперь ты устроена, и как я рада за тебя, моя Миля. Только бы болезнь твоя скорее прошла. Кроме лечения надо питание усилить. Относительно Александры Игнатьевны, передай ей мое материнское и человеческое спасибо, а когда буду у тебя, то есть с тобой, моя Миля, то чем буду в силах, то и сделаю.
Теперь, моя родная, относительно твоего чемодана с вещами. Я тебе писала и повторяю: они в Омске у бывшей домработницы Анюты. Омск, 2-ая Северная, 59. Зяславич Екатерина Федоровна. Все ты там имеешь, кроме обуви. Я только боюсь за целость, так как от нее также ничего нет. Гриша[246] имел адрес Лели и ее. Почему он оставил вещи у Кати – не знаю.
Теперь относительно себя и нас всех. Я тебе писала, что Анюта ехала в качестве врача со 2-м часовым заводом. Я не думала ехать никуда, но в это время бабушка заболела, и ее пришлось положить в психиатрическую больницу. Я была совсем одна, работа была ночная, я ночевала в учреждении, а бабушка была одна. Утром я приходила домой, а к 3-м часам уезжала. Первое время, после отъезда Фани, ночевали Давид или Гриша, а потом их взяли в Красную Армию.
Словом, 16 октября я маму отвезла в больницу, и дом остался совсем пустым. А 1-го ноября бабушка умерла, и когда Анюта решилась ехать, у меня был какой-то страх остаться без родных и знакомых. Верно, осталась на месте только Мерка. К тому же я хотела быть ближе к тебе, моя Миля. Ехать обратно, как ты пишешь, пока не разрешают, а как быть мне дальше, еще не знаю. Пока мы в Казани
(приписка): Казань. Дальнее устье. Дом 13, общежитие № 3.
Анюта, помимо того, что обслуживает работников завода, работает в больнице. С ней работает сестрой сестра Мани Гутиной. Живем теперь в общежитии, возможно, перейдем в комнату (недалеко от общежития) до весны, а потом уедет ли Анюта в Чистополь или другую окрестность, еще неизвестно.
Здесь условия работы тяжелые – очень далеко ходить. С Анютой – Соня, Зина и я.
Дядя все время был в больнице и 27 января он умер. Очень тяжело, моя Милюся, было его мучение и его ненужная смерть. Нам всем было это тяжело, а Анюте тем более. Похоронили его 31/I.
В данное время я могу оказать кое-какое облегчение, к тому же надо списаться с тобой, моя дорогая. Здесь очень холодно. Я имею валенки Тамарины.
От Фани ничего не имею. Тетя Фрума с Эббой и ребятами в Фергане: ул. Кирова, 2. Костя[247] был на фронте еще под Киевом. Теперь не знаю, где он. Также не знаю, где тетя Сахна с семьей Зямы, и где Давид и Гриша. Зина на Сахалине в Александровске и Фаня там же. Гинда в Уштобе [248]. Где Нина и Лида,[249] не знаю, также не знаю, где все мои знакомые.
Милюся! Ты пишешь, что имеешь что кушать, а как насчет сахара, есть ли у тебя? Посылаю адрес Шуры. Бодайбо, Мамакан, Иркутской области. Еромолаевой. Я ей пишу часто. Она для тебя купила туфли, но послать не может. У меня есть твои фетровые боты. Чулок я не захватила, но в твоем чемодане они есть.
Жду, родная моя, от тебя письма. Передай мой сердечный привет твоим друзьям.
О Юреньке, моя Миля, я скорблю все время и переношу вместе с тобой твое горе. Миля, моя родная, как я болею за тебя! Одно меня поддерживает, что ты умница, не падаешь духом, веришь в хорошее, умное, правдивое. Одна мысль у нас всех и желание избавить наше Отечество, весь народ от проклятого врага фашизма, от гитлеровских людоедов.
Ну, будь здорова, моя Миля. Целую тебя крепко. Твоя мама. Привет и поцелуй от всех.
К этому письму приложено письмо Анны Семеновны Виленской.
ВИЛЕНСКАЯ-ЗЕЛИКИНА А.С. – ВИЛЕНСКОЙ Э.С.
Дорогая Милечка! Я поздравляю тебя от всей души с прошедшим днем рождения и с вступлением твоим на самостоятельный пост. Надеюсь, что ты вполне справишься со своей работой, ибо за тобой добросовестность, честность и желание работать.
Мы много пережили и переживаем. О чем, верно, мама тебе пишет. Мне еще очень тяжело касаться всех подробностей. Будучи ответственной за всю свою семью, я все-таки не смогла уберечь дядю, и он первый стал жертвой нашей тяжелой эвакуации. Хотя я его поместила в лучшие клиники, но я лично не могла ему уделить того внимания, к которому он привык, благодаря целому ряду обстоятельств. И это укоротило его жизнь. Такова наша действительность. Тяжко старикам жить без молодых.
Я рада за маму твою, что она будет жить с тобой. Вообще-то она молодец и лучше всех нас сохранилась. Безусловно, ты поддерживаешь в ней эту бодрость. Соня совсем старенькая, а я почти такая же. Верю в лучшее будущее, хочу дожить до него, дабы быть свободной от ответственности. Целую крепко тебя, и много раз будь здорова и бодра. Твоя Анна.
МАМА – БАБУШКЕ
19 февраля 1942 г.
Родная моя мамусенька! Наконец-то сегодня я получила от тебя телеграмму в Красноярск, и теперь мы сможем наладить связь. Я готова была запрыгать от радости. Вчера я получила письмо от 3/I, но это же 1 месяц назад, и я раздумывала, где же тебя искать. Решила подождать до воскресения и в воскресение телеграфировать в Чистополь и в Казань.
Как вы там живете, на какие средства? Есть ли виды на возвращение в Москву? Если нет возможности вернуться (а это, по-моему, надо пытаться делать, связавшись с твоим отделением Госбанка и получить от них вызов), то надо тебе ехать ко мне. Мне же ехать к тебе, когда ты сама не имеешь ни угла ни приюта, совершенно бессмысленно. Ведь я работаю, устроилась неплохо по моим нынешним возможностям.
Беспокоит меня твое положение. В воскресение буду в городе, постараюсь добыть денег и перевести тебе. Просто не представляю, на какие средства ты живешь.
Получила ли ты письмо, которое я отправила тебе одновременно с телеграммой? Там я подробно писала тебе о себе. И сейчас могу прибавить очень мало нового.
25 февраля
Не удалось закончить письмо, а за это время получила от тебя открытку и письмо. Наконец-то налаживается наша связь.
Крепко меня поразило известие о дядиной смерти. Больно за Анюту, по ее письму вижу, что она себя винит в этом. Разумеется, это не так, он и жил-то благодаря ее уходу и заботе. Что послужило причиной смерти? Сахар[250]? Сколько вы все горя хватили за это время! Так хотелось бы помочь вам, морально поддержать. И бессильна что-нибудь сделать.
Надо нам объединиться. Я не знаю, что вам всем дает Казань. Судя по тону твоего письма, хорошего мало. Правда, сейчас всюду жизнь не легка, да иначе оно и быть не может в такое время.
У меня вот какая идея и предложение: переезжайте вы все сюда. Анюта здесь сможет превосходно устроится, я в ближайшее время, как только буду в Управлении, поговорю с начальником санотдела на этот счет. Они, разумеется, за нее ухватятся, так как кадры у них не блестящие. Можно было бы поехать в сельхоз-колонию, там жизнь легче и с питанием лучше, и вам, после всех ваших мытарств, пошла бы на пользу деревенская жизнь. Климатические условия здесь хорошие, места очень красивые. В общем, мне кажется, что это было бы самым рациональным. Ты могла бы работать, если бы захотела, а еще лучше – хозяйничала бы. А, самое главное, мы бы все были вместе. Кроме того, я считаю, что в нашей системе работать неплохо. Подумайте над этим и сообщите мне ваше мнение.
Как вы устроились с питанием? На какие средства живете? Рынком, вероятно, пользоваться немыслимо. Есть ли приличная столовая? Много ли народа в общежитии? Трудно вам, наверно живется. Знаю я эту жизнь в общежитии. Но я-то ко всему привыкла за эти годы, и мне ничего не кажется особенно тяжелым. Зато как мне хочется пожить в семье, если бы ты знала! Когда я прихожу в какой-нибудь семейный дом, особенно, где есть мать, я представляю себе, как мы могли бы жить, как мы обязательно будем жить!
Живу я и работаю по-прежнему. Платят мне мало – 500 рублей, но ведь и экономист я свежеиспеченный. Снабжение у нас сравнительно приличное, плохо только со столовой. Была очень хорошая столовая, но была она по блату[251], а теперь блат кончился, и нас открепили. Хотят свою столовую организовать, но выйдет ли что, неизвестно пока. В общем, столовую имеем, но очень скудную. Все же я без жиров не живу, жду, что Зина привезет еще. Я ее к 7/III жду. У нас будет расширенное совещание, на которое она должна приехать. В январе она была здесь (как раз тогда, когда ты ей отправляла телеграмму).
От тебя я ни одной телеграммы так и не получила, но несколько писем, отправленных в Канск, с большим опозданием пришло.
Завтра буду телеграфировать в Омск относительно вещей. Хорошо было бы, чтоб ты их захватила на пути ко мне. Вообще, тебе нужно будет сначала получить вещи из Москвы (что у тебя там осталось, кто остался в квартире?), отправить их багажом, и себя в дороге вещами не связывать. Книги и мебель, если есть, у кого оставить, брать не надо. Я еще не считаю себя твердо обосновавшейся, комнаты у меня нет. Но, когда ты приедешь, я добьюсь чего-нибудь, а если приедете все, то тогда вопрос совсем иначе будет стоять.
Возможно, после 10/III я поеду в Омск сама. Я говорила об этом с начальником, он обещает походатайствовать в управлении. Не хотелось мне лишних затрат, так как финансовое положение мое неважное. Концы с концами, конечно, свожу, и питаюсь неплохо, но скверно у меня с обувью и прочим.
Правда, понемногу начинаю обзаводиться. Есть у меня материал на рубашки. Сшила себе суконную юбку, здесь мой костюмный жакет, правда, нет приличной блузки, но сейчас срочно вяжу себе (к совещанию спешу) из шерстяных трико, которые Соня подарила. В воскресение собираюсь на барахолку, искать туфли, обещал мне наш старший экономист дать ссуду для этой цели. Неважно обстоит у меня дело с пальто. Подкладка – одни клочья, главное, пух вылезает. Вообще, его надо лицевать к будущей зиме. Вот видишь, как подробно я изложила тебе все мои дела.
Зуд мой почти совсем прошел. Во всяком случае, исчезли все нарывчики, но немного еще почесываюсь.
Вообще, чувствую себя очень неплохо. Выгляжу вполне прилично, конечно, постарела малость, но это только внешне. Внутренне я полна сил, энергии и молодости.
По воскресениям езжу в город. Правда, у Гольденбергов давно не была. Есть у меня приятельница на работе. Вообще, ко мне там неплохо относятся. Была на днях у Клавдии Федоровны.[252]
МАМА – БАБУШКЕ
4 марта 1942 г.[253]
Родная моя мамусенька! Получила от тебя письма и открытку в адрес колонии и в домашний. Наконец-то я относительно спокойна. Теперь у меня основная забот,а как бы тебя перетянуть к себе.
У меня все идет своим чередом, работаю и жизнью довольна. Телеграфировала в Омск насчет вещей, выяснила, что они сохранны. Один мой приятель должен выехать в Петропавловск. Он обещает либо по дороге заехать в Омск и отправить мне вещи, либо выехать для этого из Петропавловска. В крайнем случае, мне придется самой съездить туда. Это будет лишний расход, но ничего не поделаешь.
Получила письмо от Шуры. Она в мае будет здесь. Сообщила мне, что тебе требуется для выезда ко мне.
Как вы там живете? Где мое пальто? В Омске? Туфли я, возможно, закажу здесь (из своих ботинок сделаю).
Крепко целую тебя, Анюту, Соню и тетю Зину. Пиши теперь регулярно. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
12 марта 1942 г.[254]
Дорогая моя мамуся! Отправила тебе телеграмму, письмо и открытку. От тебя получаю регулярно письма. А телеграммы, видно, идут почтой: все нет ответа на мою.
На какую работу ты устроилась? Я этим недовольна. Тебе надо собираться сюда, а ты зачем-то с работой связываешься. Приехать к тебе, если поеду в Омск, я не смогу, конечно. Даже выезд в Омск будет сопряжен с такими трудностями, что я предпочла бы не ездить. Возможно, это удастся.
Так у меня все по-старому, все в порядке, настроение превосходное, чувствую себя великолепно. На днях напишу подробное письмо. Получила письмо от Шуры. Скоро должна приехать Зина. Она переводится сюда, не знаю только, в какое место. Ну вот, мамуся, все пока.
Где ты живешь? Пишешь какой-то новый адрес. Где ты питаешься? Целую крепко тебя и теток. Жду вашего приезда. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
23 марта 1942 г.
Родная моя мамуся! Получаю от тебя регулярно открытки. Но еще нет ответа на мое письмо первое в Казань. На телеграмму я ответа и не жду, так как телеграммы идут почтой, и она придет, вероятно, одновременно с письмом.
Ты пишешь, что работаешь. В качестве кого? Я этим не очень довольна. Хочу, чтоб ты скорее приехала ко мне. Лучше всего было бы, чтоб вы все приехали. Но согласится ли Анюта? А она бы здесь устроилась неплохо. И, вообще, здесь условия жизни легче, чем на Западе: цены ниже на рынке и можно кое-что достать, особенно в нашей системе. Мы получаем и крупу, и сельди, и даже масло. А, если поехать в сельхоз-колонию, то там с питанием еще лучше, не говоря о том, что там можно держать кур, поросенка и корм для них получать по твердой цене.
Тебе следует получить, согласно постановлению об эвакуированных, вещи из Москвы, причем их надо адресовать прямо сюда, чтоб облегчить выезд. Если требуется что-нибудь отсюда, чтоб облегчить выезд, сообщи, что надо, я устрою. Если я даже поеду в Омск, то заехать к тебе я не смогу. Даже поездка в Омск связана с большими трудностями формального порядка, и если мне удастся это, то только благодаря тому, что ко мне хорошо относится командование.
У меня сейчас ожидаются кое-какие перемены. Наша колония ликвидируется, и куда меня переведут, еще не знаю. Больше всего шансов перейти в соседнюю колонию, здесь же в Красноярске, но возможны и другие варианты, возможно в Канск поеду. В общем, пока ничего не известно, ясно одно, что без работы не останусь. Ты пиши мне по домашнему адресу и лучше заказные письма. Если я уеду, то смогу получить их.
Живу я хорошо. Кое-как приоделась. Сегодня будут готовы туфли – самое мое уязвимое место. Сшили их в нашей колонии, это меня сильно выручило. Сварганила я себе юбку из синей суконной гимнастерки нашего сотрудника, вяжу блузочку, сшила и вышила рубашки.
Настроение у меня хорошее. Понемногу заводятся друзья. Сбилась у нас маленькая, но теплая компания из наших сотрудников. Бываем в кино, в театре, дома встречаемся. Все это создает какой-то уют.
7 – 8 марта у нас было расширенное совещание в клубе НКВД. Я была на нем. Встретила там своих бывших начальников из Широ и из Абана. Но перед совещанием я побегала в жакете по зоне и 8 марта захворала на самом совещании. Наш начальник достал машину и отвез меня домой. Пролежала я с легким гриппом 2 дня, и все прошло. Вообще, я чувствую себя прекрасно. Главное, моральное состояние хорошее. Тебя нашла, получаю письма, на работе все хорошо, есть друзья, скоро приедет любимый (кстати, сегодня получила от него письмо). А если бы вы все приехали сюда, было бы совсем замечательно. Очень стосковалась я по семье, надоело жить одной, без домашнего уюта.
Ну вот, мамуся, все тебе подробно написала. Пиши, где работает Анюта, на какой работе ты, вместе ли живете, есть ли письма от Фани? Какие вещи ты оставила в Москве, где мое пальто демисезонное? Я вообще не знаю, какие вещи у меня в Омске.
Целую крепко тебя и теток. Очень жду вас. Твоя Миля.
БАБУШКА – МАМЕ
22 марта 1942 г.[255]
Моя Миля родная! На днях послала тебе открытое и должна была телеграфировать, но, так как в телеграмме оказалось больше 20 слов, то ее у Сони не приняли, а пока я могла ее переписать, то получила твое письмо от 19/II, законченное 25/II и открытое от 4/III. Но до сих пор не могла выбрать время написать тебе, моя дорогая доченька.
Я сегодня дежурю на работе и могу писать. Отвечаю на 1-й вопрос, на какие средства живем. Я имела у себя около 700 рублей. Рынком не пользуемся, это не по карману. Была столовая. Хлеб получаем от организации, а теперь сухой паек от 2-го часового завода, с которым ехали. Так что мы сравнительно неплохо питаемся. Раньше получали время от времени сливочное масло, а теперь растительное. Получаем те, кто работает, 800 грамм хлеба в день, сахара понемногу, мясо нечасто. В этом месяце получили конфеты по коммерческой цене и также мясо. Вчера получили картошку по государственной цене – 5 килограмм на человека. Это уже 2-ой раз после столовой. А рыночные цены дорогие: картофель – 15 р. за килограмм, лук – 18-20 р., мясо – 80 р., мука ржаная – 500-600 р. пуд, масло сливочное – 120 р. за 400 грамм. Но так как мы живем пайком, то нам хватает наших средств. Теперь же я временно работаю, и поезжай я в Чистополь, то и там бы работала, но у нас еще этот вопрос не решен. Ты, моя родная, обо мне не беспокойся: будет необходимость – попрошу у тебя. А теперь сама питайся и приоденься. Я думаю, что ты достаточно намучилась.
Да, Миля, я тебе еще с Москвы послала телеграфно 200 р. на адрес Канска, получила ли ты их? Я что-то не помню подтверждения.
Анюта работает на двух ставках. Соня и Зина ведут хозяйство. Я теперь одна живу в общежитии, так как это ближе к работе. Потом я для всех получаю пайки, а их раздают ночью, когда все рабочие дома. После отъезда всех в Чистополь, здесь останется отделение конторы и немного обслуживающего персонала.
Теперь относительно поездки всем нам к тебе или в другое место. Это Анюта сама не знает, как быть.
Белла и Костя с тетей Пашей в Ташкенте и Белла пишет, чтобы Анюта туда ехала[256].
Роза с Эллочкой в Кзыл-Орде. Лида Басс на фронте, брат Эзра – в клинике на излечении, мать их в Ленинграде, отец работает техническим директором в Мордовской АССР. Фаня, Тамара, Фрума с Эббой – в Фергане. Об остальных ничего не знаю.
Я думаю, моя родная, что до тепла никуда не уеду. Когда Анюта где-нибудь сможет обосноваться, я смогу оставить немного вещей у нее и поехать к тебе, моя Миля. С вещами очень трудно ехать, а твоя мама за это время состарилась. Да, я еще должна немного помочь Анюте, пока она осядет где-нибудь. Я самая молодая в ее коллективе, а как я хочу видеть тебя, помочь бы, чем могу, приласкать свою доченьку, услышать с твоих уст: «мамочка». Да, моя родная!
Относительно Москвы я ничего не предприняла. Осталась обстановка моя и Фани, посуда, много необходимых вещей. Главное, чулки и старое трико, и куски материи – нечем теперь заплату положить. О книгах и говорить не приходится. Ключи я оставила дворничихе и, наверно, ничего уже нет. Дуня Фанина была 11/II у нас на квартире, квартира была опечатана.
Ехать в Москву в данное время не собираюсь. Уехала сестра Мани – Кейля, но от нее пока ничего нет. Анюта того мнения, что бы ты была с нами. Пиши, возможно ли это.
Относительно твоей личной жизни, я очень рада, если ты имеешь настоящего друга и ты не так одинока. Могу только пожелать тебе, моя Миля, полного счастья. То, что такая разница в летах, то тебе виднее, моя родная. Ты видишь, что при всем желании матери облегчить тебе жизнь, я сижу на месте, так складываются обстоятельства.
Милюся! Напиши мне адрес родителей Зины, ей же передай мой привет. Шура мне писала с Бодайбо, что купила для тебя туфли. Есть ли у тебя галоши? Их теперь здесь не достать.
В чемодане твое демисезонное пальто, все платья. Юбки, вязаные блузочки, отрез, что Зяма привез, чулки и, кажется, бельевой материал. Обшит чемодан хаки, материалом твоим. Так что ты постарайся получить чемодан и сохранить. Когда я приеду, то зимнее пальто справлю и так далее.
Бываешь ли ты у Александры Антоновны[257]. Передай ей мой сердечный привет, также Тале и ее семье.
Милюся! Смотри, лечи твои болячки, как ты их называешь. Питайся хорошо. Я буду спокойна, когда ты, моя Миля, будешь здорова. Привет от матери передай твоему другу. Как живет Тамара Братухина? Привет твоей хозяйке Марусе и поцелуй девочке.
Целую тебя крепко-крепко, до желанного скорого свидания. Твоя мама.
(Приписка): Возможно, буду телеграфировать для твоего спокойствия, так как я долго не писала из-за неимения от тебя писем.
Пишу этот адрес знакомых. Может, случайно кто поедет, чтобы был адрес.
МАМА – БАБУШКЕ
1 апреля 1942 г.
Родная моя мамусенька! Две недели ничего от тебя не получала. Сегодня пришла открытка от 15/III, со штампом от 19/III. Не понимаю, почему ты от меня ничего не получаешь. Я регулярно пишу на 19-е почтовое отделение до востребования. Первое письмо, отправленное в Казань, было послано 19/II, и тогда же я дала телеграмму, но телеграммы идут почтой. В этом письме я писала и тебе и Анюте. Теперь буду посылать заказным.
Я писала вам обеим, чтоб вы сюда приехали. Это было бы самым рациональным. Здесь все же жизнь легче, чем на Западе. Пусть только Анюта даст свое согласие, и я переговорю у нас в Управлении. Ее, конечно, охотно возьмут. А в нашей системе, все же, какое-то снабжение. По-моему лучше всего было бы поехать в сельхоз-колонию, чтоб восстановить здоровье, после всего, что пережито вами. Можно было бы завести небольшое хозяйство: огород, поросенка, кур, козу и обеспечить себя на зиму. Климатические условия здесь пригодны и для тебя и для Анюты. Жили бы мы все вместе, и уже нам легче было бы.
Если Анюта согласна, дайте телеграмму-молнию, может быть, она пойдет телеграфом. Если же нет, то я просто не знаю, как быть. Ты не захочешь оставлять Анюту, и, вместе с тем, хочешь ко мне. Я бы все же настаивала на том, чтоб мое предложение приняли. После окончания войны, мы так или иначе попадем на Запад, на восстановление разрушенных районов, так что можно некоторое время пожить в Сибири.
Необходимо получить вещи из Москвы, причем адрес указать мой, или тот, где мы будем жить, чтоб вам с ними не возиться. Я понимаю, что Анюте не хочется уезжать из культурного центра, но сейчас надо думать о том, чтобы сохранить здоровье. Если Анюта согласится, то я переговорю здесь и сообщу, что надо делать.
Теперь сообщи мне, можешь ли ты выехать. Если это сопряжено с трудностями, напиши, чем я могу помочь.
О себе я писала тебе подробно во всех письмах, особенно в первом. Очень жаль, что ты его не получила. Я здорова. Вообще, с того колита, который был у меня в Москве (летом 1939 года. Н.В.), я ничем не хворала. Недавно был у меня лёгкий грипп, но прошёл в два дня, чувствую себя хорошо. На работе у меня все благополучно, отношение очень хорошее. Вообще ни на что не могу пожаловаться. Питание, еще недавно, было превосходным, теперь ухудшилось, но это общее явление.
С работой меня сейчас ожидают перемены. Наша колония ликвидируется, и я еще не знаю, куда меня переведут. Я бы хотела в район, так как там сытнее. На этих днях выяснится. Ты мне на адрес колонии больше не пиши, а пиши домой. Как только выяснится, я тебе напишу.
Писала я тебе и о своих сердечных делах. Через две недели мой «он» должен приехать, и я жду его не дождусь. Как видишь, у меня все обстоит прекрасно.
Первое время я почти нигде не бывала, кроме Тамары Петровны Братухиной и Александры Игнатьевны, а теперь у меня завелась небольшая компания, и мы частенько ходим в кино, в театр или ко мне пьянствовать (не подумай, что всерьез). Был на днях у нас в колонии вечер, на котором мы веселились, домой вернулись в 4 часа утра.
Неважно обстоит у меня дело с туалетами. Изобретаю все, что могу. Из гимнастерки суконной, нашего сотрудника, соорудила себе юбку, из старых шерстяных трико вяжу. Давали у нас в ларьке ситец, я обменяла его на тонкий бельевой материал и сделала рубашки. Самое мое уязвимое место – обувь, тоже нашло некоторое разрешение. Сшили мне в колонии из разных обрезков туфли зеленовато-коричневого цвета: задники замшевые, носы кожаные. Туфли очень удобные и вполне приличные. Стоило это 60 рублей, то есть почти бесплатно, так как на барахолке дешевле, чем за 500-600 рублей не купишь самые простые. С чулками дело хуже, но тоже выкручиваюсь.
Совершенно изорвалась у меня подкладка на пальто зимнем. Обещают мне достать подкладку, тогда отдам перелицевать пальто в колонию, у нас хороший портной. Главное, здесь такие вещи, как шитье, ремонт и прочее стоят гроши (в колонии, а не в Красноярске).
В общем, можешь быть за меня совершенно спокойна. В воскресение я поеду в город и снимусь, чтоб послать тебе карточку. Увидишь, какая я теперь. Косы у меня уже до пояса почти, я их укладываю на голове коронкой. Объема я умеренного, лицом за последнее время немного похудела, а вообще-то, постарела, но еще не дают 30-ти лет. Если бы нам удалось еще соединиться вместе, я бы полностью чувствовала себя счастливой.
Думаю, как только выяснится вопрос с работой, поехать в Омск за вещами. Получила оттуда телеграмму от Кати и письмо от Елены Соломоновны Атлас.
С Зиной переписываюсь. Она скоро должна сюда приехать. Хочет работать в Красноярске, но я не одобряю ее решения: сейчас в районе лучше. В январе она была здесь в командировке, мы виделись. Ждала я ее 8/III на совещании, которое было в нашем Управлении, но ее не было. Я на этом совещании видела ее начальника, он говорил, что Зина скоро приедет, но подробно поговорить не удалось, так как я захворала, и начальник колонии отвез меня домой. Я пролежала всего два дня. Зуд у меня прошел, правда, есть у него тенденция возвращаться, но не в такой степени, как это было.
Сегодня буду стряпать пирожное, правда, из черной муки, но с кремом. Ну, скажи после этого, что я не замечательно живу! Жду телеграмму с согласием приехать сюда. Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля.
БАБУШКА – МАМЕ
4 апреля 1942 г.[258]
Моя Миля…
Телеграммы от …
И нет. Не знаю о чем…
Телеграфировала…
родная, чтобы ты не волновалась. Относительно моей работы, ты не волнуйся. Не это меня останавливает ехать к тебе, моя родная. Наверное, в ближайшее время решится, где устроится Анюта и сделается тепло, и я к тебе поеду, моя родная. Тебя прошу: пиши пока почаще. Насчет адреса, то я повторяю – знакомых и по этому адресу всегда можно будет знать, куда Анюта уедет, а теперь мы живем рядом с ними. Как ты устроилась с получением вещей? От Елены Соломоновны было письмо, и она думает опять куда-то ехать, но пока не знает куда. Вещи твои целы. Привет и поцелуй от Анюты, Сони и Зины.
Привет всем твоим... Твоя мама.
ЗЫКОВСКАЯ КМР
Злобинская колония массовых работ (п/я 288/7) просуществовала до апреля 1942 года, и по распоряжению Зам. наркома внутренних дел С.Н. Круглова была ликвидирована. Маму перевели экономистом в Зыковскую колонию массовых работ (п/я 288/8), которая находилась не в самом Красноярске, а в 20 км к востоку от города, на ст. Зыково.
МАМА – БАБУШКЕ[259]
(Начало письма утрачено)
/…/Хозяйка у меня хорошая женщина – красноармейка. Есть у нас маленькая Валюшка, ей 8 месяцев, чудесная девчонка, я ее очень люблю. Моя хозяйка – Маруся – готовит мне ужины и завтраки, стирает белье (я из-за «болячек» сама не стирала, но теперь скоро сама буду стирать). Живем мы хорошо, дружно.
Есть и еще одно обстоятельство, которое красит мою жизнь. Есть у меня роман, хороший и теплый. Правда дело это с большим «но» – мы в разных городах и видеться имеем возможность очень редко, но с этим ничего не поделаешь. Во всяком случае, мне хорошо и радостно, а это самое главное. Человек он замечательный, в стиле Юрия Михайловича, и очень похож на него, возраста он почтенного, на 20 лет старше меня, но хорошо мне с ним очень. Знаю я его давно, полтора года, но наше различное положение в то время и возможность всяких неприятностей тогда, – перенесли наш роман на нынешнее время. Недавно он был здесь 3 недели. Возможно, приедет 7 марта на совещание и обязательно 15 апреля.
Вот тебе полный отчет о твоей дочке. Не можешь пожаловаться на то, что я поскупилась на информацию.
Ну, родная моя, надо еще Анюте и Ивану Алексеевичу написать.
Целую тебя очень крепко. Целую Соню и тетю Зину. Твоя Миля.
Писать можешь и в адрес колонии и в домашний; телеграфировать лучше в колонию, короче адрес.
МАМА – БАБУШКЕ
6 апреля 1942 г.
Родная моя мамочка! Только что пришла с работы и получила твое письмо от 22/III – первое письмо в ответ на мое. И сейчас же сажусь отвечать (только на ужин 15 минут потратила).
Я от тебя тоже не получала 2 недели ничего и уже беспокоилась, а потом получила открытку, в которой ты обещала дать телеграмму на имя начальника и ждала, что он вызовет меня для нагоняя. У нас ведь на этот счет строго. А уж он бы меня погонял и поскулил надо мной тоже. Сегодня хотела написать тебе открытку, но решила подождать до завтра, в надежде на письмо от тебя (письма твои все время приходят в воскресение или в понедельник) и не ошиблась.
Первым долгом сообщу тебе свои новости. Я уже писала тебе, что наша колония ликвидируется, но не знала, куда меня назначат. Вчера это выяснилось, завтра должен быть приказ. Буду работать тут же, на Правом берегу Енисея, в такой же колонии, но, кажется, в должности старшего экономиста, то есть на самостоятельной работе. Это имеет свои преимущества: во-первых – ставка будет выше, а во-вторых – придется самой мозгами ворочать, и лучше усвою работу. А ведь мне же необходимо иметь специальность, пока не смогу вернуться к старой. Были еще варианты. Можно было пойти экономистом в лучшую колонию, куда перешел почти весь наш коллектив, но эта возможность от меня не уйдёт, если мне не понравится в моей колонии. У нас здесь был очень дружный и сплоченный коллектив, и жаль расставаться, а в той колонии, куда я иду, с этим хуже.
Была возможность поехать в район, за Минусинск. Возможность очень соблазнительная, так как там цены сказочные – мясо 6 рублей за кг. и так далее, но, во-первых – до твоего приезда я отсюда не хочу уезжать, а если поеду, то вместе с тобой, а во-вторых – это лишит меня возможности видеться с Иваном Алексеевичем и, наконец, надоела мне глушь, здесь все-таки город.
Относительно поездки в Омск за вещами дело обстоит так. Меня, кажется, отпускают после того, как я оформлюсь в Зыковскую колонию, но я могу ехать только в ближайшие дни, так, чтоб вернуться к 15-му, так как 15-го должен приехать Иван Алексеевич. Если в этот промежуток времени я не поеду, то потом уж смогу поехать либо между 20 апреля и 1 мая, либо после 5 мая.
Теперь о твоем приезде. Конечно, я хочу тебя видеть и жить вместе. Очень стосковалась. Не хочу я, чтоб это было в ущерб Анюте, так что ты помоги ей всем, чем можешь, а потом приезжай. Все же, по-моему, было бы лучше всем приехать сюда. Главное, можно обо всем договориться на месте, здесь и, возможно, Управление даст подъемные и прочее.
А все-таки здесь жизнь легче, особенно в нашей системе. Я, на всякий случай, поговорю завтра с начальником санотдела и тогда припишу, что он может предложить. Завтра я поеду в управление за назначением и за отпуском в Омск. Анюте после всего, что она пережила, надо бы в тихую обстановку, вот почему мне кажется, что ей следует принять мое предложение.
Что же касается моего приезда к вам, то я считаю это нецелесообразным. Неизвестно к тому же, отпустят ли меня, но если бы даже отпустили, то, посуди сама, какой смысл бы это имело.
Мне в настоящее время надо работать именно в нашей системе. Кроме того, я же фактически не имею специальности, которую могла бы применить. 5 месяцев работы экономистом – это не стаж. К тому же в гражданских учреждениях я и этих своих малых знаний применить не смогла бы, так как здесь особая специфика, которая мне хорошо известна, но в другом месте она не нужна. Я работаю экономистом по труду, но учет у нас совсем другого характера. В общем, мне рыпаться нельзя.
Цены здесь все же ниже ваших. Масло тоже дошло до 200 рублей за кг., мясо в такой же цене, как у вас, молоко – 15-18 рублей за литр и так далее, но рынком я не пользуюсь, только лук да молоко покупаю иногда. Имею столовую, довольно скверную, но, все же, есть можно. В ларьке получаю крупу, масло сливочное, сельди и рыбу, табак, вермишель, хлеба 500 гр., сахару 300 гр. в месяц. Маруся[260] подкармливает меня картошкой, а я беру для девочки манку, делюсь другими продуктами. В общем, выходим из трудностей как можем.
С обувью у меня теперь легче. Сшили мне в колонии туфли, сошьют еще одни из черных ботинок. Работа вполне приличная. А с чулками полная катастрофа. Есть у меня всего две пары рванных донельзя.
Мамуся, нельзя ли через ваш завод достать часы? Ведь я без часов. Сделала я когда-то непростительную глупость: оставила свои часы перед отъездом в Абан врачу по доверенности, а у него их украли. Сам он работает в районе в нашей же системе. Компенсацию я у него выдеру, но без часов трудно жить.
Ты пишешь, что трудно ехать с вещами. В этом отношении я тебе смогу вот чем помочь. В адрес колонии принимают посылки, в следующем письме я сообщу тебе № почтового ящика моей новой колонии, и ты посылками перешли вещи, а часть сдай в багаж, чтоб при тебе было только самое необходимое.
Твои 200 рублей я в Канске получила. Спасибо большое, они меня тогда выручили крепко. Я ведь и сейчас еще немного в долгу, но уже выкарабкиваюсь.
Адрес Зининых родителей я не помню, запрошу у нее. От Шуры получила недавно письмо. Она в мае приедет. Галош у меня нет, здесь они стоят 100 рублей и больше. Ботики мои еще целы, вернее стали целыми, так как к ним приклеили подметки и набойки.
Прочла я опись вещей в чемодане. Мамочка, а где же всякие шерсти для вязания? Отрезы шелка ты, наверное, продала. Это ты правильно сделала. А что за платье шелковое покроенное там? Что за отрез на пальто?
У Александры Игнатьевны я изредка бываю, у Тали уже месяца 3 не была, далеко от меня очень. Тамару вчера видела. Она плохо живет, нет никакого снабжения, и она сильно недоедает. Мать у нее умерла, мужа недавно взяли в армию, но он пока здесь.
Кажется, обо всем написала. Впрочем, можно ли все написать? Ведь о стольком надо поговорить, все равно всего не напишешь.
Сейчас закончу письмо, напишу для Маруси запрос о ее муже: от него нет известий, и буду вязать блузочку.
Ну, родная моя, на этом закончу. Пиши и скорее приезжай. Что тебе нужно будет для выезда, пиши, я сделаю все.
Завтра припишу еще, после поездки в Управление. Узнаю ставку и должность свои и поговорю об Анюте. Крепко целую вас всех. Твоя Миля.
15 апреля
Мамусенька! Съездила в Омск, получила вещи, теперь приступаю к работе. Перевели в Зыковскую колонию старшим экономистом. Вещи все получила. Спешу отправить письмо. На той неделе еще напишу.
Целую крепко. Привет от Елены Соломоновны Атлас и Кати. Целую тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
10 апреля 1942 г.[261]
Родная моя мамусенька! Пишу с дороги. Все же еду в Омск за вещами. Написала тебе большое письмо, но не успела отправить до отъезда, а сейчас нет конверта и склеить в дороге невозможно. Отправлю из Омска.
Новости у меня есть. Нашу колонию ликвидировали, меня перевели в другую, там же, на Правом Берегу Енисея, но с повышением. Буду старшим экономистом. Первый месяц оклад 550, а после прохождения стажа до 700 рублей. Сколько установят, будет видно. Между окончанием работ в Злобинской и переходом в Зыковскую колонию, мне разрешили съездить за вещами, дали командировочное удостоверение, и к 16-му я должна вернуться. Рассчитываю приехать еще раньше. А 17-го должен приехать в командировку мой любимый. Настроение по всем этим причинам у меня превосходное.
Еду в плацкартном вагоне, очень чисто. В Омске побываю у Елены Соломоновны Атлас и, надеюсь, в тот же день, когда приеду, уехать обратно. Если трудно с билетами, обращусь в Управление в Омске за броней.
Как вы там живете? Пиши мне в домашний адрес. Крепко целую тебя и теток. Надеюсь, что вы все, все же, приедете ко мне. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
14 апреля 1942 г.[262]
Родная моя мамусенька! Пишу на обратном пути. Съездила в Омск, взяла вещи, пробыла день с Лелей Атлас и ее племянницей и теперь, раньше срока, возвращаюсь. Сегодня будем в Красноярске. Вещи все целы, я им очень обрадовалась. Еду превосходно, туда ехала плацкартным, обратно в мягком (берегу чемодан). Влетит мне это путешествие не меньше, чем в 300 рублей, но иначе (несколько строк не читаются), но я тебе написала, но все еще нет конверта. Оно (предыдущее письмо. Н.В.) съездило со мной в Омск и возвращается в Красноярск, оттуда уже уйдет. Большой и теплый привет от Лели, она обещала написать тебе. Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ[263]
Письмо. 1942 г.
Дорогая моя мамуся! Получила твою открытку из Чистополя. Ну как вы там устроились? Легче ли там жизнь? Как твое здоровье. Меня оно очень беспокоит.
Я написала письмо Фане. Если она действительно хочет сюда ехать, то было бы неплохо всем встретиться и ехать вместе. Спишись с ней. Боюсь я все же, что б ты одна ехала. Хочу в августе за тобой приехать, если удастся.
Я подала заявление с просьбой о переводе в район. На днях вопрос решится. Там нам будет лучше.
Нового у меня ничего нет. Работаю по-прежнему, утвердили мне ставку 650 рублей. Собираюсь съездить в район за продуктами, поеду, как только машина будет свободна.
А вообще, мне очень хочется выехать на работу в район. Там и жизнь легче, и вообще, нравится мне деревня, конечно летом.
Пишу сейчас на работе, вырвала минутку, а поэтому очень спешу, да и новостей то нет.
Пиши, мамуся, как устроились, как чувствуют себя тетки. Как ты? Не ленись писать письма, а то ты все открытками отделываешься.
Целую крепко тебя и теток. Твоя Миля.
БАБУШКА – МАМЕ
24 апреля 1942 г.[264]
Дорогая моя Миля! На днях послала тебе заказное письмо. Теперь пишу открытку, дабы ты, моя родная, не беспокоилась. Послала тебе расписку твоих вещей в Омске. Теперь жду от тебя письма, где ты устроишься, и за это время и наше положение, где мы будем, выяснится. Скорее всего, поедем пароходом в Чистополь с нашей же организацией. На месте буду знать, как поехать к тебе. Я бы очень хотела, чтобы ты лучше сюда приехала (если это только возможно). Выезжать теперь можно только по командировке или необходимо разрешение. Каким образом я смогу к тебе поехать, не знаю. Если ты нуждаешься в деньгах, то я что-нибудь продам и переведу. Привет и поцелуй от теток. Привет твоим друзьям. Целую. Мама.
МАМА – БАБУШКЕ
21 апреля 1942 г.
Родная моя мамусенька! На прошлой неделе отправила тебе письмо, которое очень долго писала. После этого получила от тебя еще одно. Сейчас располагаю свободным временем, а поэтому решила написать.
Приехала я из Омска. Ехала и туда и обратно очень хорошо. Туда в плацкартном, обратно в мягком. Да еще повезло мне, успела съездить до повышения ж/д тарифа. Но, все же, влетела мне эта поездка в сотни четыре. Ведь проездила я 6 дней, за которые мне зарплата не шла. Поэтому, мне пришлось кое-что загнать. Продала я отрез шерстяного трикотажа и собираюсь продать лыжные штаны. Таким образом, я вылезу из долга, который пришлось сделать.
Сейчас я чувствую себя совсем иначе: есть во что переодеться и, вообще, можно выглядеть прилично. Не знаю, зачем ты прислала мне отрез Зямин. Ведь у меня есть 2 пальто, кроме того, на пальто отрез мне не нравится. Почему ты не сшила себе из него? Или тебе тоже не нравится? Он, по-моему, лучше всего пошел бы для одеяла. А если ты будешь из него шить себе, то это можно будет здесь сделать, так как в колонии есть хороший дамский портной, и стоить это будет гроши.
Так я теперь всем обеспечена. Чулки тоже есть, надо только за ними следить, все штопанные. Туфли мне сшили, и думаю заказать еще одну пару из своих черных ботинок, под которые поставили новые подметки и набойки.
Работаю я теперь в другой колонии, но тут же, на Правом Берегу Енисея. Ходить на работу несколько дольше, обещают дать комнату поблизости. Мне важно получить ее к твоему приезду. Работаю старшим экономистом. Сейчас прохожу стаж. Платят 550, а через месяц установят ставку, не знаю какую. Максимальная – 700 рублей. Адрес колонии: Правый берег, Зыковская колония массовых работ, 3 почтовое отделение, п/я 288/8. Можешь часть вещей послать посылками на этот адрес. На новом месте мне не очень нравится, там было лучше, но я думаю, что застряну здесь ненадолго. Со своими друзьями из старой колонии вижусь часто, только работаем не вместе.
Сейчас я очень огорчена одним обстоятельством. Иван Алексеевич не приехал с квартальным отчетом, и до июля мы не увидимся. Очень это печально и расстроило это меня основательно, но ничего не поделаешь.
Леля меня приняла очень радушно. Я осталась на лишний день в Омске, чтоб с ней поговорить. Было как раз воскресение, и мы почти до моего отъезда пробыли вместе. Живет она неважно. Но, все же, у нее есть крохотная комната и приличное, по нашим временам, питание. Она избалована комфортом и, поэтому, болезненно реагирует на такую перемену. Она обещала написать тебе. Очень она осунулась и постарела. Хорошо приняла меня и Катя. Она помогла отвезти вещи на вокзал и наговорила мне много всякой всячины.
По дороге в Омск я ехала с одной броварчанкой. Она дочь учителя Левина, знает дедушкину семью[265], главным образом понаслышке, так как она моложе даже папы. Просила, чтоб я сообщила Анюте о встрече с ней.
Вот и все новости.
Очень жду тебя, моя родная. Когда же ты приедешь? Что тебе для этого нужно? На Восток ехать легче, чем на Запад. Но старайся везти поменьше вещей. Сдавай в багаж и посылай посылками. Сколько тебе денег нужно? В общем, напиши мне об этом подробно.
Да, мамуся, я все забываю спросить тебя. У меня было 2 отреза на блузки шелковых. Но я не помню, были ли они в моем чемодане или в Зинином. Были они или нет? Их надо было своевременно загнать. Сделала ли ты это? Черный фай ты, наверное, тоже продала?
Целую крепко тебя и теток. Анюте напишу в следующий раз. Очень жду тебя. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
30 апреля 1942 г.[266]
Родная моя мамочка! Не писала тебе дней 10. Завертелась немного. Неожиданно поехала в командировку в Абанскую колонию и сейчас возвращаюсь.
В начале мая обещали мне дать комнату. Но, не знаю, как въезжать без тебя. Жду не дождусь. Пока все у меня идет гладко. Виделась я с Иваном Алексеевичем, теперь он приедет только в июле. Это тоже подняло мое настроение.
Сейчас сижу в заезжей Абанской колонии в Канске. Поезд уходит вечером и я пока свободна. Наверно, в Красноярске есть письмо от тебя.
Как дела у Анюты? Куда же она решила ехать? Когда вернусь домой, напишу подробное письмо тебе и Анюте. Достала немного продуктов, и к маю в ларьке выдавали, но не знаю, что там для меня взяли.
Поздравляю с 1 мая. Надеюсь, что это последний раз, когда мы врозь. Октябрьскую годовщину встретим вместе. Очень по тебе соскучилась, мамуся. Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
9 мая 1942 г.
Родная моя мамусенька! Получила письмо и открытку. Но до сих пор для меня не ясно, когда же ты сможешь выехать? Это теперь усложняется. Мне придется хлопотать через Управление, но для этого я должна знать, когда ставить об этом вопрос. Ведь смешно же мне сейчас поднимать об этом вопрос, получить разрешение, которое ты не используешь. В общем, напиши на какой месяц ориентироваться.
Ты напрасно думаешь, что я так жду тебя для того, чтоб ты облегчила мою жизнь. Во-первых, я живу хорошо, во-вторых, я очень по тебе соскучилась и хочу жить вместе. Что касается моего приезда к тебе, то об этом больше не стоит говорить. Я писала тебе, что меня с работы не отпустят, значит, это исключается, тем более, что смысла это не имеет. Здесь жизнь легче, и на какую работу я смогла бы пойти? Ведь у меня сейчас такая специальность, с которой я могу работать только в этой системе и только в таких подразделениях, в которых работаю.
Здесь ко мне отношение хорошее, и меня эта работа устраивает. Нечего тебе ждать и того, куда меня направят. Меня уже направили, и уже месяц я работаю в другой колонии. Не исключена возможность, что могут опять перебросить, хотя об этом разговоров нет, но это всегда возможно, так как таковы условия работы.
Как у тебя с деньгами? На дорогу я тебе переведу.
Туфли для себя купи непременно, продай для этого что-нибудь. Визитку для меня не храни. Я прекрасно обойдусь и так. Кроме того, из бархатного пальто выйдет платье без того, чтоб комбинировать с визиткой.
Материальные мои дела сносны. Первое время я ежемесячно залезала в долги, а сейчас уже выбралась почти. Приобретать ничего не приобретаю, но за питанием слежу. На май выдавали паек. Я получила 1 кг. мяса, 1 кг. сбоев, 2 кг. масла сливочного, сельди и прочее. Сейчас с питанием прилично. Кроме того, я из Абана привезла 1 кг. масла, сельди и ведро картофеля. Сейчас собираюсь обменять бумазею, которая была в моем чемодане, на молоко, буду тогда и этим обеспечена.
Какую мне установили ставку, пока не знаю, но на днях выяснится. Вообще, мне все же хотелось бы в район, там питание лучше. Если мой бывший начальник (из Злобинской) примет одну новую колонию в районе, то, вероятно, я с ним поеду, а тебя приеду встречать сюда. Было бы хорошо встретить тебя в Уфе или Свердловске, но сомневаюсь, чтоб это удалось, да и денег много надо.
Что касается моего «он», то об этом мы поговорим, когда приедешь. Видов на будущее никаких нет, и, самое досадное, что видимся мы редко, раз в 3 месяца.
Сейчас ты уже, наверно, в Чистополе, так как даже здесь началась навигация, а уж на Каме и подавно.
Перевестись поближе, как ты пишешь, невозможно. Я работаю в лагере краевого значения, он своих точек за пределами края не имеет. А просить о переводе в Гулаг при моей квалификации, смешно.
Ну вот, мамуся, все пока.
Напиши, когда ты рассчитываешь выехать, и тогда начну хлопотать о пропуске. Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
22 мая 1942 г.[267]
Родная моя мамочка! Опять долго не писала, кажется, больше недели. За последнее время было много работы, и никак не могла выбрать минутку на письмо. Сейчас я уже свободней.
Приехала Зина в командировку, я с ней случайно встретилась. Она давно не писала, приехала и пыталась дозвониться ко мне по телефону. А я поехала по делам в Управление, зашла к Алексанедре Игнатьевне, и она мне сообщила, что Зина здесь. Только я вошла, она стоит на лестнице, будто знала, что я приду. В общем, я осталась в городе и ночевала там же. Уезжает она в понедельник, а завтра мы собираемся кутить. В воскресение, наверное, пойдём в фотографию сниматься, тогда пошлю карточку. Я снялась для удостоверения, но карточка не очень хорошая.
Адрес Зининых родителей: Москва, Каланчевская улица дом, № 45, кв. 1. Они в Москве, Зина регулярно получает от них письма.
У меня все по-старому. Работаю, работой довольна, кажется, и мной довольны. Хотела я в район переводиться, но пока ничего из этого не вышло. Зина, наоборот, хочет в Красноярск и, вероятно, в ближайшее время сюда переведется.
Мне необходимо знать, когда ты можешь выехать, чтоб начать хлопотать об этом. Надо же будет послать тебе вызов. Когда вы выезжаете в Чистополь? Впрочем, поскольку уже началась навигация здесь, то, вероятно, там она уже во всю, и ты сейчас, пожалуй, уже не в Казани.
Сообщи мне Фанин адрес, я хочу ей написать.
Здесь уже весна, но сибирская. Было совсем тепло, так что на близкое расстояние можно было ходить без пальто, а потом вдруг снег выпал и такая вьюга была дня 2-3, что трудно было поверить в то, что теперь конец мая. Видимо, Ангара шла в низовьях, а это всегда сопровождается похолоданием. Наверное, сегодня или завтра будет от тебя письмо, тогда еще напишу. Хотелось бы мне, наконец, получить телеграмму о выезде и встречать тебя.
Пиши подробно, как вы все живете. Чтоб облегчить себе дорогу, пошли посылками часть вещей по адресу: Красноярск, Правый берег, почтовый ящик 288/8, Зыковская КМР УИТЛК УНКВД. К нам посылки принимают. Продай все лишнее, на дорогу я переведу тебе денег.
Целую тебя и теток очень крепко. Твоя Миля.
Во второй половине мая 1942 года бабушка вместе с Анной Семеновной и ее домочадцами выехали на пароходе из Казани в Чистополь, куда перебазировался Московский второй часовой завод. Бабушка, занятая сборами и переездом, видимо, переволновалась, что тут же сказалось на ее здоровье. Не имея от нее писем, мама посылает срочную телеграмму.
МАМА – БАБУШКЕ
ТЕЛЕГРАММА. СРОЧНАЯ.[268]
Беспокоюсь. Немедленно телеграфь здоровье. Целую. Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
27 мая 1942 г.
Родная моя мамусенька! Вчера получила твое письмо от 13/V. Оно меня очень расстроило. Хоть ты и бодришься, но по всему видно, что у тебя со здоровьем неважно. И это не трудно заключить из всего твоего письма, хоть ты и пытаешься скрыть.
Писала ты, видимо, полулежа и с трудом, даже подписала не «мама», а «Клара». В общем, меня это сильно тревожит. Чувствую я, что не обилие вещей тебя задерживает, а боишься ты ехать из-за своего состояния. Это для меня ясно.
Ломаю голову, что же теперь сделать? Если бы ты меня не обманывала, я бы иначе сделала, когда ездила за вещами, заехала бы за тобой. А теперь мне просить разрешения ехать в Казань несколько неудобно. В общем, если ты боишься ехать из-за здоровья, жди меня. Месяца через 2, приблизительно, я за тобой приеду. Для этой цели я продам отрез или как-нибудь скоплю денег. Но тебе все-таки следует часть вещей отправить посылками. Есть приказ, на основании которого принимают посылки в места заключения. Надо только указать № п/я и колонию. Мой адрес: 3 почтовое отделение, Красноярск, Правый берег, почтовый ящик 288/8 УИТЛК УНКВД. Зыковская колония массовых работ[269], мне.
Если же тебя смущают вещи, то с этим не сложно устроиться. Сейчас дорога не загружена, особенно на Восток, вещи сдашь в багаж, их при тебе погрузят, потом при пересадках следишь за их выгрузкой. На носильщиков тратиться не бойся, это будет дешевле, чем мне ехать к тебе (если дело только в вещах). Билет бери плацкартный или мягкий. Это будет дешевле стоить, в конце концов. Денег на дорогу я вышлю. Но только пиши правду, если боишься, я приеду в августе. Мне денег и не выдумывай посылать. Я концы с концами свожу. Сейчас мне прибавили зарплату – буду получать 650, а, вероятно, с июля – 700.
Что признает у тебя Анюта? Я ей сегодня напишу. О примусе и прочем не беспокойся, достанем где-нибудь.
Не бываю я у Тали потому, что в последний мой приезд меня совсем не так, как раньше приняли. Я была без денег, выглядела не очень эффектно, и отношение было соответствующее. А поэтому, мне неприятно туда заходить. Все же как-нибудь зайду. Сейчас у меня вид более импонирующий.
С вещами я очень аккуратна, но, вероятно, придется их понемногу ликвидировать. Не для денег, а на продукты, так как за деньги трудно достать.
Тамарина мать умерла от гнойного аппендицита. Талины дети учатся: в Пединституте – Гриша и в фармацевтическом техникуме – Ривочка. Анатолий в армии.
На новой работе я уже больше месяца. Работа у меня самостоятельная. Я здесь весь учет перестроила. Кажется, в Управлении мною довольны. Коллектив здесь весьма склочный, очень не лажу с бухгалтером, но его скоро снимут. Нелады у меня чисто служебного характера, а так, я со всеми мирно живу, хотя ни к кому особых симпатий не питаю.
Ну вот, мамуся, пока все. Будь здорова, береги себя. Привет и поцелуй теткам. Крепко целую. Твоя Миля. Напиши мне Фанин адрес.
МАМА – БАБУШКЕ
10 июня 1942 г.
Родная моя мамуся! Дня три назад отправила тебе письмо, а на следующий день получила от тебя заказное. Прошлое письмо я писала наспех, так как не было времени. В тот же день отправила письмо Фане с описанием местных условий. Пусть решает, подойдут ли они ей.
Ты пишешь, что Анюта думает ехать ко мне, если не поедет в Москву. Я была бы этому более чем рада: мне так хочется жить вместе со своей семьей. Как бы это было замечательно. Мама, 3 или 4 тетки. Я так соскучилась о семейном существовании, мне так надоело одиночество, что соединиться со своими – это предел моих мечтаний. Но я боюсь другого.
Анюту пугают холода, а ведь здесь зима суровая, морозы до 500 доходят, правда, такие холода держатся не более 3–4 дней и бывают 2–3 раза за зиму, но 35–400 – это обычно. Кроме того, ветры здесь очень сильные и летом и зимой. Зимой все же слабее, и бывает вовсе без ветров мороз. Осенью и весной – ветры, как правило, летом тоже. Не зря Красноярск называют Ветропыльском. Но местность здесь сухая, даже после дождей моментально просыхают дороги. И вообще, климат вполне приемлемый.
Во всяком случае, я сужу по себе. Несмотря на все перипетии, которые у меня были, здесь я значительно окрепла.
Ты напрасно беспокоишься о моем здоровье. Я себя превосходно чувствую. За питанием я, по мере возможности, слежу. Бывали тугие моменты, так как выходили продукты из ларька, столовой у нас нет, хлеба хватало в обрез, так как почти ничего не было, но всегда что-нибудь выручало. То я съездила в Абан, привезла ведро картофеля и 1 кило масла; то выдали майский паек – 1 кг. масла, 1 кг. мяса, 2 кг. сбоев, 1 кг. сельдей, около 1 кг. колбасы. Этого хватило почти на месяц. И когда я съела последние остатки и ломала голову, что же завтра готовить, выдали 1 кг. крупы, она кончилась – получила 1 кг. сметаны. Так все и тянула. А сейчас я на месяца полтора обеспечена картошкой, есть немного масла, сметаны, яйца, покупаю ежедневно молока (очень хорошего), должна достать растительное масло. Посадила картофель, глядишь, через месяц-полтора будет молодой картофель, собственный. Последние дни я очень хорошо питаюсь, правда, без мяса, но я от его отсутствия не страдаю, лишь бы были молочные продукты и овощи.
В субботу мы ездили на своей машине в колхоз менять вещи на продукты. Купить там почти ничего нельзя, только выменять. Я повезла бумазейку, которая была в чемодане, газовый шарфик голубой, бумажную старую юбку, которую когда-то приобрела в Абане. За это я получила 4 ведра картошки, 1 десяток яиц и 2 стакана табака. Кроме того, купила 3 стакана сметаны по 7 рублей стакан и молока по 10 рублей литр.
Поездка была с большими приключениями, вполне в моем стиле. Две ночи не спали, и с поезда прямо на работу. Правда, я совсем не работала, а слонялась без дела, но все же, чувствовала себя бодрее, чем все, и голова нисколько не болела. Загорела за дорогу. Вообще, окрепла я порядком. Мне на пользу пошли все мои злоключения.
Подала я заявление о переводе в район. Не знаю, что из этого выйдет.
Если Анюта решит ехать сюда, пусть заранее об этом меня известит, я переговорю в санотделе, она сможет у нас устроиться. Вызов можно будет сделать, но насчет подъемных, командировочных и проезда вряд ли что-нибудь получится. Попробовать надо будет, но у нас не очень щедры на этот счет.
Здесь уже началось лето, еще не жарко, но тепло вполне. Хожу в носках и без пальто, но еще не в летнем, правда, с коротким рукавом. Можно уже и в летних платьях ходить. У меня есть желтое полотняное, пестренькое, которое ты присылала, белое в клетку, которое ты тоже присылала (жакетик и платье), я его перешила еще в Абане и раза 2-3 можно будет одеть сатиновое синее. Кроме того, есть белое полотно на платье и цветастый материал на сарафанчик.
Материал, который ты прислала в Абан, в клеточку с шелковой ниткой, я еще осенью продала, до того, как начала работать. Хоть ты и велишь беречь вещи, но не приходится тебя слушать. Здоровье важней. Зимнее пальто надо лицевать, но нет пока подкладки и воротника. Этим я займусь осенью, когда ты приедешь. На пальто нужен большой воротник, так как я утюгом прожгла один борт и его надо закрыть. Вот и все мои хозяйственные дела. Есть ли у тебя электрическая плитка и утюг? Примус или керосинку заводить не стоит. Трудно керосин доставать. Плитку бы лучше.
Зина приезжала сюда, мы виделись с ней. Потом я с оказией получила от нее записочку и мою ручку, которая была в колонии.
От Шуры давно ничего не получала, думаю, что она должна приехать. Своих красноярских знакомых тоже давно не видела, собираюсь в воскресение навестить.
11 июня
Вчера не удалось окончить письмо. Продолжаю.
Ты почти в каждом письме спрашиваешь меня об Иване Алексеевиче. Что тебе ответить, мамочка? Никаких видов на будущее здесь нет. Все основано лишь на случайных встречах, не более 4-х в год. Конечно, все это временное, закрывать глаза на это не приходится, но я руковожусь только своим чувством, так как вообще к личным отношениям никогда не примешиваю моментов выгоды и прочего. Теперь я жду его в половине июля, больше чем через месяц. Человек он очень хороший, умный, культурный. Последнее я в нем ценю еще потому, что он не получил почти никакого образования, и тот запас культуры, которым он обладает, приобретен им без посторонней помощи. Для меня в этом отношении много сделали ты и папа. Благодаря вам я училась, получила образование, и от меня зависело только в большей или меньшей мере взять то, что мне дают. А людей, которые сами добиваются того же, я особенно ценю.
Ну, родная моя, кончается листок и пора заканчивать письмо. Сейчас допишу и пойду по объектам работы.
Будь здорова, моя хорошая. Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Разлученная обстоятельствами, а потом и войной с родными и друзьями, отлученная от любимой работы, о которой она постоянно думала, после смерти Юрика, мама мечтала обзавестись ребенком, который стал бы ее жизненным стержнем. Еще из колонии мама писала бабушке, что, как только закончится срок заключения, она непременно родит ей внука.
Впервые «он», «любимый появляется в маминых письмах в конце марта 1942 г. Виделись они редко, раз в квартал, поскольку работал Иван Алексеевич где-то далеко от Красноярска (возможно, в системе Гулага) и в город приезжал лишь с квартальными отчетами. Мама высоко отзывалась об этом человеке, не имевшем высшего образования, но, видимо, неглупом, и в достаточной степени начитанном. Это, вероятно, и импонировало маме, которая, возможно, видела в Иване Алексеевиче что-то, напоминающее ей Юрия Михайловича. Иван Алексеевич был намного старше мамы («такая разница в летах» – писала бабушка) Мама вполне осознавала, что связь эта временная и рассчитывать ей ни на что не приходится.
Однако, очень скоро между ними что-то произошло, и мама порвала с ним все отношения. Что явилось причиной столь резкого разрыва, мне не известно. С августа 1942 года это имя исчезает из маминых писем. Мама даже скрыла от него, что носит под сердцем его ребенка. В одном из писем в весьма высокую инстанцию, написанном гораздо позже описываемых событий, мама писала: «Я имею сына, который никогда не имел отца, так как был рожден мной от человека, с которым я ни в какой форме не собиралась связывать свою жизнь и даже скрыла от него самый факт рождения сына. Я пошла на эту связь с единственной целью: иметь ребенка, чтоб сгладить чем-то остроту вынужденного одиночества и пережитых мной потерь».
Мама никогда не называла мне имени отца, никогда ничего о нем не рассказывала, хотя в определенном возрасте я этим очень интересовался. Видимо нанесенная рана была настолько глубока, что не зарубцевалась до конца маминой жизни. Отчество мое было взято, что называется, с потолка. И только приводя в порядок мамин архив, систематизируя ее переписку, я обнаружил имя Ивана Алексеевича. Фамилия не читается, поэтому ее я так и не узнал, да это для меня и неважно.
Когда мне было года 3, я спрашивал маму: «А где она моя папа?» (я всю жизнь рос в женском обществе, а потому и «папу» назвал в женском роде). Мама, как она рассказывала, ответила: «Я тебе и мама, я тебе и папа». Такая трактовка меня до поры до времени, по-видимому, вполне устраивала. Но ненадолго. При очередном «допросе», мама сообщила мне, что мой папа погиб на фронте. Тема, казалось бы, была исчерпана.
В 1949 году, когда мне было уже шесть лет, мама в одном из писем, писала о моих детских грезах: «Ему, как каждому ребенку, особенно мальчику, хочется иметь отца. То, что его папа погиб на фронте, его мало устраивает, и он мне как-то сказал: «Мама, ты вот ездишь в редакции, бываешь в трамваях, метро. Ты бы спросила какого-нибудь дядю, может быть он хочет стать моим папой?».
Более серьезно к вопросу о моем отце мама отнеслась, когда мне было 14 лет. Я вступал в комсомол, и мне нужно было впервые заполнять анкету. Там была графа об отце, его фамилии, имени и отчестве. Поскольку этими сведениями я не располагал, мама назвала наобум Алексей Юрьевич Юрьев[270]. Я так и записал. Только потом выяснилось, что человек с такой фамилией, именем и отчеством оказался в плену, и маму по этому поводу вызывали в «компетентные органы». Что она рассказала этим «компетентным органам», мне неизвестно, но, когда я получал паспорт, в графе об отце я уже писал, что сведений о нем не имею.
МАМА – БАБУШКЕ
22 июня 1942 г.
Родная моя мамочка! Что-то нет писем от тебя. Наверно опять получится, что я только отправлю письмо, получу от тебя.
Здесь уже самое настоящее лето. Посадила я огородик маленький. Осенью думаю закупить овощей на всю зиму, и тогда мы будем жить припеваючи. Обещают в этом месяце дать комнату, я тогда сразу перееду, и ты приедешь в уже обжитое помещение. У меня все идет своим чередом и вполне нормально. Хотела я переехать на работу в район, но начальник Управления отказал мне в этом. Возможно, в ближайшие дни опять поеду в Абанскую колонию на несколько дней. Тогда запасусь продуктами.
Настроение у меня хорошее. Чувствую себя превосходно. В общем, за меня можешь быть спокойна.
Что слышно с твоим выездом сюда? Пиши, требуется вызов или нет. Я хотела продать что-нибудь, чтоб перевести тебе денег на дорогу, но думаю, что выгоднее продать тебе, так как там цены выше. Ты продай одеяло или что-нибудь другое, тебе там видней, а сколько не хватит, я переведу. Ехать тебе лучше на Уфу. Там поездом местного сообщения доедешь до Челябинска, а оттуда поездом прямого сообщения до Красноярска.
Телеграмму о выезде с места не давай, все равно не дойдет. Телеграфируй из Уфы, из Челябинска и Новосибирска. И, в случае, если я не встречу тебя, то есть, если не дойдут телеграммы – сдавай в Красноярске вещи в камеру хранения, иди к Александре Игнатьевне (она живет возле вокзала) и от нее звони мне в колонию. Адрес ее: улица Стахановцев, № 27. Иванова Александра Игнатьевна. Мой телефон: Правый берег, Красный Профинтерн, колония. Это через 2 коммутатора, но дозвониться можно.
Вещи отправляй посылками. Посылки принимают в места заключения по особому постановлению правительства. Адрес для посылок: Красноярск, Правый берег Енисея, почтовый ящик № 288/8, Зыковская колония массовых работ.[271] На любой почте обязаны принять. Это исключение сделано для заключенных, но, поскольку это в адрес колонии, вольнонаемным посылают тоже.
Относительно примуса не беспокойся, купим, а нет, так плитой обойдемся. Хорошо, если у тебя есть электроплитка и утюг. Из хозяйственных предметов у меня есть только кастрюлька, эмалированный большой чайник, кружка, фарфоровая чашка, 2 вилки, нож, ложка и 2 чайные ложечки. Но необходимое можно будет добыть. На днях купила сковородку. Да, есть еще жестяной таз. В общем, хозяйством необходимым обзаведусь. Только приезжай скорее.
Комнату я получу в бараке, там система маленьких квартир по три обособленные комнаты. Они светлые и теплые. Я свою оштукатурю и побелю, пол покрашу, в общем, будем жить хорошо. Бараки близко от колонии и от вокзала. Это очень удобно. Сейчас я живу в 30 минутах ходьбы от колонии. Если мы будем обеспечены на зиму овощами, то хозяйственных забот будет немного. С очередями я дела не имею. Хлеб продают в колонии, остальные продукты в ларьке, он, правда, далеко от колонии, но очередей там нет, и мы обычно посылаем туда машину, на которой привозим продукты для всех сотрудников. Что касается жиров, то и их запасем. Можно будет купить поросенка по твердой цене, корм нам тоже отпускают. В общем, приедешь, обсудим все.
Материал Зямин я продавать не буду, это пойдет тебе на пальто. У меня есть демисезонное и зимнее. Мне только нужен воротник и подкладка. Здесь его перелицуют, и все будет в порядке. На лето я тоже вполне обеспечена и платьями и бельем, а на зиму и говорить нечего. Без валенок тоже не буду, а в крайнем случае – боты. Я больше беспокоюсь, что ты не одета. Но я уверена, что когда мы будем вместе, все трудности легко преодолеем.
Если в моем чемодане не было двух отрезов на блузки, значит, они были в Зинином. Надо будет написать ее родным. Там шелковое полотно в полоску и гладкое абрикосового цвета. Не израсходовали ли они только их? Об этом я с Зиной столкуюсь, а ты, если будешь им писать, запроси их.
Пиши, как вы устроились, кем ты работаешь? Что делают Соня и тетя Зина? Каковы намерения Анюты?
Пиши мне лучше в адрес колонии, так как, возможно, я скоро перееду. Адрес я тебе писала. Целую крепко тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
7 июля 1942 г.
Родная моя мамусенька! Сегодня, наконец, получила твое письмо. Если б ты знала, как оно перепугало меня. Ведь я от тебя 3 недели ничего не получала. Первую неделю думала – письмо затерялось, вторую – задержалось, а тут и думать не знала что.
Прихожу с работы, лежит письмо, Анютиной рукой адрес написан. Стало немного не по себе. Вскрываю – и тоже только Анютина рука. В глазах потемнело. Боюсь читать. И вдруг из середины выпадает твое. Тут уж я не выдержала, разревелась маленько, закурила и стала читать. А потом пошла в баню, смыла всякие тревоги, пообедала и села писать тебе и Анюте. А письмо твое, видимо, все же затерялось, так как я не получала о том, чтоб выслать вызов. Завтра буду в Управлении и начну хлопотать. Это, кажется, несложно, так как требуется только вызов от Управления. От милиции или НКВД не нужно. В общем, завтра все выясню и сразу же напишу.
Ты напрасно беспокоишься, если от меня нет писем. Во-первых, я абсолютно здорова. Я значительно окрепла за последние годы. Условия жизни у меня такие, что несчастного случая быть не может. Живу очень спокойно.
В Уфе я, к сожалению, никого не знаю. Но, мамочка, я прошу тебя об одном – не жалей денег на носильщиков. Это дешевле обойдется, чем терять здоровье. А деньги – вещь наживная.
Можешь ли что-нибудь продать для дороги? Мне не хочется продавать материал на пальто, надо же тебе сшить. Если нет возможности продать, я переведу тебе, смогу взять взаймы.
Условимся так. Ты даешь телеграмму из Чистополя, из Уфы и из Новосибирска. Причем из Уфы – молнию, чтоб быть уверенной, что она дойдет. Телеграмму дашь на колонию: Красноярск, Правый берег, Зыковская колония, мне. Встречать я тебя буду в Красноярске. Здесь не все поезда останавливаются, а которые останавливаются, стоят 1 минуту, не успеем багаж сгрузить. В Красноярске будет проще. Выгрузим все и на местном поезде поедем ко мне.
На крайний же случай, вдруг телеграммы подведут, сообщаю адрес Александры Игнатьевны. Она живет около вокзала: улица Стахановцев, № 27. Иванова. От нее либо позвонишь в колонию: с центральной городской проси «Правый берег», потом – «Красный Профинтерн», а затем – колонию, либо приедешь одна без вещей, а перевезем все вместе.
Живу я вполне прилично. Денег хватает на жизнь, иногда приходится что-нибудь загонять. Хоть живу скромно, нигде не бываю, но все же, все дорого стоит. Одно молоко половину зарплаты отнимает, а без него нельзя – основное питание у меня. Много денег забирает табак. Вот приедешь – брошу курить.
На руки я получаю 450 рублей, за комнату плачу 45, за молоко – 225, хлеб – 15, стирка – 20, остается на прочие расходы гроши[272]. Выдают паек по твердой цене, так что на это много не уходит. Живи мы вдвоем на эту зарплату – смогли бы жить лучше. А так меня совесть заедает, что я тебе ни копейки не перевела. Возможно, мне переменят карточку на 800 грамм, тогда будет легче. Хлеба мне хватает, даже остается иногда, но будь восьмисотка – меняла бы на молоко.
Ты, как тебе заблагорассудится, сможешь либо работать, либо хозяйничать. То и другое я тебе делать не дам. Сможешь поступить к нам же в колонию картотетчиком на 300 рублей. Это будет видно, когда приедешь. Если у нас организуют столовую, то будет прямой смысл идти на работу, так как будет и столовая и паек. Если Соня поедет с тобой (вызов буду хлопотать для обеих), то еще лучше устроимся. Только скорее бы ты приезжала.
С работой у меня все хорошо. Сдала полугодовой отчет на хорошо. Вообще замечаю, что с моим мнением считаются. Это приятно. С работой я вполне освоилась, хочется более широкой.
С бельем, платьем и прочим все в порядке. Из белого полотна пока решила не шить, есть в чем ходить, оставлю на будущий год. Сделала из синего сатинового сарафан, вышиваю блузку, перешиваю из Зининого вязаного жакета, который она мне отдала, когда я уезжала в Абан, такой красивый жакет, что аж боюсь в нем показаться. В общем, либо что-нибудь шью, вышиваю, вяжу, либо читаю. В городе бываю редко и то только в Управлении.
На днях должен приехать Иван Алексеевич. Я уже считаю дни, и все боюсь: вдруг опять не приедет.
Пиши, мамуся, как вы там устроились, как питаетесь, как здоровье. Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля
Мамочка! Если можешь достать большую расческу, привези, пожалуйста. У меня маленький огрызок, а волосы уже через талию перевалили. На днях все-таки снимусь и пошлю Анюте карточку, ты же скоро получишь перед свои ясны очи подлинник.
Напиши письмо Зининым родителям и справься об отрезах шелка. Там, в Зинином чемодане мой шелк – полотно на две блузки: в полосочку и ярко- абрикосового цвета. Целую. Миля.
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА РЕАЛИЗОВАТЬ МЕЧТУ
Из переписки видно, что мама, встав немного на ноги, все время возвращалась к одной и той же теме: переезда бабушки, Анны Семеновны и теток в Красноярск. Но разные обстоятельства не позволяли бабушке это сделать. В Казани, а потом и в Чистополе, она находилась под постоянным врачебным наблюдением Анны Семеновны. Бабушка, это видно из ее писем, все время разрывалась между долгом помочь Анюте и желанием увидеться с дочерью, с которой она была разлучена на протяжении пяти с половиной лет, и хоть как-то ее поддержать. Родные, в том числе и мама, опасались длительного переезда престарелой и больной бабушки из одного города в другой без посторонней помощи и врачебного наблюдения.
Маме же переезжать из Красноярска на новое место не было никакого смысла. По военным меркам она вполне приемлемо устроилась и даже могла пользоваться некоторыми «привилегиями системы» – своего положения вольнонаемного экономиста: сшить почти задаром туфли, воспользоваться услугами дамского портного и т.п. Этими преимуществами своей работы она и пыталась завлечь к себе бабушку и теток. И мама предприняла меры для реализации своей мечты: были получены справки, которые преодолевали препятствия для переезда.
Нотариальная копия
На бланке
СССР НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ И КОЛОНИЙ УНКВД ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ.
Отел кадров. 8 июля 1942 г. № 12. г. Красноярск
Справка
Выдана сотруднице Управления ИТЛК УНКВД Красноярского края тов. Виленской Эмилии Самуйловне[273] в том, что на ее иждивении находятся мать Виленская Клара Ильинична 63 лет и тетка Быховская София Семеновна 70 лет, временно проживающие в г. Чистополь Татарской АССР, как эвакуированные из города Москвы.
Справка выдана на предмет получения разрешения на выезд из г. Чистополь в город Красноярск гр. гр. Виленской и Быховской.
Начальник УИТЛК УНКВД КК,[274] лейтенант Госбезопасности Ларионов.
Заместитель начальника отдела кадров, Ст. лейтенант Пульканов.
(На справке имеется резолюция): Тов. Ванюшкин. Разрешите въезд в Красноярск.
10 июля 1942 года
(На обороте той же справки имеется ещё одна справка):
«Прописка в г. Красноярске гражданкам Виленской и Быховской разрешена.
И. Н. Про УМ[275] ст. лейтенант милиции – подпись
10 июля 1942 года
Таким образом, все разрешения были получены, и документы направлены в Чистополь, но по каким-то причинам Софья Семеновна (баба Соня) в Красноярск не поехала. А бабушка смогла воспользоваться этими документами лишь через год.
3 мая, но уже 1943 года, в Чистополе, бабушкиным почерком была написана копия, заверенная нотариусом. Этот документ, по-видимому, являлся основным для ее переезда в Красноярск.
МАМА – БАБУШКЕ
21 июля 1942 г.[276]
Родная моя мамочка! Приходится писать письмо наспех, нет ни капли времени. Очень много работы сейчас.
Посылаю тебе и Соне вызов и жду вас с нетерпением. К 1-му должна получить комнату. С вызова сними на всякий случай нотариальную копию, которую захватишь с собой.
От тебя опять давно нет писем, но в этом твоя вина. Ты перестала в адресе писать 4 участок, и письма путешествуют по всем участкам, так как на каждом есть 46-й барак и приходят ко мне не раньше, чем через 3–4 дня.
22 июля
Вчера не удалось отправить письмо, а сегодня по приходе на работу получила твое. Вызов я оформила, но только через милицию. Там мне сказали, чтоб посылала прямо тебе, а про Горсовет ничего не говорили. Я теперь в сомнении, посылать ли, или сходить еще в Горсовет. Все же я пошлю, а то дело затянется, а с этой справкой должны тебе дать пропуск. Все-таки солидная организация хлопочет. Сходишь в НКВД с ней, если будут тормозить, скажешь, что дочь работает в НКВД, и тебе помогут.
Теперь относительно маршрута. Я тоже думаю, что лучше ехать через Казань. Во-первых, в Казани у тебя есть знакомые, которые, вероятно, смогут тебе помочь сесть на поезд и в Свердловске есть кто-то, не помню уже, но ты писала, что есть.
Ехать за тобой я очень хотела, но, кроме того, это будет стоить бешеных денег, которых нет, трудно будет получить отпуск и пропуск. Людей сейчас не хватает, нагрузка большая, нашу колонию расширяют, будет еще больше работы. Мой непосредственный начальник сейчас болен, кроме того, его, как только выздоровеет, переведут в другую колонию. Дадут ли сюда другого – не знаю. А то ведь мне придется отдуваться. Добиться, в конце концов, можно было бы, но я знаю, что момент не подходящий, и это было бы не честно с моей стороны.
Вообще, я себя погано чувствую. Надо бы мне идти в армию. Детей, семьи нет, здоровая и прочее, а я отсиживаюсь в тылу. Но как я пойду, не видавши тебя? Я думаю, что вдвоем с Соней тебе будет легче ехать. Через Челябинск вообще не стоит ехать, эта линия больше загружена, чем Свердловская.
Я живу по-прежнему. К 1 августа должна получить комнату вблизи от работы. Приехала Зина, она теперь работает в Красноярске. Была недавно я у Тамары. Приехал Иван Алексеевич, но из-за загрузки мы мало видимся.
Вчера я прихворнула. Желудок расстроился, перешла на сухарики с чаем. Сегодня уже лучше дело. Но работала и вчера. Даже в город ездила, в Управление.
Жара у нас отчаянная, давно не было дождя. Пыль. Пойду сегодня на Енисей купаться. Я живу в 5 минутах ходьбы от берега. А красивая река Енисей! Приедешь – увидишь. Скоро, наверно, поедем в колхоз менять тряпки на продукты. Хочу жиров купить.
Картошки у меня до новой хватит. Есть немного поросятины. Появилась уже всякая зелень и ягоды. Здесь та же цена на землянику. Я еще не покупала, но куплю. А в прошлом-то году, сколько я ягод ела, особенно черной смородины, и совершенно бесплатно.
Как вы там живете? Посылаю это письмо заказным завтра.
Жду тебя, моя родная. Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
31 июля 1942 г.[277]
Родная моя мамочка! Опять давно нет от тебя писем. Я уже отправила заказным в домашний адрес вызов на тебя и на Соню, и теперь с нетерпением жду вашего выезда.
Живу я по-прежнему, без особых изменений. Стало несколько лучше с питанием. Имею все основное: и молоко, и жиры, и мясо, и картофель. Покупаю только зелень и ягоды – остальным обеспечена. Похворала немного, посидела на диете, попринимала всякой дряни – и все прошло.
Купила я примус, правда, он что-то не действует, но это не важно. У нас здесь есть мастера, и он будет действовать. За примус заплатила всего 100 рублей. Он, собственно, действует, но у него капсюль засорен, надо прочистить.
У нас здесь очень жарко. Очень давно нет дождей. Днем деваться некуда от зноя, а утра и вечера прохладные. Дома тоже жарко, так как хоть раз в день, да топится плита. Я либо проветриваю комнату до 1 часа ночи, либо сплю в дровяном сарайчике (здесь его называют «стайка»).
Я сильно загорела, но похудела. Это от жары. Чувствую же я себя очень хорошо. Вот даже хворала, один день температура была, а все время ходила на работу и ничего.
Огород мой растет. Скоро будет молодая картошка, свекла, репа, морковь. Мало я только посадила. Не было времени съездить в город за рассадой. Надо было капусту, огурцы и помидоры посадить. Жаль, нет у меня сахара, можно было бы варенье сварить. Нам выдали по 5 кг. прошлогодней брусники. Она очень вкусная, но без сахара ее нельзя долго держать. Хочу как-нибудь выбраться за медом. Можно купить кг. за 100 рублей.
Денег у меня совсем нет. Но есть запасы, а это важней, чем деньги.
Возможно, у нас откроется новый объект работ, руководство которым дадут мне. Я за него буду получать отдельно зарплату, так как это будет совместительство. Мне бы очень хотелось, чтоб его открыли, там будет интересная работа. Но начальник отделения пока колеблется, придется его уламывать.
Живу я по-прежнему очень замкнуто, нигде не бываю, никого почти не вижу, но не страдаю от этого и не скучаю одна. Приезжал Иван Алексеевич. Виделись мы очень мало.
Недавно один знакомый поехал в Москву, в командировку. Я просила его зайти к Наталии Михайловне и взять у нее плитку и утюг.
Собираюсь отдать в перелицовку свое зимнее пальто. Нет у меня подкладки, думаю поставить материал прикроенного сарафана. Но хуже то, что нет воротника. Еще недавно были каракулевые по 1500, а теперь и их нет. Мой же мал, и совсем вытерся. В крайнем случае, приспособлю лису.
Ну вот, мамуся, кажется, все написала. Теперь жду твоего приезда.
Я писала тебе, что лучше ехать на Свердловск. У тебя есть и в Казани и в Свердловске знакомые.
Крепко целую тебя и теток. Спешу кончать письмо. Твоя Миля
Достань где-нибудь расческу, а то придется косы срезать. Жалко, уже за талию переросли.
КОРОТКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
В начале 1942 г., самый голодный год войны, вышло постановление, разрешавшее городским жителям заводить личные огороды и держать мелкую скотину. На протяжении первой половины 1942 года мама постоянно думала о своем переводе в сельскохозяйственную колонию, где можно было бы обзавестись собственным огородом и живностью. Видно тех продуктов, которые она получала или доставала, не хватало для питания. В ее письмах превозносятся все прелести такого натурального хозяйства, в котором можно было бы не только выращивать овощи, но и держать кур, поросенка и даже козу.
Мне трудно представить маму – типичную жительницу города, не имевшую дела с землей и сельскохозяйственными животными, которая засыпает курам корм (где его брать – неизвестно), кормит поросенка (тоже непонятно чем) и пасет козу, которая теоретически должна давать еще и молоко. От этой неосуществимой идеи она вскоре отказалась, но все же, недалеко от вахты устроила маленький огород, на котором выращивался картофель, свекла, морковь. Она сокрушалась, что не посадила огурцов, помидоров.
По маминым рассказам из затеи с огородом ничего не вышло, и та картошка, которая уродилась и которую она копала 11 сентября, оказалась мелкой, и было ее немного. Основной урожай успели выкопать до нее – либо заключенные, либо охрана. На следующий год никакого огорода у нее уже не было.
МАМА – БАБУШКЕ
15 августа 1942 г.[278]
Родная моя мамуся! Получила твое письмо с припиской Анюты. Оно долго путешествовало по твоей вине. Почему ты в адресе не пишешь 4 участок? 46-х домов и бараков на Правом берегу очень много. Можешь не писать Кировский район, так как весь правый к нему относится, но 4-й участок непременно указывай.
Я сразу же подала заявление об отпуске для поездки за тобой, но, увы, ничего не вышло. Начальник колонии разрешил, но начальник отделения отказал. И я обвинять его не могу даже. У нас очень напряженное положение с сотрудниками, не хватает работников. А поэтому ехать сейчас нельзя. Обещают пустить числа 15 сентября. Сейчас много работы, подготовка к зиме, заготовка овощей, и хранения их, и прочее. Вся эта кампания поручена моему непосредственному начальнику, а все производство в связи с этим ложится на меня. Может быть, если мы удачно провернем это дело, я смогу быть свободна числу к 10/IX.
Теперь решай, как тебе лучше. Если боишься ехать, жди меня в сентябре. Уж будь спокойна, я добьюсь выезда. Возможно, оно и лучше будет. За это время я подготовлю комнату и топку для зимы, сделаю запасы овощей и прочее. Надо будет что-то из вещей продавать, но не знаю что. Если б я знала, какие вещи есть у тебя с собой, мне было бы легче ориентироваться, а то продам то, чего и у тебя нет. Но, возможно, мне удастся получить еще одну работу, на двойной ставке будет легче. Главное, нужны деньги для зимних запасов.
Купила я примус за 100 рублей, керосину запасу, могу достать, дров и угля тоже запасу, как только будет куда складывать.
Ты мне понаписала столько адресов, что если б я вздумала всем писать, то вряд ли у меня осталось бы время для работы. Я вижу, ты от Сони и Анюты заразилась родственными стремлениями. Я же этой болезнью не очень больна. С удовольствием напишу Тане Басс, нашей Фане, но почему я вдруг стану писать Нюсе? И о чем? Если б ей нужна была моя помощь, я бы не отказала, если это в моих силах, а загружать почту и себя не вижу необходимости. Предпочла бы лучше найти Нину и Лиду. Где они теперь?
Мои тетушки на меня рассердятся, но ты им скажи, что я их люблю не за то, что они мои тетки, а совсем за другое. Рахиль Борисовну отыщу непременно. Леле Атлас я писала, но ответа нет. Напишу еще.
Я хочу заняться своей старой специальностью – историей. Писала я письмо одному московскому профессору, когда-то приятелю Юрия и просила помочь мне в этом (я хочу заняться научной работой). Он обещал свое руководство, но никак не могу с ним увидеться[279].
Живу я по-прежнему. У меня все идет без особых изменений. На работе все благополучно, отношения хорошие. Поругалась, было, с начальником колонии, дня 4 не разговаривали, а теперь наладилось дело. Сейчас довольно много читаю. Завтра воскресение. Хочу пойти на барахолку что-нибудь продать. Зайду к Зине и Тамаре. А вообще-то, я больше дома сижу и читаю, или мастерю что-нибудь.
Чувствую себя хорошо. Вот только курить никак не брошу и часто страдаю от отсутствия табака.
Уже подкапываю картошку, покупаю всякую зелень. Сегодня буду редьку есть.
Скорее бы ты приехала. Едет ли ко мне Соня? Получили ли вызов. Я послала его заказным письмом. Уже время ему прийти.
Пиши, родная, когда думаешь выехать, если не будешь ждать меня.
Целую крепко тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
27 августа 1942 г.[280]
Родная моя мамусенька! Получила твою открытку от 2/VIII. Удивляюсь, что ты до сих пор не получила вызова. Что касается моего приезда, то опять подымаю об этом вопрос. Надеюсь, что отпустят числа 5-го. Думала, что выяснится сегодня, но не приехал начальник Отделения, от которого все зависит. Возможно, завтра сама поеду в Управление. Как только выясню, дам молнию.
Денег на дорогу достала. Мне обещали взаймы рублей 600, а потом что-нибудь продадим. Будем вместе, виднее будет, что продать.
У меня новостей особых нет. Ездила недавно в район, купила немного овощей, собрала капельку ягод.
Сейчас только и думаю, что о поездке за тобой.
Шьются мне в нашей мастерской туфли для беготни (у меня же работа беготная) из брезента, в который был зашит чемодан. Кроме того, будут шить выходные из голяшек ботинок. Но на них нет подошвы, еще надо ее приобрести. Зимнее пальто хотела лицевать, но раздумала. Нет к нему воротника. Придется с лисой носить. Зина летом купила каракуль за 1500 рублей, но у меня таких денег нет, и не было. Да и воротников теперь нет. Поставлю просто под него подкладку из несшитого сарафана и подкорочу его, так как оно до щиколоток. Платьем же и бельем на зиму я обеспечена. Валенки, вероятно, достану, а нет, так в ботах фетровых прохожу.
Для меня не ясно, поедет ли ко мне Соня или нет. Очень хочу всех вас видеть. Думаю, что меньше чем через месяц увидимся.
Масло здесь на рынке 400-500 рублей за килограмм, а мёд 45-50 рублей за стакан.
Ну вот, родная моя, пока все. Как только выяснится, когда можно будет ехать, сообщу молнией. Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
11 сентября 1942 г.
Родная моя мамочка! Уже очень давно нет от тебя писем. Вообще, после переезда в Чистополь письма появляются все реже и с большими опозданиями. Меня сейчас очень беспокоит твое молчание. Не случилось ли чего? Ты уже должна была получить вызов. А я ни слова об этом не получила от тебя.
С моим выездом за тобой дела плохи. Начальник обещал отпустить меня с 15/IX, но сейчас я больше загружена работой, чем раньше. Работы бездна. Кроме того, если я поеду 15/IX, то к 1/Х не вернусь, а после 1-го квартальный отчет, который доверить кому-нибудь я не могу. Просто не знаю, что делать. Сегодня или завтра утром мне должны дать 2-х помощников, возможно, тогда я все-таки перепоручу отчеты и поеду. Но сейчас меня, кроме всего, задерживает отсутствие письма от тебя. Боюсь, как бы мы одновременно обе не выехали. Кроме того, вот-вот я должна получить комнату. Уехать до того, как она освободиться для меня – нельзя, иначе ее займут, и мы останемся при пиковом интересе.
Сейчас я уже около 2-х недель не живу дома. Мне приходится быть в колонии и поздно вечером и рано утром, а живу я в 40 минутах ходьбы. Поэтому, я налегке переселилась в колонию, то есть захватила постель и некоторые мелочи. Первые 6 дней спала на столе в нашей части, а потом переселилась в крохотную комнатушку в помещении взвода охраны. Это тут же, за зоной. Я теперь занята не только своими прямыми обязанностями – учетом и планированием, но и непосредственно производством. Будут ли мне за это дополнительно платить, пока неизвестно, но обещают. Пока что получила рабочую карточку, а это уже много, так как могу брать больше молока. Мне хватает 400 грамм хлеба, кроме того, я в обед получаю 2 лепешки в масле. Это получается грамм 600 в день. А на 400 грамм я могу брать пол литра молока.
Нигде сейчас не бываю, работала без выходных, но послезавтра рассчитываю отдохнуть.
Зину около месяца не видела, так как не была в городе. Тамара с мужем должна переехать на Правый берег, так как они оба здесь работают и им неудобно ездить. Тогда я буду их чаще видеть. Муж ее работает на том же заводе, который мы обслуживаем.
С питанием у меня все обстоит нормально. Копаю картофель, а овощи покупаю. Жиры получаю в ларьке в солидном количестве. За август – 1300 сливочного масла и столько же растительного. Имею запас сахара. На днях должна получить сентябрьский паек. Вот с деньгами только плохо. Залезла в долги основательно, но в ближайшие дни думаю распутаться.
12 сентября.
Не удалось окончить письмо вчера. Сегодня утром опять говорила с начальником о поездке за тобой. Он сейчас едет в Управление и обещает похлопотать.
Ну что же еще писать тебе, моя родная? Очень я по тебе соскучилась. И так горько, когда долго нет писем. Ведь ты у меня одна. Сегодня буду дома, может застану письмо от тебя.
Целую крепко тебя и теток и надеюсь, все же, всех вас скоро повидать. Твоя Миля.
ВТОРАЯ ПОПЫТКА РЕАЛИЗОВАТЬ МЕЧТУ
В октябре 1942 года здоровье бабушки резко ухудшилось, и 8 октября Анна Семеновна выслала маме телеграмму:
ВИЛЕНСКАЯ-ЗЕЛИКИНА АННА СЕМЕНОВНА – ВИЛЕНСКОЙ Э.С.
ТЕЛЕГРАММА СРОЧНАЯ, ЗАВЕРЕННАЯ[281]
Мама серьезно заболела воспалением легких. Выезжай немедленно. Анна. Заверяю врач Прекрестова. Подпись врача заверяю телеграф. Кубышкина.
Телеграмма была принята в Красноярске 10 октября в 5 часов 38 минут.
Неизвестно, была ли бабушка настолько больна, что требовался срочный приезд дочери или это была «хитрость», попытка преодолеть препятствия, которые не позволяли маме помочь перевезти бабушку в Красноярск.
Получив столь тревожную телеграмму, мама пишет заявление:
Начальнику 1 отдела УИТЛК УНКВД тов. Васильеву.
От старшего экономиста
Зыковской КМР Виленской Э.С.
Заявление.
Убедительно прошу разрешить мне отпуск без сохранения содержания с 14 октября по 14 ноября для поездки к опасно заболевшей матери в Чистополь. Татарской АССР.
Эм. Виленская. 12 октября 1942 г.
На этом заявлении имеется нравоучительная резолюция тов. Васильева:
« Т. Виленская! Постановлением СНК СССР предоставление отпусков, особенно без содержания – запрещено. В связи с этим, представить Вам отпуск не можем. С. Васильев 13 октября 1942 года.
Из Красноярска в Чистополь летит телеграмма:
МАМА – БАБУШКЕ
ТЕЛЕГРАММА СРОЧНАЯ[282]
Отпуск отказано. Телеграфь возможность выезда по адресу колонии. Целую. Здорова. Писала Миля.
МАМА – ВИЛЕНСКОЙ-ЗЕЛИКИНОЙ АННЕ СЕМЕНОВНЕ
[открытка ]
Дорогая моя Анюта! (Далее угол открытки утрачен).
Надеясь, что мама уже будет (Далее угол открытки утрачен), когда придет эта открытка. Сегодня получила от нее телеграмму о том, что выедет вместе с Соней в начале октября. Меня так тревожила неизвестность, отсутствие писем и ее болезнь, что я места себе не находила. Главное, эта нелепость – я пишу регулярно, а письма не приходят. К приезду я уже кое-что приготовила. Комнату получила, она сейчас ремонтируется, ее штукатурят, будут белить и настилать полы. Обзавелась кое-каким мелким хозяйством. Комната близко от станции и от колонии. Сейчас у меня все мысли сосредоточены на их приезде.
Живу я по-прежнему. Работаю по 12-16 часов, но не устаю, так как работа неоднообразная. То бегаю по производству, то пишу, то в Управлении. Живу сейчас при колонии, ем здесь же (дневальная готовит) и только ночевать ухожу в свою кладовочку. Питание пока ничего. Пиши теперь о себе часто. Я тебе раз в неделю – в 10 дней буду писать, как раньше маме. Целую тебя крепко. Обидно, что не пустили меня, так хотелось повидать тебя. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ[283]
Октябрь 1942 г.
Родная моя мамусенька! Получила, наконец, телеграммы о том, что тебе лучше, телеграфировала, отправила открытку, а теперь решила урвать часок на письмо. Телеграмма о твоей болезни меня так потрясла, что я места себе не находила и после того, как мне отказали в отпуске, старалась зарыться в работу, что б не думать. А когда принесли телеграммы, что ты поправляешься, немного отлегло от сердца. До чего же нам с тобой не везет. Все, кажется, сделано, а ехать не можем. Но лишь бы ты была здорова.
Получила вчера письмо, в котором ты писала, что Анюта на бюллетене. Как все неладно! Не представляю, как вы там живете. Где же ты подхватила воспаление легких? Не следишь за собой, мамочка. Разве можно так? Бери пример с меня. Я вот вовсе не хвораю, а работаю как вол. Сейчас такая бездна работы, едва управляюсь. Моего начальника производственной части перевели в другую колонию, и я осталась пока на его месте. Ответственность огромная, и работы очень много. Я являюсь правой рукой начальника колонии по производству. С 8-ми и до 12-ти без передышки. Работа нервная, приходится быть администратором, и вообще, заниматься тем, чего никогда не делала раньше. Но эта работа, несмотря на большую загрузку, меня не тяготит и полностью удовлетворяет. Целый день я в ходьбе по производству, на всяких совещаниях и прочее. Открываю в себе «таланты», о которых не подозревала. Зарплаты мне платят сейчас 850 рублей, но еще их не видала. Получу, расплачусь с последними долгами, а там тебе начну высылать хоть немного.
Комната у меня уже отремонтирована, сегодня ее белят, но переезжать туда мне без тебя не хочется. Пока поселюсь там с одной сотрудницей, но фактически буду жить в каморке при колонии, где и сейчас живу. А если ты приедешь, то эта сотрудница перейдет в мою клетушку, а мы будем там.
Хожу сейчас в казенном бушлате, в сапогах. Вид самый боевой. На зиму шьют мне унты из полушубка, шьют и туфли кожаные. А так, остальным я всем обеспечена. В городе почти не бываю, с Зиной вижусь редко. Я вся целиком отдалась работе и давно уже не имею выходных. С питанием дело налаживается. Должна получить пропуск в ИТР-овскую столовую завода. А пока пользуюсь рынком и пайком, а готовит мне дневальная. Беру молоко по пол-литра в день, так как получаю 800 грамм хлеба. Вообще, все было бы хорошо, только бы ты была здорова и могла бы приехать ко мне.
Ну, ладно, моя хорошая, надо кончать письмо. Не дают писать, то один, то другой со всякими делами. Целую крепко тебя и теток. Твоя Миля.
Без посторонней помощи бабушка выехать не могла и долгожданная встреча матери и дочери состоялась лишь через 7 месяцев.
МАМА – БАБУШКЕ
Красноярск 24 ноября 1942 г.[284]
Дорогая моя мамусенька! На прошлой неделе отправила тебе письмо. От тебя теперь часто получаю открытки. Завтра–послезавтра переведу денег, как только будет получка.
У меня все без изменений. Работы очень много, такое теперь время. С 8–9 утра и без перерыва до 10–12 ночи. Но не скажу, чтоб очень утомлялась. Все время в движении, и нет утомительного однообразия. Одно время я сильно похудела, а сейчас опять стала поправляться.
Зимними вещами я полностью обеспечена, ты напрасно думаешь, что я должна замерзнуть. Все же, пришли посылкой боты, часы и черный бархат. Если куда-нибудь пойти в туфлях надо, то не хочется их портить в резиновых ботах. А без часов погибаю.
Как твое здоровье? Приложу все усилия, чтоб весной за тобой приехать. А зиму уж как-нибудь перезимуем.
Анюте на днях напишу. Буду писать открытки, главным образом, из-за отсутствия времени. Ведь конец года, надо выполнить план. Пока он перевыполнен, но эти месяцы самые трудные из-за холодов.
Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
26 ноября 1942 г.
Родная моя мамусенька! Сегодня получила твое письмо от 11/XI, в котором ты пишешь, как тебя Анюта вернула с пристани. Это, мамуся, хорошо. Разве можно рисковать так? Ты обязана беречь себя. Самое позднее весной мы увидимся. Но я не теряю надежды получить разрешение на выезд за тобой. Действителен ли только твой пропуск? Я буду говорить с начальником отдела, чтоб он разрешил поехать в январе, при условии, что я годовой план выполню. Тогда поедем по зимнику.
Напрасно ты думаешь, что у меня жизнь тяжелая. Весь мой день проходит в колонии. Здесь же мне и есть приготовят мои девчонки (у меня аппарат производственной части весь состоит из женщин), и отдохнуть я здесь прилягу. Только ночевать иду домой. Работы, правда, очень много, и ответственность большая. Работаю сейчас начальником планово-производственной части. Правда, по Управлению меня приказом не оформили, а только по колонии. Получаю 850 рублей. На днях будет получка – переведу тебе денег.
Зимними вещами я полностью обеспечена. Пальто у меня теплое, ношу его с лисой, так как на голову ничего одеть нельзя из-за кос (я ношу коронку), и я соорудила шапочку из шарфика, которая ушей не закрывает, но лиса закрывает. На ногах у меня бурочки из полушубка, очень теплые и мягкие. Их мне сшили здесь. Кроме того, есть у меня казенные валенки. С этой стороны можешь быть спокойна. Сшили мне и выходные туфли: черные с дырочками и всякими финтифлюшками. А вязаных кофточек и юбок у меня достаточно. Белья тоже пока хватает. Одеяло есть байковое и еще казенное взяла, а подушки – думки. В общем, я всем обеспечена. Нужно будет мне много кое-чего к весне, но до тех пор вместе изобретем.
Весной у меня будет сын и вот ему-то надо всякого разного. Ведь все Юрочкино я раздарила. Нет пеленок и одеяла, а распашонки сделаю из тряпья. Сын сейчас еще совсем маленький, недели через 2–3 начнет стучаться. Ведет себя превосходно, есть просит часто, пока что удовлетворяю его требования. Пусть растет. К его рождению, наверно, и война окончится. Чувствую я себя превосходно. Видимо, сын мне на пользу. Стала поправляться. Много бываю на воздухе, несмотря на то, что работаю по 14–16 часов в сутки, не чувствую утомления.[285]
Живу я очень замкнуто, нигде не бываю. Зину вижу очень редко. Но это все меня не смущает. День полностью заполнен, и работой я в какой-то мере удовлетворена.
Мамуся, хорошо если б ты прислала мне посылку с каким-нибудь барахлом для сына и, может, есть что-нибудь мне на широкую блузу. У меня все коротенькие, в юбку, и живот торчит, а платья зимнего нет. Остальным я всем обеспечена. Одеяло для сына будет. Достала ваты, верх мне одна приятельница дает, только низ осталось добыть.
2 декабря.
Родная моя! Задержала письмо до сегодняшнего дня. Прости меня. И деньги еще не перевела, не полностью получила. Думаю, что на днях выдадут, и я переведу.
Сегодня говорила с начальником, он обещал в январе (в середине или числа 10-го) отпустить за тобой. Есть ли возможность проехать в это время? Сообщи мне и жди меня. Я этого добьюсь.
Целую крепко тебя и теток. На днях напишу еще. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
9 декабря 1942 г.[286]
Родная моя мамочка! Получила 2 твоих открытки и письмо от Анюты. Анюте на днях напишу. Очень все же хорошо, что Анюта тебя не пустила. Разве можно рисковать? Ведь ты же еще на бюллетене. Ну что же делать, увидимся весной, а пока потерпим.
У меня все по-старому. Работаю, как и раньше. Зима пока очень теплая. Два дня были морозы, а так все оттепели.
Одета я тепло и вообще у меня все в порядке.
В чем ты ходишь? Какое у тебя пальто? Есть ли обувь зимняя и туфли? Если б можно было послать тебе посылку, я б сшила тебе здесь туфли и унтики для зимы.
Мне посылку не посылай, раз не страхуют, я и так обойдусь. Боты не продавай. Денег мне не нужно, наоборот, я тебе вот-вот переведу, как только получу. Рассчитываю получить премию за перевыполнение плана 3-го квартала. Есть виды на то, чтоб перевыполнить план и в 4-м квартале, опять будет премия. У нас действует прогрессивка при перевыполнении.
Как чувствуют себя Анюта, Соня, Зина? Где Фаня? Что она делает? Надо будет ей написать, но не знаю куда. Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля.
1943 ГОД
МАМА – БАБУШКЕ
ТЕЛЕГРАММА СРОЧНАЯ[287].
Беспокоюсь молчанием. Телеграфь возможность проезда. Январе приеду. Целую. Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
9 января 1943 г.[288]
Родная моя мамочка! Очень долго не было писем от тебя. Я серьезно беспокоилась. Отправила в декабре срочную телеграмму, а ответа до сих пор нет. Убедительно прошу тебя самой не ехать. Я за тобой приеду. В крайнем случае, весной, если сама не смогу приехать, пошлю за тобой одну девушку. Если есть возможность приехать зимой, то либо в этом месяце, либо в феврале приеду. Плохо только, что ты все хвораешь и, видимо, мало следишь за собой.
Я перевела тебе числа 24/XII 200 рублей, просила отправить телеграфом, а по ошибке отправили почтой. В этом месяце еще переведу. Я должна получить премию за 3-й квартал, как только получу – переведу.
Чувствую я себя очень хорошо, несмотря на большую работу и беременность. Обеды я получаю в столовой, кроме того, есть кое-какие продукты, из которых мне готовят здесь же на работе. Дома я только ночую. Регулярно имею молоко по пол литра в день. С питанием сравнительно благополучно. Одета я тоже тепло. Хожу не в своем пальто – оно мне узко, а в меховой шубе одной своей приятельницы, а она в моем. На ногах меховые бурки, есть и валенки казенные. Боты мне сейчас не нужны, но ты их не продавай. Здесь дешевле 3000–4000 не купишь. Для ежедневной беготни они мне не нужны, а туфли носить не приходится, так как я нигде не бываю. Туфли у меня хорошие, выходные. Вещей ты поменьше продавай, лучше я тебе деньги буду переводить, пока есть возможность. Для малыша нужны будут всякие тряпки. Надеюсь, что его появление совпадет с окончанием войны и ознаменует хорошее будущее.
Работы у меня меньше не становится. А сейчас и вовсе. Начальник колонии уехал на недельку и оставил меня за себя. Сегодня я первый день сама хозяйничаю.
10 января.
Пришлось отложить письмо. Завертелась начисто. Хорошо хоть, что чувствую себя превосходно. Иной раз самой непонятно, откуда силы берутся. Все-таки я за последние годы основательно окрепла и поздоровела. Лет 7 назад я бы такой нагрузки не выдержала, а сейчас хоть бы хны. Видимо, все мои перипетии пошли мне же на пользу. Откуда-то административная жилка появилась, а ведь когда-то это было совсем не в моем характере.
Ну ладно, родная, надо заканчивать письмо и отправлять. Да, на днях у нас в ларьке был шелк, получила и я, розовый, на блузку. Вот и все мои новости.
Сегодня выходной, а у меня какой-то сумасшедший день. Вечером пойду к Зине до завтрашнего дня. Завтра в Управление надо.
Крепко целую тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
26 января 1943 г.
Родная моя мамочка! Опять задержала письмо, закрутилась немножко. Уже несколько дней, как приехал начальник, и мне теперь легче. Я не помню, писала тебе или нет, что он уезжал недели на две и оставил меня заместителем. Вот я помучилась! Своей прямой работой заниматься было некогда. Нужно было сразу думать обо всем. А условия работы сейчас нелегкие, то того, то другого нет. То топливо не подвезли, то машина в ремонте. Много таких мелочей, из-за которых может все приостановиться. А аппарат у нас слабый, особенно на основных участках работы, привык к тому, чтоб за них думали. Едва дождалась приезда начальника и поняла, как ему трудно с такими работниками. Если раньше я по своей линии по некоторым вопросам обращалась к нему за советом или санкцией, то теперь решила поменьше его затруднять там, где могу решать самостоятельно. Он же мне доверяет и на днях на совещании отметил мою работу. Это, конечно, приятно.
Вообще за последнее время и руководство завода, который мы обслуживаем, и Управление наше при отсутствии начальника обращаются ко мне даже по вопросам, не касающимся производства. Да и я сама себя не узнаю. Откуда у меня появилась административная жилка, когда это совсем не в моем характере. Рабочие ко мне тоже хорошо относятся, главное знают, что если я что-нибудь пообещаю, то непременно выполню, касается ли это удовлетворения их просьб или административных взысканий[289]. Этому я научилась у тебя.
Ну, теперь о всяких личных делах. Несколько дней назад директор завода обещал мне комнату в доме возле работы. Та комната, в которой я живу, находится в минутах 10 ходьбы от колонии. И это не страшно, разумеется. Но я сделала колоссальную глупость.
Когда выяснилось, что ты к зиме не приедешь, я пустила к себе одну сотрудницу и чувствую, что выжить ее не удастся. Жажду поскорей с ней расстаться и, вероятно, недели через две, а возможно, и раньше перееду. Будет у меня небольшая, метров на 12 комната во втором этаже. Завтра думаю получить ордер, пошлю конопатить стены (это брусчатый дом), зашивать их фанерой и устанавливать железную печку, чтоб было теплее, так как дом новый, зимней стройки и не обещает в этом году быть теплым.
Оборудование для комнаты кое-какое есть. Постель, стол, стулья, шкафчик и прочая мелочь. Все это, включая ведра и тазы, делается у нас на месте, а поэтому не представляет проблемы. Мне очень хочется поскорее переехать. Комнату я выбрала на солнышко. Нам с тобой будет в ней хорошо. Пусть тебя не заботит, что это 2-ой этаж. Водопровод подводят и вообще нам воду подвозят. Для дров и угля есть сарай и кладовочка во 2-м этаже. Заживем на славу.
С продуктами дело стало лучше. Получили свинину. Мне досталось одно сало. Я его засолила и нашпиговала чесноком. Должны еще получить.
Встретила одного сослуживца по Злобинской колонии. Он работает в тайге. Там цены сказочные. Обещал прислать масло и мед. Может быть, не обманет.
Зима нынче на редкость теплая. До 20/I совсем не было морозов. А тут несколько дней ударили крепкие, ниже 400. Даже не работали на наружных работах. А сегодня с утра потеплело, к вечеру совсем стало тепло, выпал снег.
Завтра с утра поеду в город по делам, опущу это письмо.
Ты, мамуся, одна не езди. Я за тобой приеду. Только мне надо знать, действителен ли старый вызов или надо снова хлопотать. Может быть, в феврале поеду. Мне обещал начальник Отдела.
Как вы там живете? Как устраиваетесь с топливом? Как питание? Получила ли ты 200 рублей, которые я перевела. Переведу еще.
Пишет ли Фаня? Очень хочу Нину найти и Лиду. Насчет Нины думаю запросить Анну Лазаревну[290], она, наверно, в Москве. Неужели Нина в Ростове[291]?
Ну, родная моя, пора кончать письмо. Сейчас уже часов 9 вечера. Отправлюсь домой отдыхать.
Целую крепко тебя и теток. Береги себя и их. Твоя Миля.
Да, через 4 дня мое рождение. Поздравляю тебя с именинницей.
ИГРУШКИ
Как-то в Злобинскую колонию прибыл этап малолеток от 10 до 16 лет. Все преступление их заключалось в том, что они либо хулиганили и нарушали дисциплину, либо самовольно уходили из училищ или школы, либо опаздывали на работу, либо спали во время работы. Таким образом, они подпадали под действие Указа 28 декабря 1940г. и подвергались наказанию в виде разных сроков лишения свободы в колониях.
В этапе были и другие подростки, которые воровали, и торговал ворованным. Были и другие провинности. У всех были сроки от 3 до 6 лет. На общие работы их не выводили, и они, сбиваясь в стаи, болтались по зоне без дела.
Как-то, идя по зоне, мама встретила мальчишку, в руках которого была вырезанная игрушка. Она подозвала его и спросила: «Что это?» Пацан стал канючить и просить прощения у гражданина начальника. Ведь фигурка была вырезана ножом, а режущие предметы на территории лагеря были, естественно, запрещены.
– А еще вырезать можешь? – задала вопрос мама.
– Могу – ответил парнишка.
Мама обратилась к начальству с предложением организовать в колонии из подростков цех по производству деревянных игрушек.
Детские игрушки во время войны не выпускались, вырастало целое поколение, не видевшее их. Начальник колонии поддержал мамино предложение, а высшее начальство нехотя согласилось с этой инициативой снизу. Но поскольку предложение исходила от мамы, то вся ответственность за организацию нового производства легла на нее. В колонии был создан цех по изготовлению деревянной, а потом и мягкой игрушки, которым руководил кто-то из столяров-заключенных. Эти игрушки расходились на ура. А тут подоспело или правительственное постановление или статья в «Правде» о необходимости наладить выпуск игрушек для детей. Таким образом, мамины новации оказались в струе государственной политики.
Организовав детский цех, мама сумела обезопасить малолеток от связи с взрослыми заключенными, в том числе и рецидивистами, дала детям интересную работу, и малолетки стали получать рабочую (хоть и зэковскую) пайку.
В мамином архиве сохранилось трогательное письмо одного из ее «воспитанников». Уже переводясь в Горьковскую область, мама получила письмо от молодого человека, который писал:
«Желаю Вам счастливого пути, искренне жалею, что при всем моем желании, я не смог выехать из зоны и отблагодарить Вас за Ваше исключительное человеческое отношение ко мне. Но, надеюсь, что пройдут эти черные для меня дни и, встретившись в более благоприятных условиях, я смогу быть Вам полезен. Жму Вашу руку. С глубоким приветом. Искренне уважающий Вас[292].
МАМА – БАБУШКЕ
17 февраля 1943 г.[293]
Родная моя мамочка! Сегодня получила твою открытку, которую ты написала в ответ на телеграмму. Завтра поеду в Управление, и буду вплотную разговаривать насчет отпуска для того, чтоб привезти тебя. В крайнем случае, сделаю так, как ты говоришь: поеду во время декретного.
Может быть удастся получить за счет выходных и прочего раньше на недельку или две. Если же я буду здесь, то, конечно, декретным не стану пользоваться, ты же знаешь, что я непоседа. Не знаю только, надо заново оформлять вызов или старый действителен. На всякий случай, если ты об этом не сообщишь, оформлю новый.
В общем, мамуся, осталось недолго ждать. Самое позднее в мае буду у тебя. А ведь до мая осталось всего два с половиной месяца, они незаметно пролетят. Целую тебя крепко, моя родная. Целую теток. Пиши мне чаще. Очень долго письма идут. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
2 марта 1943 г.[294]
Родная моя мамочка! Получила 3 твоих письма от самых разных чисел. Очень долго письма идут. Получила и от Анюты письмо и даже ответила ей, но не отправила, а теперь не знаю, отправлять ли, она, наверно, уже в Москве. Не понимаю, почему ты моих писем не получаешь, я пишу регулярно. Твои письма тоже задерживаются и потом приходят по 2–3.
Относительно моей поездки к тебе. Пока ничего не получается, поезда перегружены, и отпуска не дают. Сейчас по работе действительно такой момент, что ехать нельзя, последний месяц квартала, а в этом квартале у меня с выполнением плана дело хуже, вся надежда на март. Возможно, я все-таки во время декретного приеду.
Так у меня все благополучно. Немного приоделась, прикрыла свое брюхо. Сшила из вискозы, которая была прикроена для сарафана, троакар. Его скоро можно будет носить, и Зина мне отдала свой шерстяной черный сарафан. Он очень хорошо скрывает формы. Сшила из брезента сапоги для весны. Должны мне еще сшить брезентовые туфли для беготни, когда высохнет земля, и летние выходные. В общем, экипировалась.
Получила я, наконец, премию за перевыполнение плана 3-го квартала. Всего причиталось 627 рублей, но со всякими вычетами получила 450. Сегодня переведу тебе. Получила ли ты перевод, отправленный в декабре? Ты об этом не упоминаешь.
С питанием дело тоже обстоит прилично. С марта меня перевели во 2-ю категорию снабжения. Получаю мясо, вермишель, жиры. Нет только овощей, но и те достаю. В общем, жаловаться не на что. Работы, конечно, много, но иначе же не может быть.
Чуть не забыла, получила комнату новую в 1 минуте ходьбы от работы, дня через 2 перееду. Она еще не отделана должным образом, отделаю, когда въеду. Комната на солнце, 12 метров, можно будет под окнами садик разбить. Всякие домашние мелочи, вроде стола, ведер и прочего мне сделали. В общем, заживем не славу, только бы ты приехала.
Кажется, все свои новости изложила. Сейчас собираюсь ехать в город, наверно останусь ночевать у Зины. Закончила отчетность и повезу ее.
Ну, мамуся, пока все. Пиши, родная, о себе подробно. Начинает собираться народ, пора кончать. Целую крепко тебя и теток. Твоя Миля.
МАМА – БАБУШКЕ
11 апреля 1943 г.
Родная моя мамусенька! Прости, не писала дней 10. Вчера получила открытку от Анюты из Казани перед отъездом в Москву. Теперь она уже, наверно, опять в Чистополе.
Сегодня должна уехать в Москву Зина. Числа 3-го мая она выедет из Москвы. Хочет ехать через Казань, чтоб оттуда захватить тебя. Сможешь ли ты к этому времени попасть в Казань? Она напишет тебе и даст телеграмму. На всякий случай, если ты забыла, ее московский адрес: Каланчевская улица, № 45, кв.1. Шепелевой. Это было бы самым удачным выходом. Боюсь, что мне не удастся, не только приехать за тобой и пробыть у вас декретный, но даже вообще воспользоваться отпуском. Нет замены, ты же знаешь как сейчас трудно с кадрами. Вообще бы, я очень хотела съездить к вам, повидать теток, ведь кто знает, когда увидимся, а Анюту я уже больше 6-ти лет не видала. Но, кроме того обстоятельства, что некому за меня остаться, есть еще одно, но о нем я расскажу, когда встретимся. Боюсь, чтоб за мое отсутствие не наделали мне беды с моими работниками. А то пораспустят весь аппарат, а потом его заново сколачивай.
Чувствую я себя вполне прилично, только ходить много избегаю, уже тяжело. К началу июня думаю рассыпаться.
Так у меня идет все нормально. Получаю уже на малыша паек, кроме своего основного. Вообще, с питанием дело обстоит вполне прилично, даже лучше, чем раньше. Правда, все деньги идут только на питание. Но зато есть и жиры, и мясо, и молоко.
Комната у меня очень миленькая. Требуются еще кое-какие доделки: надо покрасить полы, подшить потолки и покрасить мебель. Все это сделается само. Скорей бы ты приехала. Мы бы неплохо зажили.
Попробую послать тебе новый вызов, но лучше было бы, если б ты старый продлила. Много беготни с ним.
Сейчас звонила Зине. Она едет сегодня. Поеду к ней в час дня и отдам это письмо, чтоб она его опустила по дороге.
Целую крепко мою родную мамочку и теток. Твоя Миля.
БАБУШКА – МАМЕ
ТЕЛЕГРАММА. СРОЧНАЯ.[295]
Для выезда требуется телеграфное разрешение Крайисполкома для въезда в Красноярск. Мама.
Однако мама «рассыпалась» преждевременно – 28 апреля. Накануне по служебным делам она объезжала участки. Ехала она одна на двуколке, по весенним разбитым дорогам. Вернувшись на работу, она почувствовала, что начинаются роды, а ехать в больницу было далеко. Тогда из кабинета были удалены все мужчины, из барака вызвали акушерку из зэчек. Мама рожала на письменном столе, с соблюдением всевозможных правил гигиены, и на свет появился я. Потом, правда, выяснилось, что акушерка, принимая роды, забыла помыть руки.
Ни дородового, ни послеродового декретного отпуска мама не брала. Комната, где она жила, находилась недалеко от вахты, и меня либо приносили в положенное время на кормежку в контору (иногда совещания по этому случаю прерывались), либо мама приходила домой.
Беспокоясь и о новорожденном и о матери, которая осталась в Чистополе одна (Анна Семеновна с сестрой и золовкой реэвакуировались в Москву), мама посылает душераздирающую телеграмму.
МАМА – БАБУШКЕ
ТЕЛЕГРАММА. СРОЧНАЯ[296].
Выезд невозможен. Телеграфь состояние. Умоляю. Спаси. Миля.
За бабушкой в Чистополь поехала тетя Зина и в очередной раз помогла своей подруге. В конце мая 1943 года она привезла бабушку в Красноярск.
Дальнейшее изложение событий – пересказ того, что мне запомнилось по рассказам мамы и тех документов, которые сохранились.
Трудно себе представить долгожданную, постоянно обсуждаемую и все время откладываемую встречу матери и дочери, которые не виделись семь лет, не считая нескольких дней в июле 1939 года.
Бабушка приняла на себя все заботы и хлопоты по дому и по воспитанию внука. Мама была счастлива: наконец-то и у нее появилась семья!
Но, к моему эгоистическому сожалению, прекратилась и их многолетняя переписка, из которой мы узнали так много подробностей жизни мамы и бабушки за все описываемое время. Переписка сохранилась неплохо, но многие письма были утрачены.
С 1936 по 1943 гг. сохранилось 63 маминых письма бабушке, которая их бережно сохраняла. То же можно сказать и о маме. Но бабушкиных писем сохранилось намного меньше – всего 20.
Однако счастье этих двух женщин было непродолжительным.
В Красноярске мама, бабушка и я прожили вместе всего год. Ее здоровье все время ухудшалось: ее мучили приступы стенокардии, они становились все чаще и купировались все хуже. Видимо, климат ей не подходил, да и возраст давал о себе знать. Возможно, не хватало нужных лекарств, хотя Анна Семеновна наверняка снабдила бабушку всеми необходимыми препаратами и врачебными инструкциями.
Было решено бабушке вместе с внуком вернуться в Москву, под наблюдение Анны Семеновны. А поскольку бабушке было трудно одной справляться с малолетним внуком, которого надо было все время брать на руки, переодевать, подмывать (все это я узнал гораздо позже, став отцом), меня решено было пристроить в Институт педиатрии. Маме каким-то образом удалось выхлопотать пропуск в Москву для переезда семьи.
...Поезд с реэвакуированными шел на запад долго-долго, с продолжительными многочасовыми остановками.
До Москвы оставалось всего 200 километров. Началась обычная суета перед подъездом к столице: пассажиры собирали разбросанные вещи, упаковывая их в узлы и чемоданы. Несколько раз проходил военный патруль. Бабушка чувствовала себя все хуже и хуже. Уже не помогали уколы камфары.
Мама вышла в тамбур покурить. Когда она вернулась, бабушка уже не дышала, но ее остывающая рука продолжала удерживать внука за рубашечку, не давая ему выползти из корзины, которая в дороге служила кроваткой.
Бабушка, как и ее муж, мой дедушка, умерла в дороге. На станции Александров, откуда она не раз отправляла посылки дочери, ее тело вынесли из вагона. Мама не могла даже остаться, чтобы ее похоронить – пропуск на въезд в Москву имел ограниченный срок. Хоронил бабушку ее племянник Гриша Лифшиц – офицер, имевший неограниченный пропуск для перемещения.
Что явилось причиной скоропостижной кончины бабушки: ее давно нездоровое сердце, постоянные стрессы, связанные с мамиными делами, сибирский климат, волнение перед скорой встречей с Москвой – Бог ведает...
После почти восьмилетнего отсутствия, мама вернулась в Москву 17 июля 1944 года. Эта дата достоверно зафиксирована тогдашней кинохроникой и мамиными рассказами. Именно на день моего въезда в Москву Верховный главнокомандующий распорядился проконвоировать по Ленинградскому шоссе, а затем по улице Горького 57600 пленных немецких солдат, офицеров и генералов.
Кадры кинохроники показывают эту многочасовую процессию, растянувшуюся на насколько километров. Во главе колонн – немецкие генералы: некоторые через монокли рассматривают любопытствующие толпы москвичей, за ними – офицеры, а далее – бессчетное множество солдат. Колонны конвоировали бойцы Красной армии с ружьями наперевес и конная милиция. Замыкали шествие поливальные машины, символически смывавшие грязь с московских мостовых от подошв неудачливых завоевателей.
На самом деле, всю эту демонстрацию замыкали не поливальные цистерны, а скромная машина, которую раздобыл Гриша Лифшиц. Он встречал нас на Ярославском вокзале и отвез нас, по-видимому, на квартиру к Анне Семеновне, на Тверской бульвар. Мама часто вспоминала эту мою первую встречу с Москвой, о которой я, конечно же, не помню. Было мне тогда всего год и три месяца.
ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ И «РОМАНА» С ГУЛАГОМ
Новый удар судьбы – смерть бабушки – радикально изменил мамины планы. Первоначально, я так думаю, мама должна была вернуться вновь на работу в Красноярск, где у нее был налаженный быт и устоявшиеся хорошие отношения с начальством, которое ценило деловые качества мамы. Кроме того, шла война, и из системы НКВД вольнонаемных работников не выгоняли.
Не знаю, каким образом, но маме удалось добиться в Москве перевода из УНКВД по Красноярскому краю поближе к Москве, в УНКВД по Горьковской области. Мама вернулась в Красноярск для завершения всех дел в Зыковской колонии, сбора оставшихся вещей и в конце октября 1944 года навсегда покинула этот город и край, в котором она провела ровно восемь лет своей жизни[297].
Мама переехала в Горьковскую область.
В трудовом списке.
Под № 24 запись 1944 октябрь 19.
Принята на должность начальника плановой части Автозаводского ОЛ УИТЛК УНКВД по Горьковской области. По направлению ОК ГУЛАГа Приказ 502 от 16 ноября 1944 г.
Мама переехала на новое место работы и попала в новое, незнакомое ей пенитенциарное учреждение. Не понаслышке зная работу и жизнь колонии, ее производственную деятельность, она оказалась в Особом лагере, где существовал иной режим заключения, иной режим работы, и другая система отчетности. Начальник лагеря требовал от мамы отчетов по перевыполнению плана, т.к. это помогало его карьерному росту.
Мама умела манипулировать цифрами отчетности (этому ее научил старый экономист еще в Злобинской колонии). Весь фокус заключался в том, как рассказывала мама, что бы в отчетах не показывать реальный процент перевыполнения – несколько процентов следовало держать про запас, когда план по тем или иным причинам не полностью выполнялся. Вот тогда из запасов вынимались недостающие проценты, которые вставлялись в отчет, и план выполнялся и даже несколько перевыполнялся. Начальство и Злобинской и Зыковской колонии было этим вполне довольно, поскольку колонии находились на хорошем счету у краевого начальства.
В Особом лагере условия были другие – начальник требовал выхода на работу всех заключенных, в том числе и больных, отчего смертность в лагере возрастала, а это сказывалось на производственных показателях. От мамы требовалось не показывать этого в отчетах и, наоборот, приписывать перевыполнение плана. Но умерших людей вернуть уже нельзя, и манипуляция с цифрами зашла в тупик. Начальник этого не понимал и, зная мамину биографию, обвинял ее в саботаже. Той защиты, которая была в Красноярске, в Горьком не было – маме приходилось весьма туго, о чем она и пишет, прибегая к иносказаниям в письме своей красноярской приятельнице Александре Игнатьевне.
МАМА – ИВАНОВОЙ А.И.
21 января 1945 г.[298]
Милая хорошая Александра Игнатьевна! Простите, что так долго не выполняла своего обещания и не писала Вам. Но у меня все так неладно сложилось, что писать не хочется. В Москве я не осталась, пришлось ехать в Горький. Здесь меня направили в крупное подразделение, но в такое неудачное, что уже через месяц я начала просить перевести меня отсюда. Здесь очень неудачный начальник, с которым сработаться невозможно, тем более, что у меня не такой уж покладистый характер. В общем, я своего добилась, и меня переводят, уже сдала дела и послезавтра еду за назначением. Думаю, там, куда направляют, будет лучше, там начальник культурный человек. Из-за неполадок на работе у меня и настроение было поганое и поэтому не писала.
Коленька остался в Москве, там же в институте педиатрии. Взять с собой его я не могла, т.к. ехала в неизвестность. И хорошо сделала, что не взяла, ведь я еще и комнаты не имею. Но на новом месте мне ее как будто уже приготовили или готовят.
Должна была поехать в Москву за вещами, но потеряла паспорт или вытащили его. Не знаю до сих пор. Не получила другого и из-за этого не могу выехать.
Маму перевели из Особлага в колонию. Все же они отличались по каким-то параметрам друг от друга.
В трудовом списке
Под № 25 1945 февраль 1
Перемещена на должность начальника плановой части ИТК №22 УИТЛК УНКВД Горьковской обл. Приказ 44 от 7 февраля 1945 г.
Формулировка, конечно убийственная – «перемещена», но в духе того времени и той организации: людей именно перемещали туда, куда заблагорассудится системе, Ведь люди – винтики, переводные ремни, фигурки на доске и т.п.
Как «перемещенная», мама проработала начальником плановой части в 22 ИТК до конца войны, время от времени наведываясь в Москву.
9 мая 1945 года мама возвращалась по одноколейке из Горького в колонию. В Горьком и по железной дороге разносился слух об окончании войны. Все с нетерпением ожидали официального сообщения по радио. Состав медленно полз, останавливаясь на всех разъездах и полустанках. Все спрашивали: «Уже было сообщение? Война кончилась?». Сообщения не было – всю первую половину дня были только позывные, державшие людей в напряжении.
Наконец, часа в два или три Левитан зачитал сообщение Совинформбюро о полной и безоговорочной капитуляции Германии. Это событие застало маму на какой-то маленькой станции, и она часто рассказывала о том, как пассажиры выскакивали из вагонов, вслушивались в долгожданные слова. Незнакомые люди обнимались, целовались. У всех было приподнятое настроение. Наконец-то война закончилась. Правда, Советские люди, победившие фашизм и перенесшие тяготы и лишения, которые и в страшном сне не могли привидеться союзникам, узнали об окончании войны самыми последними в Европе.
МАМА – ВИЛЕНСКОЙ-ЗЕЛИКИНОЙ АННЕ СЕМЕНОВНЕ[299]
5 сентября 1945 г.
Дорогая Анечка! Я опять в Горьком и никак не могу связаться с Москвой, а это мне крайне необходимо. Звонила Нина, она уже там не живет. Сегодня ночью попытаюсь позвонить к тебе и к Лиде, чтоб она кого-нибудь нашла.
Дела у меня поворачиваются не совсем ладно, и настроение в связи с этим гадкое. Уже есть приказ об увольнении (так мне говорили). Момент очень неудачный. У меня ничего не подготовлено. От Гриши ничего нет, и каковы успехи с Фаиниными хлопотами, тоже не знаю. Насколько я понимаю, ни тебя, ни Фани в Москве нет. Меня страшит то, что через какую-нибудь неделю я окажусь одна в Горьком даже без угла, причем выехать в Москву будет не так просто. А если даже и выеду, что ждет меня там? Хорошего мало. Но пора бы привыкнуть, что его почти и не бывает.
Сегодня должна быть у начальника Управления – хочу просить отпуск до увольнения. Тогда будет легче. Приеду, и там все обдумаем. О результатах своего визита допишу позже и завтра отправлю письмо.
Как Коленька? Не справлялся обо мне? Хоть бы скорей быть с ним вместе. Пиши мне по адресу: Горький, Площадь 1-го мая, Почтамт. До востребования. Целую крепко всех. Твоя Миля.
В новой колонии у мамы дела не заладились, да и надо было как-то по-иному устраивать свою судьбу, подумать о будущем. Работа экономиста в системе ГУЛАГа ее не могла удовлетворять.
В трудовом списке появилась запись:
№ 26 1945 сентябрь 13
Уволена из органов НКВД за невозможностью дальнейшего использования Приказ 296 от 31 августа 1945 г.
(И чуть ниже – торжественная, размашистая, безапелляционная подпись:
Зам. Начальника УИТЛК НКВД Горьковской области по кадрам майор Новиков).
Это была последняя запись в трудовом списке. Следующая появится через ДЕВЯТЬ ЛЕТ в апреле 1954 г.
Так для мамы закончилась и война и затянувшийся «роман» с НКВД и ГУЛАГОМ.
[1] ЦМАМЛС. Ф. 23. Оп. 2. Название дано мной. Н.В.
[2] Лапин Николай Антонович – сведений о нем собрать не удалось.
[3] Романчук Евгений Иванович (1904–02.10.1936). Родился в селе Жадовка Ульяновской области. Закончил исторический факультет Пединститута им. Бубнова, был аспирантом того же института. Преподавал историю в Тульском пединституте. Арестован 17 марта 1936 г. По приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР по обвинению в контрреволюционной деятельности и созданию террористической организации приговорен к расстрелу. Расстрелян 2 октября 1936 г. Определением Военной Коллегией Верховного Суда СССР от 09.01.1957 г. посмертно реабилитирован. Место захоронения неизвестно. Женат на Шепелевой Зинаиде Сергеевне. О ней см. во второй части.
[4] Егоров Пётр Васильевич (1904 г.–04.11.1936 г.). Историк, преподаватель истории Московского областного педагогического института. Соавтор Ю.М. Бочарова по книге «История классовой борьбы в XVIII–XX вв. Учебник». Мама ошиблась: Егоров был арестован 21 апреля 1936 г., т.е. через полтора месяца после ареста Ю.М. Бочарова. По приговору Военной Коллегии Верховного суда СССР Егоров был обвинён в контрреволюционной деятельности и создании террористической организации. Расстрелян 4 ноября 1936 г. Посмертно реабилитирован в 1956 г. см. : Расстрельные списки. Вып. 1. Донское кладбище 1934–1940 гг. М. : 1993. С. 18.
[5] Городецкий Ефим Наумович, впоследствии сослуживец мамы по Институту истории АН СССР, с которым она была в дружеских отношениях.
[6] Письмо написано на одном дыхании без помарок и вставок. К сожалению, оно не было закончено и, видимо, мама о нём забыла. Судя по перу и бумаге (ручка и блокнот были присланы маме из Шанхая её двоюродным братом – дядей Симой в 1948–1949 гг.), письмо писалось в 1949 – начале 1950-х гг.
[7] Значительно позже я узнал и причину такого бесцеремонного обращения со мной. В СССР велась борьба с безродными космополитами, под которыми подразумевались евреи. Их изгоняли с работы, доводили до инфарктов и инсультов. Это уже потом началась вакханалия с «делом врачей», слухами о депортации евреев из городов, о готовящихся погромах. Все эти сведения были, разумеется, не для детского уха.
[8] Ильина Наталья Иосифовна (1914–1994 гг.), русская писательница. Автобиографический роман «Возвращение» (кн. 1-2, 1957–1965гг.) о судьбе русских эмигрантов в Китае, сатирическая публицистика, художественно-мемуарные кн. «Дороги и судьбы» (1985г.), «Встречи» (1987г.).
[9] ЦМАМЛС. Ф. 23. Оп. 2. Запись от 19 февраля 1980 г.
[10] ЦМАМЛС. Ф. 23. Оп. 1. Дело. 238. Лл. 18–38.
[11] ЦМАМЛС. Ф. 23. Оп. 2. Запись от 1 мая 1982 года.
[12] Беба – Берта Аркадиевна Зурабова – одна из ближайших подруг мамы, с которой она училась в РИИНе (редакционно-издательском институте) и с которой сохранила дружбу до своих последних дней. Берта Аркадиевна – дочь Аршака Зурабова – депутата II Государственной Думы (известный «Зурабовский инцидент во II Государственной Думе). К тёте Бебе судьба была снисходительна. Её просто выслали из Москвы. Но зато её брат Виктор прошёл весь сталинский ГУЛАГ по полной программе, так как был секретарём Троцкого и, следовательно, по понятиям властей, обязательно должен быть троцкистом.
[13] Рома – Роман Константинович Харитонов – после репатриации из Шанхая в 1948 г. жил и врачевал в Казани. По специальности – хирург. Женат на Татьяне Павловне Головацкой. Имеет сыновей Константина и Игоря. В 1992–1993 гг. семья переехала в Канаду, и мои отношения с ними оборвались. Харитоновы были большими друзьями мамы и часто у нас останавливались.
[14] Хорват Дмитрий Леонидович (1858–1937гг.) – генерал-лейтенант, в 1902–1918 гг. – управляющий КВЖД. См. Русский Харбин / М. : Изд-во МГУ, 1998. С. 234.
[15] Ровенский Павел Владимирович (1858 г.р.) Из крестьян. Учился в Харьковском ветеринарном институте. Член организации «Земля и воля». В 1879 г. исключён из института за пропагандистскую деятельность среди студентов. В 1880–1881 гг. – член организации «Народная воля» в Одессе. В 1883 г. осужден за принадлежность к «русской социал-демократической партии» на 10 лет каторжных работ в Сибири. До 1889 г. отбывал наказание на Каре, затем водворён на поселение в Якутскую область. В 1894 г. переселён в Барнаул под гласный надзор полиции. Занимался обучением детей на дому, служил писцом в земском отделе управления Алтайского горного округа, агентом страхового общества «Саламандра». В 1897 г. переехал в Харбин. В дальнейшем примкнул к партии эсеров. О П.В. Ровенском имеется большая статья в «Большой энциклопедии» под ред. С.Н. Южакова. Т. 22 (дополнительный) СПб. : Книгоиздательское товарищество «Просвещение» 1909. С. 405-406.
[16]Чернявский Самуил Романович (1877–? гг.) – журналист, редактор харбинской газеты «Новости жизни» (основана в 1908 г.). Родился в Одессе. Получил медицинское образование в Киеве, занимался врачебной практикой. В 1906 г. переселился в Харбин, где стал работать в местной прессе. О нём см. : Русский Харбин / М. : Изд-во МГУ, 1998. С. 234.; Г.В. Мелихов. Белый Харбин: Середина 20-х. М. «Русский путь» 2003. См. именной указатель.
[17] А.С.Чернявский (секретарь газеты «Вперёд») был убит толпой в 1920 г. См. Г.В. Мелихов. Белый Харбин: Середина 20-х. М. «Русский путь» 2003. С.225.
[18] Виленский Лейвик-Борис – был убит офицером Рюмкиным 10 июля 1927 года на станции Хайлар. Дядю Лейвика в семье Виленских очень любили и перенесли эту любовь на его детей, особенно на младшего – Семёна, которого дома называли Симой.
[19] ДВР – Дальневосточная республика (06.04.1920 г.–15.11.1922 г.) – «буферное» государственное образование на Дальнем Востоке, созданное по инициативе руководства РКП(б) на заключительном этапе Гражданской войны.
[20] Правильно: Сатовский-Ржевский Григорий Григорьевич. Был редактором-издателем газеты «Свет». Умер в Харбине в 1943 г. О нём: Русский Харбин / М. : Изд-во МГУ, 1998. С. 17; Г.В. Мелихов. Белый Харбин: Середина 20-х. М. «Русский путь» 2003. См. именной указатель.
[21] На этом записки о Харбине обрываются.
[22] ЦМАМЛС. Ф. 23. Оп. 2. Магнитофонная запись, с последующей перепечаткой и правкой, относится к октябрю-ноябрю 1987 г.
[23] Краснощёков Александр Михайлович (1880 г.–26.11.1937 г.) – видный большевик, политический деятель, экономист и юрист. В 1896 г. вступил в подпольный социал-демократический кружок, неоднократно подвергался арестам, сидел в тюрьме и был в ссылке. В 1902 г. уехал сначала в Берлин, а затем в Америку, где в 1912 г. окончил университет в Чикаго. В 1917 г. вернулся в Россию. В 1918 г. – председатель Дальневосточного СНК. С 1920 г. – председатель правительства и министр иностранных дел Дальневосточной Республики (ДВР). С 1921 г. – заместитель наркома финансов РСФСР, член Президиума ВСНХ, в 1922–1926 гг. – председатель правления Промбанка СССР. В 1923 г. был арестован по обвинению в использовании государственных средств в личных целях, освобождён в ноябре 1924 г. В 30-е гг. – начальник Главного Управления Новолубяных культур Наркомзема СССР. Арестован 16.07.1937 г. Обвинён в шпионаже и участии в контрреволюционной террористической организации. 25.11.1937г. Военной Коллегией Верховного Суда приговорён к расстрелу. Расстрелян 26.11.1937 г. Захоронен на территории Донского крематория. Реабилитирован 28.04.1956 г. См.: Расстрельные списки. Вып. 1. Донское кладбище 1934 – 1940. М.: 1993.
[24] В дедушкиных записях рассказывается немного другая история. См. ЦМАМЛС. Ф. 23. Оп. 1. Дело. 238. Лл. 18 – 38.
[25] Это не опечатка. В рассказе мальчишки кричат именно «Софнарком», а не Совнарком.
[26] Однако, несмотря на то, что мама принимала большое участие в общественной работе школы, в комсомол она так и не вступила, не потому, что не хотела. Хотела. Хотела быть как все, со всеми «попасть в эту колею, чтоб почувствовать своим плечом плечи всех тех, с кем вместе я иду к большой цели». Но социальное происхождение – «из служащих» (а как его изменишь?), лишило её этой возможности.
[27] Седов Сергей Львович (1908-1937 гг.). Младший сын Л. Д. Троцкого от второго брака. В отличие от отца и старшего брата был далек от политики, стал талантливым инженером, автором ряда трудов по термодинамике и теории дизеля. В неполные 30 лет – профессор Московского технологического института. В начале 1935 г., в связи с т. н. кремлевским делом, был арестован и приговорен к 5 годам ссылки. Но уже 29 октября 1937 г. расстрелян. В 1988 г. Верховный суд СССР отменил приговор в отношении С. Л. Седова и дело прекратил за отсутствием в его действиях состава преступления.
[28] ЦМАМЛС. Ф. 23. Оп. 1. Дело 162. Л.5.
[29] СВИДЕТЕЛЬСТВО. Предъявительница сего ученица Переяславской женской четырёхклассной прогимназии Виленская Эстер Хана Симховна, дочь мещанина иудейского исповедания, имеющая от роду 16 лет, поступила по экзамену в 4-й класс Переяславской женской прогимназии 6 октября 1893 года и, находясь в ней до окончания курса, в продолжении всего времени вела себя отлично. В настоящем году, при бывшем испытании ученицам 4-го класса она показала по обязательным предметам нижеследующие познания /далее идут обязательные предметы и оценки по ним./ Из всех предметов получила среднюю оценку 34/5. Затем по чистописанию и рукоделию обучалась с очень хорошими успехами. Сверх того, она обучалась необязательным предметам и показала следующие познания: во французский язык, в немецкий язык, танцы, гимнастика.
Почему на основании установленных правил, она, Виленская, удостоена звания ученица, окончившей курс учения в женской прогимназии с распространением на неё прав и преимуществ, предъявляемой статьёй 45 Положения о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного просвещения, ВЫСОЧАЙШЕ утверждённых 24 мая 1870 года.
В удостоверении чего дано ей Виленской Эстер Хане сие свидетельство по определению педагогического совета прогимназии, состоявшемуся июня 11 дня 1894 года. Город Переяславль. Июня 14 дня 1894 года. /подписи/. ЦМАМЛС. Ф. 23. Оп. 1. Дело 246. Л. 1.
[30] ЦМАМЛС. Ф. 23. Оп. 2.
[31] Интересно, что в том же селе Романовка Балашовского уезда Саратовской губ. с 1909-го по 1911 год служил врачом известный хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, будущий Святитель Лука. В примечаниях к Автобиографии архиепископа Луки даётся следующее описание: «Романовка – громадное степное село на реке Хопер с двумя храмами и четырьмя кабаками. Что ни праздник – на широких романовских улицах начинались пьянки, драки, поножовщина. …Два врача, три фельдшерицы и фельдшер, работая без передышки целыми сутками, едва справлялись с наплывом больных. На прием в амбулаторию приходили по 100–150 человек, а после этого надо было ехать верхом или на телеге по деревням. Дел и там хватало, ведь на участке было 20 сел и 12 хуторов. Там на месте приходилось делать операции под наркозом, накладывать акушерские щипцы». Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) «Я полюбил страдание...» Автобиография. М.: издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2008. Примечание к 20 стр.
[32] Запись 26 января 1988 года.
[33] Заведующим редакцией в то время был Илья Маркович Василевский, использовавший псевдоним «Не буква».
[34] Полевой Юзеф Захарович, историк, сотрудник Института истории АН СССР. Доктор исторических наук. Мама познакомилась с ним в конце 1940-х годов и частенько редактировала его работы, сначала за оплату, а потом бесплатно, по-дружески.
[35] Мама работала в этом издательстве с октября 1930 года по январь 1931 года.
[36] Написано 22 – 23 апреля 1988 года.
[37] Брак был действительно зарегистрирован 5 февраля 1930 года. См. ЦМАМЛС ф. 23, оп.1 дело.161.
[38] [Приказ весьма характерный для того времени, а потому привожу его полностью Н.В.]. «Выписка из Приказа № 5 по Рабфаку Искусств от 28 февраля 1930 г. § 3. На основании представленных документов: удостоверение личности за № 0050594, студентом II курса Изо группы товарищем Веретенниковым Д.В., фамилия Веретенников переименовывается в ВИЛЕНСКИЙ Д.В. В списках произвести соответствующее изменение. Заведующий рабфаком /Пенкнович/. С подлинным верно: 28 февраля 1930 г. Ст. делопроизводитель /подпись/. С тех пор по всем официальным документам Митя проходил как Д.В. Виленский.
[39] Здесь, по-видимому, ошибка. Мне помнится, что это был Павел Иванович Лебедев-Полянский (21.12.1881–04.04.1948), который был одним из руководителей Пролеткульта, известный в своё время литературовед и литературный критик.
[40] Берта Аркадьевна Зурабова.
[41] Генеалогические данные о тётках Мити Веретенникова см.: О. Абрамова, Г. Бородулина, Т. Колоскова. «Между правдой и истиной» (Об истории спекуляций вокруг родословной В.И. Ленина) – М., 1998. - 192 с.
[42] Митя продолжал жить в квартире А.И. Елизаровой-Ульяновой и М.И. Ульяновой уже после смерти обеих тёток.
[43] Ошибка. По архивным документам, хранящимся в ЦМАМЛС, ф. 23. оп.1, дело 161, л. 1, мама развелась с Митей 25 декабря 1931 года и в тот же день зарегистрировала брак с Юрием Михайловичем Бочаровым.
[44] Почтовый конверт. Адрес получателя: Заказное. Москва, 22. Курбатовский переулок, дом 2/а, кв. 8. Эмилии Самойловне Виленской. Адрес отправителя: Оса, Сарапульский округ, Рыбная площадь, квартал 39, дом Падариной. Д.В. Веретенникову. Штемпель отправителя: Оса, Сарапул, Окр. 8.4.30. Штемпель получателя: Москва, 22, гор. П.т. Отд. 17.4.30. – 9.
[45] ЦМАМЛС. Ф. 23. Оп. 1, дело 1, л. 1.
[46] Запись относится к 14 марта 1988 г.
[47] Бочаров Ю.М., Иоаннисиани А.З. и др. История классовой борьбы XVIII – ХХ вв. Учебник. ОГИЗ «Московский рабочий». М. – Л.,1931 г. Первое издание вышло в 1928 г. Пятое и шестое издания вышли в 1931 г. Последнее, шестое издание, выходило двумя выпусками.
[48] Дмитриев Сергей Сергеевич (04.09.1906 г.–09.10.1991 г.) – профессор Исторического факультета МГУ, автор работ по истории русской общественной мысли, исторической периодики, источниковедению и историографии. Был моим университетским преподавателем и научным руководителем.
[49] По данным расстрельных списков. Вып.1. Донское кладбище, группа из 25 человек, среди которых был и Юрий Михайлович, по обвинению в контрреволюционной и террористической деятельности 02.10.1936 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР приговорены к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 03.10.1936 г.
[50] Михаил Ильич Бочаров (03.01.1831 г.–13.07.1895 г.) – академик декоративной живописи, художник-декоратор императорских театров. Учился в Училище живописи, ваяния и зодчества и в Академии художеств. Получил в 1853 г. вторую серебряную медаль за картину «Вид с Воробьёвых гор в Москве». В 1855 г. – первую медаль за картину «Пейзаж с натуры», а еще через два года в 1857 г. – малую золотую медаль за «Вид из окрестностей Москвы». В 1858 г. за программу по личному выбору «Ай-Петри на южном берегу Крыма» был удостоен Большой золотой медали и через год, в 1859 г. отправлен за границу в качестве пансионера Академии художеств. В 1860 г. на академической выставке была выставлена его картина «Закат солнца», приобретенная Президентом Академии художеств великой княгиней Марией Николаевной. В 1862 г. двадцатидевятилетний Михаил Ильич был выбран академиком за работы, появившиеся на академической выставке в 1863 г. «Шильонский замок», «Озеро Немми», «Албанская аллея», «Вид из римской Кампании», «Долина Роны», «Женевское озеро» и «Албанское озеро». Ряд превосходных декораций написан Бочаровым для многих драматических пьес, опер и балетов Императорской сцены. Он оформлял спектакли: «Смерть Иоанна Грозного», «Вражья сила», «Кузнец Вакула», «Руслан и Людмила». В Энциклопедическом словаре 1953 г. (т. I, с.. 216) Бочаров назван видным русским театральным художником-реалистом. В СЭС (1979 г., с. 165) характеризуется как представитель позднего романтизма (по декорациям оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского), поставленного в 1874 г. в Императорском Мариинском театре. Судя по маминым рассказам, в семье Бочаровых Михаила Ильича считали не столько живописцем, сколько главным декоратором именно Мариинского театра.
[51] К моменту смерти М.И. Бочарова его сыну исполнилось 8 лет.
[52] Сведения о семейных коллизиях М.И. Бочарова и В.А. Саврасовой приводятся по книге Олега Добровольского «Саврасов» в серии «Жизнь замечательных людей». М., 1983 г.
[53] По сведениям, предоставленным А.Л. Толмачёвым, Пётр Петрович Павлов (ок. 1860 – после 1920-х гг. ХХ века) был фотографом и имел фотоателье на Мясницкой, а затем, с 1914 года, на Петровке. Но речь, по-видимому, должна идти о брате Петра Петровича – Ефиме Петровиче Павлове, который действительно имел в 1920-е годы собственную фотографию на Арбате.
[54] Ошибка: Ю.М. учился в 3-й мужской гимназии, располагавшейся на Лубянке, недалеко от которой в ту пору жила семья.
[55] Герье Владимир Иванович (1837–1919 гг.) – профессор Московского университета. В 1865 г. занял кафедру всеобщей истории после смерти Ешевского, сначала в качестве доцента, а затем – экстраординарного и ординарного профессора. Организатор Высших женских курсов в Москве (1872 г.).
[56] Шмидт Отто Юльевич (1891–1956 гг.) – учёный, государственный деятель, академик, Герой Советского Союза. В 1918–1922 гг. работал в Наркомпроде, Наркомфине, Наркомпросе.
[57] Лозовский (настоящие имя и фамилия Соломон Абрамович Дридзо, 06.03.1878 г.–12.08.1952 г.). Политический и профсоюзный деятель, доктор исторических наук. С 1921 г. – Генеральный секретарь Профинтерна. С 1937 г. – директор Гослитиздата. В 1939–1946 гг. – зам. наркома иностранных дел и одновременно зам. начальника, а в 1945–1948 гг. – начальник Совинформбюро. Член ЦК ВКП(б). В 1949 г. арестован по делу Еврейского антифашистского комитета. 12 августа Военной Коллегией Верховного Суда СССС приговорён к расстрелу. В 1955 г. реабилитирован.
[58] Максаков Владимир Васильевич (1886–1964 гг.) – российский историк, архивист; участник революционного движения с 1903 г., профессор. Преподавал в историко-архивном институте. Труды по истории революционного движения, архивоведению, археографии.
[59] Самоквасов Дмитрий Яковлевич (25.05.1843 г.–03.08.1911 г.) – русский историк и археолог. С 1892 г. управляющий Московским архивом Министерства иностранных дел.
[60] См. ст. Самощенко В.Н. Археологический институт. В кн.: «Отечественная история», энциклопедия. В 5 т.: т. 1. М. : Большая Российская энциклопедия, 1994. – С. 120.
[61]РГАСПИ (бывший ЦПА ИМЛ) Ф. 17, оп. 9, ед. хр. 1637. Л. 150; Ф. 444. Оп. 1. Дело № 67. Л. 5.
[62] РГАСПИ (бывший ЦПА ИМЛ) Ф. 17, оп. 9, ед. хр. 1637. Л. 150. На вопрос анкеты: «С какого возраста работает по найму», написано: «с 16 лет».
[63] Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей: / т. 4. М. : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1960. – С. 79.
[64] Вся Москва на 1914 г. С.1126.
[65] ЦГАСА. Архивная справка № 9822 от 06.05.1988 г.
[66] Юзефович Иосиф Сигизмундович (1890 г.–12.08.1952 г.) – Член ВКП(б), младший научный сотрудник Института истории АН СССР. Арестован по делу Еврейского антифашистского комитета. 12 августа 1952 года Военной Коллегией Верховного Суда СССС приговорён к расстрелу. В 1955 г. реабилитирован.
[67] Крамаров Г.М. – сведений найти не удалось.
[68] Плетнёв В.Ф. – сведений найти не удалось.
[69] РГАСПИ (бывший ЦПА ИМЛ) Ф. 444. Оп. 1. Дело № 67. Л. 5.
[70] Пятаков Георгий (Юрий) Леонидович (1890 г.– 01.02.1937 г.) – Политический и государственный деятель. В 1918 г. – председатель Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. Затем на различных руководящих постах в правительстве СССР. Член ЦК ВКП (б). Арестован 14.09.1936 г. Обвинён в организации антисоветского центра, в руководстве вредительской и диверсионной деятельности, а также в шпионаже и террористической деятельности. Военной Коллегией Верховного Суда СССР 30.01.1937 г. приговорён к расстрелу. Расстрелян 01.02.1937 г. Прах захоронен на Донском кладбище. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 13.06.1988 г. реабилитирован. См.: Расстрельные списки. Вып. 1. Донское кладбище. 1934–1940. М. : 1993. С. 78, 81.
[71] ЦГАСА. Архивная справка № 9822 от 06.05.1988 г.
[72] РГАСПИ (бывший ЦПА ИМЛ) Ф. 17, оп. 9, ед. хр. 1637. Л. 150;
[73] Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей: /т. 4. М.: Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1960. – С. 79.
[74] О «политической ошибке» см. далее, с. 83 – 86.
[75] См. История книги: Учебник для вузов. Под ред. А.А. Говорова и Т.Г. Куприяновой. М.: Изд-во МГУП «Мир книги», 1998. Гл. 4.
[76] Письмо-отклик на статью А. Ваксберга «Процессы», опубликованную в Литературной газете» в марте 1988 г.
[77] Вардин Илларион Виссарионович (1890 г.–27.07.1941 г.) – советский партийный работник, критик и публицист. Один из основателей журнала «На посту» и активный деятель РАПП. Арестован 28.02.1940 г. Обвинялся в участии в контрреволюционной террористической организации. Военной Коллегией Верховного Суда СССР 07.07.1941г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 28.07.1941 г. Реабилитирован 28.03.1959 г. См. Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. М., 1978. С. 175-176.
[78] См. ЦМАМЛС, ф. 23. оп. 2.
[79] Так в оригинале.
[80] См. ЦМАМЛС, ф. 23. оп. 1, дело 161, л. 1.
[81] Почтовая открытка. Адрес: Новый Афон. До востребования. Юрию Михайловичу Бочарову. Штемпели: Сочи. 28.9. /19/31. Ахали Афон 1.10./19/31.
[82] Вера Алексеевна Саврасова – мать Юрия Михайловича. Евгения Алексеевна – её сестра.
[83] Валентина Васильевна Скрипникова – первая жена Ю.М.Бочарова.
[84] Розанов Д. – редактор издательства ОГИЗ «Московский Рабочий», в котором в 1931 г выходил «Учебник. История классовой борьбы XVIII – ХХ вв.».
[85] О Егорове см. стр. 4.
[86] По-видимому, речь идёт о переиздании «История классовой борьбы XVIII – ХХ вв. Учебник.» ОГИЗ «Московский рабочий». М. – Л., 1931 г. Это шестое издание выходило двумя выпусками.
[87] РИИН
[88] Преображенский Пётр Фёдорович (1894 г.–3.12.1941 г.) – профессор, специалист по истории Древней Греции и Рима. Преподавал в Комакадемии, МГУ. Был репрессирован. Реабилитирован посмертно. О нём упоминает А. Авторханов в «Технологии власти». См. Авторханов А. Технология власти. М., СП «Слово» - центр «Новый мир», 1991. С. 241-242.
[89] По-видимому, Рабичев Наум Натанович (1898–1938 гг.). В годы гражданской войны – заместитель начальника политуправления войск Украины и Крыма. Основатель и первый директор Центрального Музея В.И. Ленина. В 1932–1936 гг. член ЦКК ВКП(Б).
[90] Стецкий Алексей Иванович (03.02.1896 г.–01.08.1938 г.). Член ВКП (б). Окончил Институт красной профессуры. Активный сторонник Н.И. Бухарина. После поражения последнего перешёл на сторону Сталина. С 1930 г. заведовал агитпропотделом ЦК ВКП (б). С 1934 г. – член Оргбюро ЦК. Арестован 04.1938 г. Приговорён к расстрелу. Расстрелян 01.08.1938 г. В 1956 году реабилитирован и восстановлен в партии.
[91] Дядя – Зеликин Лев Яковлевич, муж Анны Семёновны Виленской.
[92] Фаня – Фаина Ильинична Кричевская (1899–1991 гг.), мамина тётка, которая, занимаясь разного рода гешефтами, частенько оставляла маленькую Мару – Тамару (1922–1961 гг.) на попечение моей бабушки.
[93] Письма «танинного» периода хранятся в ЦМАМЛС. Ф.23. Оп. 1. Дело 197, Лл.1-12: Дело 210, Лл.1-11.
[94] 6,5 фунтов равняется приблизительно 2 кг. 948 гр.
[95] Почтовая открытка. Москва 34, Гагаринский пер., 23, кв. 35. Бочарову Юрию Михайловичу. Штемпель отправителя: Ростов Н/Д 3.9. 1932. Штемпель получателя: Москва Фрунзенский 5. 9 1932.
[96] Нинка – Нина Николаевна Козюра, очень близкая мамина подруга со студенческих лет. По образованию филолог-литературовед, она всю жизнь проработала в журнале «Вопросы философии» и занималась эстетикой. С мамой её сближали общие научные и жизненные интересы. Обе были шестидесятницами. Это имя ещё не раз встретится в маминых письмах.
[97] В марте 1933 года в РИИНе работала какая-то комиссия, которая, видимо, и решила вопрос о закрытии этого учебного заведения. До студентов, конечно же, доходили слухи о том, что происходит с их профессорами и преподавателями. Собрания превращались в допросы-разносы. Обвинения в уклонах и анти – чего хочешь и тогда, и позже были в большом ходу. Обвиняемым во всех тяжких требовалось «очиститься» и «разоружиться перед партией».
[98] Котя – Константин – сын Ю.М. Бочарова от первого брака.
[99] В.А. – Вера Алексеевна.
[100] См. Сорок Сороков. Собрал Пётр Паламарчук. Т. 1. М.: Книга и бизнес, 1997. С. 267.
[101] См. http://www.rd.rusk. ru/00/rd4/rd4_7.htm .
[102] См. Потапов Александр. Жил ли Гоголь после смерти? Электронная версия «На грани невозможного». № 25.
[103] Юрий Прохоров. Тайны похищенных черепов. Простор. № 8. 2002.
[104] Почтовая открытка. Москва 34, Гагаринский переулок, 23, кв. 35. Бочарову Юрию Михайловичу. Штемпель отправителя: Козлов 6. 8. 1933. Штемпель получателя: Москва 34, Фрунзенский 7.8.1933.
[105] Магнитофонная запись, с последующей перепечаткой и правкой, относится к октябрю-ноябрю 1987 года.
[106] В речи на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г. Сталин назвал уравниловку одной из причин текучести кадров квалифицированных рабочих. См. Сталин И.В. Вопросы ленинизма. Изд. 9 дополненное. М.,Партиздат. 1933. С. 589.
[107] Халатов Арташес (Артемий) Багратович (15.04.1894 г.–27.10.1938 г.) – государственный и партийный деятель. Родился в Баку в семье служащего. С 1912 г. учился в Московском коммерческом институте. После Февральской революции 1917 года – заместитель председателя Московского городского продовольственного комитета. С ноября 1917 года – заместитель чрезвычайного комиссара, затем комиссар Москвы по продовольствию и транспорту. В 1918–1922 гг. – член коллегии Наркомпрода. В 1921–1931 гг. – председатель комиссии по улучшению быта учёных при СНК СССР. В 1922–-1927 – член коллегии НКПС. В 1923–1929 гг. – председатель товарищества «Нарпит» («Народное питание»). В 1927–1932 гг. – член коллегии Наркомпроса, председатель правления Госиздата и ОГИЗа РСФСР. В 1927–1929 гг. – ректор Института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. С 1932 г. – председатель Всесоюзного общества изобретателей. Делегат 14–16 съездов ВКП (б). Член ВЦИК и ЦИК СССР. Репрессирован; реабилитирован посмертно.
[108] Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М. : «Советская Россия», 1991. – 624 с.
[109] Магнитофонная запись, с последующей перепечаткой и правкой, относится к октябрю-ноябрю 1987 года.
[110] Магнитофонная запись, с последующей перепечаткой и правкой, относится к октябрю-ноябрю 1987 года.
[111] Совсод – это, по-видимому, совет содействия.
[112] Дымент Михаил Ефимович (1903 г. – 15.03.1938 г.) – член ВКП(б), заместитель начальника управления высшей школы Наркомпроса РСФСР. Арестован 06.09.1937 г. По обвинению в участии в контрреволюционной и террористической организации Военной Коллегией Верховного Суда СССР 15.03.1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 15.03.1938 г. Реабилитирован 28.06.1957 г. Прах захоронен в совхозе Коммунарка. См. расстрельные списки.
[113] МОСНР – Московская секция научных работников.
[114] Почтовая открытка. Москва 34, Гагаринский переулок, 23, кв. 35. Юрию Михайловичу Бочарову. Штемпели: Москва 21.7.1934.
[115] По адресу Кропоткинский переулок, дом 12 вместе с детьми проживала Валентина Васильевна – первая жена Юрия Михайловича.
[116] Ванаг Николай Николаевич (21.11.1899 г.–08.03.1937 г.) – профессор, научный сотрудник Института истории Академии наук СССР, член ВКП(б). Арестован 21.06.1936 г. Обвинялся в участии в контрреволюционной террористической организации. Военной Коллегией Верховного Суда СССР 07.03.1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 08.03.1937 г. Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 09.03.1957 г. реабилитирован. См.: Расстрельные списки. Вып. 1.Донское кладбище 1934 – 1940. М. : 1993. С. 62.
[117] Пригожин Абрам Григорьевич (17.10.1896 г.–08.03.1937 г.). Директор Московского института философии, литературы и истории. Член ВКП(б). Арестован 05.08.1936 г. по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Военной Коллегией Верховного Суда СССР приговорён к расстрелу. Расстрелян 08.03.1937 г. См.: Расстрельные списки. Вып. 1.Донское кладбище 1934-1940. М. : 1993. С. 63.
[118] Зельцер В.З. – историк, окончил аспирантуру РАНИОН, затем Института истории Комакадемии. Других сведений найти не удалось.
[119] Грацианский Николай Павлович (10.1886 г.–04.11.1945 г.). Историк-медиевист, специалист по истории раннего и классического средневековья (главным образом Франции). Профессор. Преподавал в Казанском и Московском университетах, МГПИ им. Ленина, ИФЛИ. Сотрудник института истории РАНИОН, затем АН СССР.
[120] Почтовая открытка. Одесса, Лермонтовский курорт, Корпус III, палата 21. Юрию Михайловичу Бочарову. Штемпель отправителя: Москва. Фрунзенский 9.9.1934. Штемпель получателя: Одесса. 11.9. 1934.
[121] Фридлянд Григорий Самойлович (27.09.1897 г.–8.03.1937 г.). Историк, член ВКП (б), профессор, декан исторического факультета МГУ, специалист по истории рабочего и революционного движения в Западной Европе. Арестован 31.05.1936 г. Обвинён в участии в контрреволюционной террористической организации. Военной Коллегией Верховного Суда СССР 07.03.1937 г. приговорён к расстрелу. Расстрелян 08.03.1937 г. Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 21.11.1956 г. реабилитирован.
[122] Слуцкий А.Г. – сведений найти не удалось.
[123] Платонов Сергей Фёдорович (16.05.1860 г.–10.01.1933 г.). Историк, академик. Проходил по «Академическому делу». Умер в ссылке, в Самаре.
[124] Пионтковский Сергей Андреевич (08.10.1891 г.–08.03.1937 г.). Историк, член ВКП (б). С 1921 года – профессор Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова и, одновременно, заместитель редактора журнала «Пролетарская революция». С 1922 г. – преподаватель, а затем профессор МГУ, Института красной профессуры, Московского института философии, литературы, истории. Научный сотрудник Института истории АН СССР. Основные труды по истории рабочего класса и революционного движения в России; составитель документальных сборников. Арестован 07. 10. 1936 г. Расстрелян 08. 03. 1937 г. Прах захоронен на территории Московского (Донского) крематория. См. : Расстрельные списки. Вып. 1. Донское кладбище 1934-1940. М. : 1993. С. 86.
[125] Бахрушин Сергей Владимирович (26.09.1882 г.- –08.03.1950 г.). Историк, член-корреспондент АН СССР, профессор МГУ, ИФЛИ. Проходил по «Академическому делу».
[126] Готье Юрий Владимирович (18.06.1873 г.–17.12.1943 г.). Историк, академик. Вёл большую педагогическую работу на Московских высших женских курсах (1902–1918 гг.), в Межевом институте (1907–1917 гг.), университете Шанявского (1913–1918 гг.), институте народов Востока (1928–1930 гг.), МИФЛИ (1934–1941 гг.) и институте истории АН СССР. С 1898 г. по 1930 г. был учёным секретарём, а затем заместителем директора Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Проходил по «Академическому делу».
[127] Любомиров Павел Григорьевич (22.08.1885 г.–07.12.1935 г.). Профессор и зав кафедрой русской истории Саратовского университета. В 1931–1935 гг. – профессор МИФЛИ Историко-архивного института. Проходил по «Академическому делу».
[128] Текст составлен по материалам: Н. И. Павленко. Академическое дело. Наука и жизнь 1999..№11; В. Ананьич, В. М. Панеях. Следствие в Москве по «академическому делу» 1929–1931 годов.
[129] Цит. По: На фронте исторической науки. М., Партиздат 1936. Сс.7-8.
[130] Там же. С.10.
[131] Возможной «целью» было присуждение в 1946 г. Н.М. Дружинину Сталинской премии за 1-й том капитального труда «Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселёва».
[132] Будовниц И.У. был ответственным секретарём журнала «Исторические записки», а ответственным редактором – Б.Д. Греков. В редколлегию входил и Н.М. Дружинин. Возможно, Будовниц был кандидатом для процесса над «Еврейским антифашистским комитетом». Но это только моё предположение.
[133] А это уж моя матушка, Эмилия Самойловна, которая в 1954 году стала референтом Н.М. Дружинина, а потом стала младшим научным сотрудником Института истории АН СССР. В какой связи «разрабатывалась» мама, сказать не могу.
[134] Почтовая открытка. Москва 34. Гагаринский переулок, 23, кв. 35. Ю. М. Бочарову. Штемпель отправителя: Осташков.31. 01. 1935. Штемпель получателя: Москва 34, Фрунзенский 01. 02.1935.
[135] Запись 25 февраля 1987 г.
[136] Лукин Николай Михайлович (08.07.1885 г.–19.07.1940 г.). Историк. Академик, член ВКП(б). Окончил Московский университет, где с 1915 г. начал преподавать. В 1921 г. избран деканом факультета общественных наук в Московском университете, преподавал в Академии Генштаба, в Институте красной профессуры. В 1925 г. – один из основателей «Общества историков-марксистов». В 1932–1936 гг. – директор Института истории Комакадемии, в 1936–1938 гг. – директор Института истории АН СССР. С 1935 г. – ответственный редактор журнала «Историк-марксист». В 1938 г. репрессирован, посмертно реабилитирован.
[137] Анатольев Павел Ильич (12.10.1897 г.–20.06.1937 г.). Член ВКП(б), научный сотрудник Института истории Коммунистической академии. Арестован 02.02.1935 г. Военной Коллегией Верховного Суда по обвинению в антисоветской и террористической деятельности 19.06.1937 г. приговорён к расстрелу. Расстрелян 20.06.1937 г. Реабилитирован 27.08.1957 г.
[138] Партархив Института истории партии МК КПСС. Фр. РК, 1935. Св.83, д. 602, л. 141. Стилистика документа полностью сохранена.
[139] См. Расстрельные списки. Вып. 1.Донское кладбище 1934-1940. М. : 1993. №№ 73-97. Сс. 26 – 32.
[140] По материалам сайта: «http://www.lib.com.ua/politica/27.5html», а также статьи О. Мозохин «Особое совещание в России и СССР (1881–1953 гг.)».
[141] Одна из последних записей сделана 23 июля 1988 г.
[142] Написано 21 марта 1981 г.
[143] См. стр.50-52.
[144] С.А. Пионтковский был арестован 7 октября 1936 г.
[145] Записка без даты. Скорее всего, она написана 2 ноября 1936 года.
[146] Софья Семёновна Быховская (урожд. Виленская) – старшая из сестёр Виленских. Она жила в Харбине вместе с дедушкой, бабушкой и мамой. Здесь и вышла замуж. Муж был в 1937 году репрессирован и сгинул в «сталинской мясорубке». Была она корсетницей и белошвейкой, т.е. шила дамское бельё и обшивала всю семью своими изделиями. У нас до сих пор сохранилась её швейная машинка Зингер, которая и сейчас исправно работает. Я её называл бабой Соней и сейчас ещё смутно припоминаю лежащую на кровати и произносящую нечленораздельные звуки разбитую параличом старуху. Умерла Софья Семёновна в 1949 году.
[147] На этом заканчивается запись 21 марта 1981 г.
[148] У Ильи Романовича Меклера и его жены Фрузы Исааковны был единственный сын – Гриша, родившийся в Харбине 17 октября 1912 года. Он блестяще знал английский язык и, переехав в Москву, заведовал научно-технической библиотекой «Гипрогаз». В 1933 году Советский Союз посетила то ли английская, то ли американская делегация, переводчиком у которой был Гриша Меклер. 19 января 1934 года, задолго до убийства Кирова, он был арестован ОГПУ, обвинён в шпионаже и через три месяца, 19 апреля того же года, расстрелян. Было ему всего 22 года. Родителям сообщили, что их сын оказался шпионом и отбывает положенный срок в тюрьме без права переписки. Они не могли в это поверить и до самой смерти надеялись, что вышла ошибка, и Гриша вскоре вернётся. Они так и не узнали о расстреле сына. Друзья Меклеров (сами они к тому времени уже умерли) в 1956 году начали хлопотать о реабилитации Гриши, и 16 марта 1957 г. он был реабилитирован.
[149] 25 ноября 1936 г. открылся VIII Чрезвычайный съезд Советов, на котором выступал Сталин с докладом о новой Конституции, принятой 5 декабря.
[150]Почтовая открытка. Адрес получателя: Балахта, Красноярского края, ул. Калинина. Виленской Эмилии Самуйловне. Штемпели отправителя: Москва; 25.11. 1937.
[151].Бабушка – Нехаме-Рохл – мать Клары Ильиничны и мамина бабушка. После кончины мужа (его до смерти забили во время одного из погромов в 1919 году деникинцы), она из Коропа, местечка под Черниговым, переехала в Москву, жила вместе со своими дочерьми – Кларой и Фаней, но была на попечении у моей бабушки. Она умерла в Москве, во время войны 1 ноября 1941 года, дожив до 87 лет.
[152] ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 167. Л. 2.
[153] Там же. Л.3.
[154] Там же. Л.4.
[155] Там же. Л.5–6.
[156] ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 160. Лл.3–6. Машинописные заметки от 20 февраля 1967 г.
[157] На тюремно-лагерном жаргоне – выдали, сами отдали.
[158] Есть и другая редакция этого стихотворения, записанного Т.П. Братухиной.
Продали всё. Как есть, всё распродали...
Сидим, нелепо выпучив глаза,
И ждём, когда в сиреневые дали
Нас повезут с решёткой поезда.
Продали всё, и спицы и иголку –
Всю радость творчества тюремных долгих дней.
И масло съели быстро и без толку,
И рассказали всё о юности своей.
Продали в час невинных развлечений
Десятка два карандашей,
И мулине пленительные тени,
Продали даже радугу шерстей.
И поле бранное, разбег коней и пешек,
И королевы белой смелый ход.
О, чёрт, о, дьявол или, может, леший,
Устрой, чтоб было всё наоборот!
[159] Ошибка памяти. Н.И. Ежов не был секретарём Омского обкома ВКП(б). В 1922 г. он был секретарём Марийского обкома РКП(б), а с октября 1922 г. по 1927 г. – секретарь Семипалатинского губкома, зав. отделом обкома, секретарь Казахского крайкома ВКП(б). См. Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь // М.: Вече 2000. С.156-157. Однако, рассказ о человеческих качествах Ежова до его назначения наркомом НКВД СССР подтверждается в публикациях: Б. Брюханов, Н. Шошков. Нарком «Воробушек». Неизвестные страницы из биографии Николая Ежова. Родина. 1996, №4, Сс.61-65. А также (без автора) Зоркий часовой пролетарской диктатуры. Интернет-журнал Монокль № 1, 2003.
[160] Из письма (неотправленного?) Анатолию Рыбакову в 1987 г.
[162] Там же.
[163] См. Гинзбург Е. Крутой маршрут: хроника времён культа личности.// Смоленск: Русич. 1998. С. 205.
[164] По учению Русской Православной Церкви семь смертных грехов перечисляются по-другому: гордыня, сребролюбие, блуд и любодеяние, зависть, чревоугодие, гнев и леность.
[165] Заявление не датировано. Вероятно, оно было написано в марте-апреле 1939 г.
[166] Заявление не датировано. Вероятно, оно было написано в марте 1939 г. Стилистика документа сохранена полностью.
[167] Написано 2 июня 1987 г.
[168] Это последний мемуарный набросок, написанный мамой 23 июля 1988 года, незадолго до её кончины.
[169] См. Жак Росси. Справочник по ГУЛАГу. / М. Просвет. 1991. Ч. 1, С. 73; Ч.2. С. 387-388.
[170] ЦМАМЛС. Фонд 23 Опись 1. Дело 167. Л. 9.
[171] Воспоминания, написаны 14 марта 1988 г.
[172] З.С. Шепелёва.
[173] Сергей Фаддеевич – отец З.С. Шепелёвой.
[174] На этом запись обрывается.
[175] ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 167. Л. 15–16 об.
[176] ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 167. Лл.2–2об.
[177]Там же. Лл. 3–4об.
[178] Адрес получателя: Красноярск, Почтамт. До востребования. Братухиной Тамаре Петровне. Адрес отправителя отсутствует. Штемпель отправления не читается. Штемпель получения: Красноярск. 11.9.39.
[179] Нинка – Нина Николаевна Козюра.
[180] Алексей Зорин – отец родившегося в лагере мальчика.
[181] Александра Григорьевна – мама Т.П. Братухиной. Миля (Милица Алексеевна) – двоюродная сестра Т.П. Братухиной.
[182] Там же. Лл. 5–5об. (Записка, написанная карандашом на осьмушке блокнотного листка. Читается с трудом.).
[183] Там же. Лл. 6–7 об.
[184] Там же. Лл. 8–8 об.
[185] ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 167. Лл.13–14 об.
[186] ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись II. Почтовая открытка. Адрес получателя: Москва, 9-е почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Адрес отправителя отсутствует. Штемпели: Красноярск. 29. 8. .1939. Москва. Кр. Пресня 4. 9. 6 часов 1939.
[187] Это письмо маме подарила Т.П. Братухина в марте 1981 г. и о нём она упоминает в своих набросках на стр. 15.
[188] Статья 58-8 УК РСФСР гласила: «Совершение террористических актов, направленных против представителей Советской власти или деятелей революционных и крестьянских организаций и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации, влекут за собой меры социальной защиты, указанные в ст.58–2 настоящего Кодекса (влекут за собой высшую меру социальной защиты – расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики, и тем самым гражданства СССР, и изгнанием из пределов Союза навсегда, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества».
[189] Сергей Фаддеевич и Мария Никифоровна – родители З.С. Шепелёвой.
[190] Валентин Сергеевич – брат тёти Зины, в надёжности которого она сильно сомневалась, считая его
доносчиком.
[191] Почтовая открытка. Адрес получателя: Москва, 9-е почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Адрес отправителя отсутствует. Штемпель отправителя: Галанино Красноярского края. 2. 10. 1939; Штемпель получателя: Москва 9; 8.10.1939.
[192] Заявления приведены на странице 49-51.
[193] ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 198. Лл. 9–10об.
[194] Почтовая открытка. Адрес получателя: Абанский район Красноярского края. Абанская сель/хоз ИТК. (Зачёркнуто: Ст. Широ Красноярского края, Ширинская сель/хоз ИТК № 4, Хакасская автономная область). Виленской Эмилии Самуйловне. Штемпель отправителя: Москва; 28.2. 1940. Штемпель получателя: (читается дата: 7.3. 1940 г.).
[195] Почтовая открытка. Адрес получателя: Абанский район Красноярского края. Абанская с/х. ИТК (Зачёркнуто: Ст. Широ Красноярского края. Ширинская сель/хоз ИТК № 4, Хакасская область). Виленской Эмилии Самуйловне. Штемпель отправителя не читается. Штемпель получателя: Канск. Красноярского края 28.3.1940 […]вка. Красноярского края 29.3.1940.
[196] Почтовая открытка. Адрес получателя: Станция Абан Красноярского края. Абанская сель/хоз ИТК, 2-й участок. Виленской Эмилии Самуйловне. Штемпель отправителя: Москва 21.3. 1940. Штемпель получателя: Канск. Красноярского края 29.3.1940.
[197] СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ: ВИЛЕНСКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РОДИЛСЯ 21 ФЕВРАЛЯ 1940 года. О чем в книге записей актов гражданского состояния о рождении за 1940 год 28 марта произведена соответствующая запись под № 68. ОТЕЦ Виленский Алексей Николаевич. МАТЬ Виленская Эмилия Самуиловна. Абанская с/х (сельскохозяйственная) колония. Красноярский край, .Абанский райбюро ЗАГС. ЦМАМЛС. Ф.23. Оп. 1. Дело 197, Л.1.
[198] Лида – Лидия Осиповна Ройтберг всю жизнь проработала редактором в различных издательствах. С мамой тётя Лида познакомилась в издательстве «Огонёк» и обучала её премудростям редакторского и издательского дела. В 60-е годы – соавтор мамы по изданию воспоминаний П.Д. Боборыкина, Е.Н. Водовозовой, Н.В. Шелгунова, Л.П. Шелгуновой и М.Л. Михайлова. Она была очень тёплым и отзывчивым человеком. Здесь идёт речь о фотографии Светы, дочери Л. О., которая сохранилась в мамином архиве.
[199] Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1936 г. аборты в Советском Союзе были запрещены.
[200] Фотография Юрия Михайловича Бочарова с сыном от первого брака Константином (погиб во время войны). Фотография не сохранилась.
[201] Почтовая открытка. Москва, 9-е. Востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Абан Красноярского края 19. 4. 1940. Штемпель получателя: Москва 9. 26. 4. [19]40.
Посередине текста стоит жирный «наглый» почтовый штемпель отправителя. Дескать, пусть зеки знают, где находятся, да и их родственникам следует постоянно напоминать, что имеют они дело с «врагами народа». Поверх «наглого» штемпеля писать невозможно, т.к. чернила или карандаш сливаются со штемпелем, а поэтому приходилось обходить его со всех сторон. Видимо, открытки покупались на не воле, а в ларьке колонии – их будет несколько. Даже уже на воле, во время войны, мама использовала оставшиеся от лагеря такие открытки.
[202] Марочка – Тамара Борисовна Немцова, дочь Фани (Фаины Ильиничны). Они жили с бабушкой вместе в одной квартире. Мама очень любила свою племянницу и многому её научила.
[203] Почтовая открытка. Москва. 9. Востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Абан Красноярского края. 29. 4. 1940.Штемпель получателя: Москва 9. 5. 1940.
[204] ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 198. Лл. 11–11 об.
[205] На Дмитровке 15 находилась Прокуратура СССР, и до сих пор находится Прокуратура РФ.
[206] Дядя – имеется ввиду муж Анны Семёновны Виленской, Лев Яковлевич Зеликин.
[207] Судя по всему – это г. Александров, находящийся в 112 км. от Москвы.
[208] Таля – Татьяна Романовна Гольденберг (урождённая Меклер). О ней см. на стр. 25.
[209] Почтовая открытка. Москва, 9-е почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя (Наглый штемпель): Абан Красноярского края 22. 8. 1940. Штемпель получателя: Москва 9. 30. 8. 1940.
[210] Почтовая открытка: Москва. 9. Востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя (Два наглых штемпеля): Абан Красноярского края 16. 9. 1940. Штемпель получателя: Москва 9. 22. 9. 1940.
[211] Подчёркнуто мной. Н.В.
[212] Почтовая открытка. Абан Красноярского края. Абанская сель/хоз ИТК, 2-й участок. Виленской Эмилии Самуйловне. Штемпель отправителя: Москва 19.9.1940. Штемпель получателя отсутствует.
[213] Срок пребывания в колонии оканчивался 23 октября 1941 года.
[214] Почтовая открытка. Москва. 9. Востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Абан Красноярского края. 2. 10. 1940. Штемпель получателя: Москва 9. 8. 10.1940.
[215] Почтовая открытка. Абан Красноярского края. Абанская сель/хоз ИТК, 2-й участок. Виленской Эмилии Самуйловне. Штемпели не читаются.
[216] Почтовый конверт: Москва. 9-е почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне.Штемпели: Абан Красноярского края. 18. 5. 1941. Москва. Красная Пресня 24.5.1941. 8 часов.
[217] Енисейлаг был образован 16 ноября 1940 г. Закрыт 31 августа 1941 г. Находился в подчинении УНКВД по Красноярскому краю. Начальник – ст. лейтенант Филимонов Р.П. В маминых и тёти Зининых рассказах эта фамилия встречалась, но в какой связи, я уже не помню.
[218] Разумеется, своего обещания энкаведешник не выполнил. Может, это и к лучшему, имея в виду вскоре начавшуюся войну.
[219] Почтовая открытка. Москва. 9. Востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Абан Красноярского края. 26. 5. 1941. Штемпель получателя: Москва. 9. 3.6.1941.
[220] Почтовая открытка. Москва. 9. Востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Абан Красноярсого края 4. 6. 1941. Штемпель получателя: Москва. 9. 10.6.1941.
[221] То есть летом 1939 года.
[222] Нина – Нина Николаевна Козюра.
[223] Мишугеного дядю – еврейское выражение, означающее широкий диапазон понятий от: «с сумасшедшинкой, сумасбродный, безрассудный, шалый, без царя в голове», до более мягкого: «с чудинкой», «чудаковатый».
[224] Почтовая открытка. Москва. 9. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне Штемпель отправителя: Абан Красноярского края. 22. 6. 1941. Штемпель получателя: Москва. 9. 1.7.1941.
[225] ГУРКМ – сокращённое название Государственного управления рабоче-крестьянской милиции.
[226] Так в тексте.
[227] http://www.pseudology.org/GULAG/Glava09.htm.
[228] Почтовая открытка. Адрес получателя: Москва. 9 почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Адрес отправителя: Бодайбо, Мамакан, Иркутской области. Ермолаевой Александре Семёновне (?) – отчество трудно разобрать. Штемпель отправителя: Иркутск 4.8.1941. Штемпель получателя: Москва, Красная Пресня. 17.8. 8 час.1941. (Разбивка на фразы и знаки препинания составителя).
Почтовый конверт: Авиапочта. Заказное письмо из Мамакан. Адрес получателя: Москва, 9-е почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Адрес отправителя: Бодайбо, Мамакан, Иркутской области. Ермолаевой А. С. Штемпель отправителя стёрт. Штемпель получателя: 9. 30. 10. 1941. (Разбивка на фразы и знаки препинания составителя).
[230] ЦМАМЛС. Фонд 23..Опись 1. Дело 167. Л. 17.
[231] Адрес отправителя: Абана 355 10 19 0711.Адрес получателя: Москва, Большая Коммунистическая, 34, кв.4. Виленской.
[232] Адрес отправителя: Абана 282 14 29 0410 – Исправ. Повт. Адрес получателя: Москва, Большая Коммунистическая, 34, кв.4. Виленской.
[233] Адрес получателя: Канск, Красноярского края. Востребования. Виленской Эмилии Самуйловне. Перед нами две склеенные между собой почтовые открытки. На отдельном, приклеенном листке почтовым работником сделана надпись: «Город Красноярск, ул. Стахановцев, № 27. Ивановой А.И. для Виленской, согласно заявлению». На этом листке стоит штемпель: «Канск. Красноярского края. 25.12.1941. Штемпель отправления: Москва. 5.11. 1941. Штемпель получения: Канск, Красноярского края 8.12. 1941. Просмотрено военной цензурой 95[?]. Красноярск 26.12.1941.
[234] Зинаида Яковлевна – золовка Анны Семёновны, сестра Л.Я. Зеликина.
[235] Гриша – Григорий Львович Лифшиц, племянник Клары Ильиничны, сын Сахномеры.
[236] Адрес отправителя: Красноярск 10001 21 28 1637. Адрес получателя: Чистополь, Казань, Телеграф. Востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Телеграмма наклеена не на телеграфном бланке, не на бумаге, а на обрывке старой газеты.
[237] Адрес отправителя: Красноярск 7/5203 10 11 0703. Адрес получателя: Чистополь. Востребования. Виленской Кларе. Начало телеграммы утрачено.
[238] Почтовая открытка. Адрес получателя: Канск, Красноярского края. Телеграф. Востребования. Виленской Эмилии Самойловне. Адрес отправителя: Чистополь, ТАССР, Главпочта. Востребования. Виленской К.И. Штемпель отправления: Казань 10. ТАССР 1.12. 1941. Штемпель получения: Канск, Красноярского края 13.12. 1941. Красноярск 26.12.1941.
[239] Мария Яковлевна Златникова.
[240] Фрума – сестра Клары Ильиничны. Эбба Львовна – её дочь. До войны они жили где-то на Украине, а после неё – в Черновцах. Фаня, Сахна – сёстры бабушки.
[241] Елена Соломоновна Атлас – близкая старинная приятельница Анны Семёновны Виленской-Зеликиной. По специальности – акушер-гинеколог, Елена Соломоновна работала в больнице Грауэрмана на Арбате. Она жила недалеко от Анны Семёновны, в первой московской высотке, в доме 10 по Большому Гнездниковскому переулку. Это была совершенно очаровательная старушка в пенсне, седые волосы которой напоминали парик, и похожа она была на маркизу XVIII века. В строгом синем или сером костюме, шёлковой блузке, под воротничком которой была приколота камея, в замшевых туфлях на высоком каблуке (сама она была небольшого роста), постоянно мнущая папиросу, которую, однако, не закуривала, поскольку ещё до войны бросила курить. И мама, и я, бывая у неё в гостях, восхищались умением этой пожилой женщины так следить за собой, интересоваться всеми новостями литературы и политики. Умерла она незадолго до смерти Анны Семёновны в 1962 г.
[242] Эти записки мама писала в 1954–1956 гг. в ответ на статью очень известного следователя НКВД Льва Шейнина «О правовом воспитании».
[243] Это ошибка отдела кадров. Следует читать 1941 г. Видимо, запись была сделана задним числом в 1944 г.
[244] По данным Красноярского общества «Мемориал»: Иванова Александра Игнатьевна родилась в 1884 г. в Елабуге. Русская. Проживала в Красноярске. Из рабочих, образование церковно-приходская школа, член ВКП(б) с 1920 г. Начальник приема и увольнения 2-й дистанции связи КЖД. Арестована 03.11.1937 г. Обвинение по ст. 58–10 ч. 1, 58–11 УК РСФСР. Осуждена 01.12.1937 г. ВТ КЖД на 5 лет ИТЛ и 3 года лишения политических прав. Дело прекращено 29.01.1938 г. ВК ВС СССР по реабилитирующим обстоятельствам, освобождена 04.02.1938 г. из-под стражи. (П-546). http://www.memorial.krsk.ru/martirol/ivanovP_ivia.htm
[245] Почтовая открытка с уведомлением о вручении. Адрес получателя: Красноярск, Правый берег Енисея ( Злобинская – зачёркнуто), 4 участок, 46 барак, комната 22. Виленской Эмилии Самуйловне. Адрес отправителя: Казань, Дальнее устье, дом 13. Общежитие № 3. Виленской К.И. Штемпель отправления: Казань 10 ТАССР (дата не читается). Штемпель получения: Красноярск. 22.02.[19]42. Красноярск. 23.02.1942. Красноярск. 24.02.1942.
[246] Гриша – племянник Клары Ильиничны Григорий Львович Лифшиц. Давид – его старший брат.
[247] Костя – Константин Григорьевич Цыпко, муж Эббы. Человек необыкновенной судьбы. Сын сапожника-пьяницы из Коропа, он мальчишкой прошел гражданскую войну. Получив на рабфаке приличное гуманитарное образование, был направлен на партийную работу в Днепропетровск, где вскоре был избран (назначен) членом бюро Днепропетровского обкома ВКП(б). Когда началась «великая чистка», и почти весь обком был посажен, ему предложили возглавить агитпропотдел. Условие было одно: он должен был развестись с еврейкой-женой. Дядя Костя на это не пошел, и тогда первый секретарь предложил ему подыскать себе подходящего начальника. Выбор дяди Кости пал на Л.И. Брежнева, который в то время был заместителем председателя Днепродзержинского горисполкома. По словам дяди Кости, выбор определялся тем, что Лёня, в силу своего образования, ничего не понимал в партийной работе, но, по крайней мере, и не мешал работать другим. Так Л.И. Брежнев с «лёгкой» руки дяди Кости попал в партийную номенклатуру. Дружеские отношения между ними сохранялись и дальше, в Молдавии, когда Брежнев был там первым секретарём. С началом войны дядя Костя находился в действующей армии. Под Киевом в ноябре 1941 года он попал в окружение, но выбрался из него и попал в партизанский отряд Сабурова. Занимал здесь очень высокую должность – политрука отряда. После войны закончил Академию общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию и был редактором партийной газеты в Черновцах и там же, кажется, преподавал в Черновицком университете. Его двоюродный брат, так же уроженец Коропа, маршал авиации СССР С.И. Руденко очень высоко ценил ум, порядочность дяди Кости и всячески помогал ему и его семье в трудные минуты. Умер К.Г. Цыпко в Москве, в страшных мучениях от рака в 1965 (?) г.
[248] Бабушка перечисляет всех родственников по своей линии.
[249] Нина и Лида – Нина Николаевна Козюра и Лидия Осиповна Ройтберг. Обе они не отказались от знакомства с «врагом народа» и писали маме в лагерь. Часть этих писем сохранилась в домашнем архиве.
[250] Дядя Лёва страдал сахарным диабетом.
[251] По блату – выражение, означающее «по знакомству, по личным связям, которые использовались в личных интересах, не очень законным способом». Выражение, вошедшее в общее употребление при советской власти, в период дефицита продуктов, одежды, предметов обихода, всего того, что нельзя было просто так, имея деньги, купить в магазине. Выражение в конце XX–начале XXI вв. стало постепенно выходить из употребления.
[252] Видимо, это Клавдия Фёдоровна Рузанова, с которой мама находилась в Красноярской тюрьме. Её письмо к бабушке приведено на 40 стр. На этом письмо обрывается, не хватает одного листа.
[253] Почтовая открытка. Адрес получателя: Казань, 19 почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Красноярск. 5. 3. 1942
[254] Почтовая открытка. Адрес получателя: Казань, 19 почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Красноярск. 13. 3. 1942. Штемпель получателя: Казань 28. 3.1942.
[255] Конверт. Заказное. Адрес получателя: г. Красноярск, Правый берег Енисея, 4 участок, 46 барак, комната 22. Виленской Эмилии Самуйловне. Адрес отправителя: Казань, Дальнее устье, дом 16, кв. 28. Вайсман, для меня. Штемпель отправителя: Казань 24.3.1942. Штемпель получателя: Красноярск. 1.4.1942.
[256] Тётя Паша – Полина Яковлевна, сестра Льва Яковлевича, двоюродная сестра Анны Семёновны. Белла и Роза – её дочери, Костя – Константин Осипович Ревельский – муж Беллы. Эллочка – дочь Розы.
[257] Бабушка запамятовала. Следует читать: Александра Игнатьевна. Александра Антоновна в письмах больше нигде не встречается.
[258] Почтовая открытка. Открытка повреждена: оторван правый верхний угол. Адрес получателя: Красноярск, Правый берег Енисея, 4 участок, 46 барак, 22 комната. Виленской Эмилии Самуйловне. Адрес отправителя: Казань, Дальнее устье, дом 16, кв. 28. Т. Вайсман, для меня. Штемпель отправителя: Казань 10 ТАССР. Дата не читается: Уголок с маркой оторван. Штемпель получателя: Красноярск. 20.04. 1942.
[259]ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 198. Л. 14.
[260] Маруся – хозяйка, у которой мама снимала угол.
[261] Почтовая открытка. Адрес получателя: Казань, 19 почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Чулым, Новосибирской области. 10.4.1942. Штемпель получателя: Татарсккая ССР, Казань (?). 4.1942.
[262] Почтовая открытка. Адрес получателя: Казань, 19 почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Новосибирская область. 14.4.1942. Штемпель получателя: Татарсккая АССР, Казань (?). 4. 1942. Штемпели читаются очень плохо: Текст открытки написан карандашом и полустёрт. Читается с очень большим трудом.
[263] ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 198. Л. 13.
[264] Почтовая открытка. Заказное. Адрес получателя: Красноярск, Правый берег Енисея, 4 участок, 46 барак, комната 22. Виленской Эмилии Самуйловне. Адрес отправителя: Казань, 19. Востребования. Штемпель отправителя: Казань 10 ТАССР (Дата не читается). Штемпель получателя: Красноярск. 5.05. 1942.
[265] Семья Симхи Виленского, отца Анны Семёновны и моего дедушки, жила в местечке Бровары, недалеко от Киева. Сейчас это город с тем же названием.
[266] Почтовая открытка. Адрес получателя: Казань, 19 почтовое отделение (адрес перечёркнут, вписано – Чистополь). До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Красноярск. 1.5.1942. Штемпель получателя: Татарская АССР. Казань.18.5.1942. Чистополь. 26.5. 1942.
[267] Самодельный почтовый конверт. Адрес получателя: Казань, 19 почтовое отделение. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Красноярск. 23.5.1942. Штемпель получателя не читается.
[268] Адрес получателя: Чистополь, Бебеля, 103/6. Виленской. Адрес отправителя: Красноярск, 3/195 11 31 0630 ВЦ (Военная цензура).
[269] Подчёркнуто бабушкой, чтобы не искать место, где записан мамин адрес.
[270] Алексеевичем я стал потому, что умерший Юрик тоже был Алексеевичем. А Юрьев, Юрьевич, конечно же, ассоциировались с Ю.М. Бочаровым.
[271] Вновь бабушка подчеркнула карандашом, чтобы не искать то место, где записан мамин адрес.
[272] Эти «гроши» в сумме составляли 145 рублей.
[273] Исправлено на: Самойловне. В 1943 году в Чистополе бабушка собственноручно сделала копию справки и по привычке написала Самуйловна, тогда как в оригинале было написано Самойловна.
[274] КК – Красноярского края.
[275] Как читается эта аббревиатура, ума не приложу. Н.В.
[276] Почтовый конверт. Заказное. Адрес получателя: Чистополь, Татарская АССР, ул. Бебеля, № 103. Общежитие, комната 6. Виленской Кларе Ильиничне. Адрес отправителя: Красноярск, Правый берег, п/я № 288/8. Зыковская КМР. Виленская Э.С. Штемпель отправителя: Красноярск. 25.7.1942. Штемпель получателя: 4.8.1942.
[277] Самодельный конверт. Адрес получателя: г. Чистополь, Татарская АССР. Почта. До востребования. Штемпель отправителя: Красноярск. 6.8.1942. Штемпель получателя: 14.8.1942.
[278] Самодельный почтовый конверт. Адрес получателя: г. Чистополь, Татарская АССР. Почта. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Красноярск. 2.9.1942. Штемпель получателя: Чистополь. 14.9. 1942.
[279] Возможно, речь идёт о С.В. Бахрушине, который был научным руководителем маминой дипломной работы.
[280] Самодельный почтовый конверт. Адрес получателя: г. Чистополь, Татарская АССР. Почта. До востребования. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Красноярск. 2.9.1942. Штемпель получателя: Чистополь. 14.9. 1942. Просмотрено военной цензурой. Красноярск, 37.
[281] Адрес отправителя: Чистополь, № 7525. 8 октября, 16–25. Подпись. Адрес получателя: Красноярск, Правый берег, Зыковская колония. Виленской.
[282] Адрес получателя: Чистополь, Бебеля, 103/16. Виленской. Адрес отправителя: Красноярск, 31/1 1583 16 20 1300. ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 198. Л. 16.
[283] Там же. Лл. 15-15 об.
[284] Почтовая открытка. Адрес получателя: Чистополь, Татарской АССР, улица Бебеля, № 106, кв. 3. Виленской Кларе Ильиничне. Штемпель отправителя: Красноярск. 24.11. 1942. Просмотрено военной цензурой. Красноярск, 75.
[285] Это первое упоминание обо мне.
[286] Почтовая открытка. Адрес получателя: Чистополь, Татарской АССР, улица Бебеля, № 106, комната 3. Виленской Кларе Ильиничне. Адрес отправителя: Красноярск, Правый берег. П/я № 288/8. Зыковская КМР. Виленская Э.С. Штемпели не читаются. Просмотрено военной цензурой. Красноярск, 17.
[287] Адрес отправителя: Красноярск 3/647 14 28 10506. Адрес получателя: Чистополь, Бебеля, 103/6. Виленской.
[288] Почтовый конверт. Адрес получателя: Чистополь, Татарской АССР, улица Бебеля, № 106, комната 3. Виленской Кларе Ильиничне. Адрес отправителя: Красноярск, Правый берег. П/я № 288/8. От Виленской Э.С. Штемпели не читаются.
[289] Это мамино качество – выполнять обещанное, я в полной мере ощущал на себе, особенно в подростковом возрасте.
[290] Анна Лазаревна – мать Берты Аркадьевны Зурабовой.
[291] Нина Николаевна Козюра действительно находилась в Ростове во время немецкой оккупации. Она многим рисковала. Яркая, красивая, она укутывала лицо в плохонькие платки, ходила в рванье, чтобы не привлекать к себе внимания оккупантов. Но хуже всего было то, что вместе с ней находилась её дочь – Бебка, с ярко выраженной еврейской наружностью. Её отцом был Израиль Ефимович Верцман – философ, специалист по французскому просвещению. С его сыном от второго брака Мишкой я учился в одном классе.
[292] Подпись неразборчива. Письмо датировано 27 октября 1944 г.
[293] Почтовая открытка. (Судя по двум наглым штемпелям, еще из Абанской колонии). Адрес получателя: (Москва, 9 – зачёркнуто). Чистополь, Татарской АССР, улица Бебеля, № 103, кВ. 6. (Востребования – зачёркнуто). Виленской Кларе Ильиничне. Адрес отправителя: Красноярск, Правый берег, п/я № 288/8. Виленская Э.С. Штемпели не читаются. Просмотрено военной цензурой. Красноярск, 77.
[294] Письмо, сложенное в треугольник. Адрес получателя: Чистополь, Татарской АССР, улица Бебеля, № 103, кв. 6. Виленской Кларе Ильиничне. Адрес отправителя: Красноярск, Правый берег. п/я № 288/8. Виленская Э.С. Просмотрено военной цензурой. Красноярск, 160. Штемпель отправителя: Красноярск. 14.3.43. Штемпель получателя: Чистополь. ТАССР 23.4.43.
[295] Телеграмма получена не на бланке, а написана от руки. Адрес получателя: Красноярск, Правый берег Енисея, почтовый ящик 288/8. Зыковская КМР. Виленской.
[296] Адрес получателя: Чистополь, Бебеля, 103/6. Виленской. Адрес отправителя: Красноярск. 7/1603
13 13 0720 ВЦ. (Военная цензура).
[297] В 1968 году Всесоюзное общество «Знание» направило маму в Красноярск для чтения лекций. Общество оплачивало дорогу, гостиницу и лекции. Мама решила взять и меня в это путешествие на мою «историческую родину». Перед поездкой мы решили сходить в байдарочный поход по Угре вместе с Хоросами – новыми друзьями, которые появились в начале этого года.
Но, возвращаясь из похода, мама сломала ногу. Мы сидели в кузове грузовика, и на одном из ухабов я услышал хруст и вскрик мамы. Мама еле доковыляла до станции, мы сели в поезд и вечером были в Москве. Нога распухла, мама думала, что это растяжение, но я-то отчетливо слышал характерный звук. Наутро в больнице выяснилось, что это перелом. Маме наложили гипс, и от поездки в Красноярск пришлось отказаться. Судьба распорядилась так, чтобы не возвращаться на старое пепелище.
[298] Из письма мамы Александре Игнатьевне Ивановой от 21 января 1945 г. Письмо, судя по всему, было отправлено, но по каким-то причинам вернулось назад.
[299] ЦМАМЛС. Фонд 23. Опись 1. Дело 198. Л. 17.
