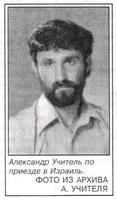Это было немножко смешно…
Это было немножко смешно…
Учитель А. Е. «…Это было немножко смешно…». Из истории инакомыслия : Вокруг Рязанско-Саратовско-Петрозаводского дела / интервью с Ю. Середой [и др.] // Карта. – 1997. – № 19–20. – С. 22–31 : портр., ил.; http://hro.org/node/10837
"Это было немножко смешно..."
Интервью с Александром УЧИТЕЛЕМ
С Александром УЧИТЕЛЕМ беседуют Юлия СЕРЕДА,
Андрей БЛИНУШОВ, Сергей РОМАНОВ
— Александр Ефимович, в "Карте" № 7-8 (стр. 50) среди прочих материалов по "делу Будки" было опубликовано интервью с Вашим школьным другом Николаем Царевым-"Рязань- Саратов - Петрозаводск"...
— Да, я читал его.
— До нас дошла информация, что в нем не все точно, будто бы искажены некоторые факты Вашего детства и юности?
— Да нет, насчет детства как раз все правильно. Мы с Царевым учились вместе десять лет в школе № Ъ — друзья с первого класса... А вот об отце и матери...
— Так давайте исправим!
— Ну, начнем с того, что мама моя в 34-ом уехала из Ленинграда в Комсомольск-на-Амуре по вербовке. И потом весь конец 30-х и всю войну работала на Дальнем Востоке и в Сибири. В том числе и в Тайшете, в системе лагерей. Вольнонаемным экономистом. Она все видела, что там происходит, но сама репрессирована не была. Кстати, мама моя фигурирует в романе Ажаева "Далеко от Москвы". Она послужила автору прообразом одной из главных героинь — Жени Козловой — это ее девичья фамилия. Так что короткое время, когда Ажаеву где-то в 53-ем дали Сталинскую премию, мама была знаменитостью. Ее буквально затаскали по библиотечным конференциям и встречам с читателями...
С отцом они познакомились во время войны на строительстве нефтепровода... — кажется, Астрахань — Саратов. Потом они ездили по разным стройкам, а в Рязани осели где-то в 53-54-ом.
— А вот эта история с приемником "Балтика" и с "голосами"?
— Да. Была у мамы такая привычка — вставать в 6 утра и слушать Би-би-си по этому приемнику. Поэтому я все детство просыпался под звуки Биг-Бена и помню это очень хорошо.
— А она рассказывала Вам о том, что видела в лагерях, о том, что было на самом деле?
— Да, конечно. У нее было много знакомых из репрессированных. Они постоянно общались. У мамы был абсолютно трезвый взгляд на историю. Она вообще женщина очень интересная, неординарная... И, конечно же, все это влияло на меня самым прямым и решающим образом.
— И как же это у Вас уживалось: знание правды и... жизнь вокруг?
— Черт его знает — как! Трудно сейчас осмыслить это — как уживалось? Было какое-то двоемыслие, одно — дома, другое — в школе... Я думаю, тогда это было достаточно распространенное явление.
— Мама, наверное, не знала о Вашей подпольной деятельности?
— Подпольной? Нет. Конечно, нет. Да и вся моя деятельность продолжалась меньше года. Там, в Петрозаводске, я не успел развернуться. А с членами рязанской организации, собственно, я познакомился уже в лагере...
— Ну, а с Олегом Сениным Вы познакомились здесь, в Рязани?
— Да, здесь все было так, как описано у Царева: вечеринка "Олимпа" ("Олимп" молодежный клуб любителей искусств при обл. библиотеке им. Горького — прим, ред.), стихотворение Евтушенко, спор, знакомство с Сениным... Сенин меня заинтересовал. Я за ним почувствовал нечто... Что он не сам по себе, а что-то за ним стоит. Мы стали встречаться, и он мне дал "Закат капитала". Собственно, из всей организации Вудки одного Олега я и знал. Ни с кем другим у меня контактов не было.
Что же касается истинной причины, почему Сенин так упорно добивался, чтобы я создал в Петрозаводске отдельную самостоятельную организацию, то, по-моему, она весьма интересна и еще никем не описана...
— ? ? ?
— На мой взгляд, эта история очень забавная... Если начать с самого начала, то я познакомился с Сениным во время февральских каникул 1968 года на уже известной вам вечеринке.
Я в то время был студентом первого курса Петрозаводского университета, изучал финно-угорские языки. Олег дал мне "Закат капитала" Юрия Вудки. Он произвел на меня очень сильное впечатление. Даже сейчас я считаю, что это очень интересная книга, достойная публикации. Особенно ее аналитическо-критическая часть. Анархо-синдикалистские утопии второй части, это, конечно, другое дело, но первая часть была на высоте. После обмена мнениями Олег сказал, что даст мне "Закат..." с собой, но при условии, что я в Петрозаводске начну его распространять и создам там организацию. При этом он буквально давил на меня. Я как-то помялся, но... согласился. По возвращении с каникул я дал почитать этот программный документ рязанской группы некоторым людям. Собственно, до организации, как структуры, у меня дело так и не дошло. Просто я давал читать ''Капитал..." своим знакомым.
Когда я приехал на летние каникулы, Сенин мне позвонил — это было где-то в начале августа — и назначил мне встречу, с тем чтобы я передал ему ленту для пишущей машинки. Помню, что у меня еще возникло некоторое недоумение, зачем конспиративно встречаться в каком-то скверике, чтобы передать эту самую ленту? Ну, мы встретились, я передал ленту, а через некоторое время Сенина арестовали. Это произошло 8 августа. И, кажется, всех тут в Рязани тоже арестовали. А меня вызвали в КГБ для дачи показаний о встрече с Сениным. Кажется, 9-го. Я признался, более или менее, в контактах с Сениным, сказал, что передал ему ленту для пишущей машинки, и меня отпустили. О том, что он давал мне "Закат капитала", и что он есть у меня в Петрозаводске, и что его читали мои знакомые, я, разумеется, умолчал. Арестован я был уже в сентябре, когда следствие в Рязани, по-видимому, получило достаточно материала против меня.
Детали я узнал уже в лагере. Главным образом, от Боброва и Фролова, с которыми я подружился. Мы там сдружились — Куликов, Шролов, Бобров (члены саратовской подпольной группы — ред.) и я. Бобров был у меня основным источником о саратовской ветви организации, а Фролов — о рязанской.
Итак, картина, в целом, получается такая. В Рязани Вудка пришел к идее о государственном капитализме в СССР. Обсуждал это с братом и друзьями, потом изложил письменно в виде "Заката капитала". Он был знаком с Сениным, который учился в Саратовском юридическом институте. Сенин отвез "Закат..." в Саратов и начал его распространять среди студентов-юристов. Но, на мой взгляд, в Рязани, собственно, никакой организации — устав, самоназвание и т.д. — не было. Был Вудка, его друзья и "Закат...".
В Саратове же все происходило иначе. Как только товарищи Сенина познакомились с книгой, они немедленно создали хорошо структурированную организацию, которую назвали "Группа революционного коммунизма". В нее входили: Романов, Кириков, Куликов, Бобров и Сенин. Построена организация была классически, как написано в литературе о РСДРП. Пять названных человек составляли группу первого звена. Каждый из них имел свою собственную группу из пяти человек, о которой знал только создавший ее, а остальные четверо ничего не знали. Это были группы второго звена. Дальше структура должна была повторяться, но до этого дело не дошло, кажется. Кстати, из состава групп второго звена арестован был один Фокеев и то потому только, что сам "напросился". Никто больше арестован не был.
Через некоторое время у "революционных коммунистов" начались разногласия, а точнее, между всеми и Сениным. Они обвинили Сенина в диктаторских наклонностях, бонапартизме и прочих грехах и решили создать новую организацию. Втайне от него. Ему они заявили, что выходят из организации, своих звеньев ему не сдают, и кассу организации — Кириков был казначеем — тоже сдать отказались.
— Бунт на подпольном корабле?
— Да... И вот таким образом Сенин повис в воздухе. Но у него, в конечном итоге, все-таки остался один сторонник — Бобров. И вот Бобров — недаром он учился на следователя — не поверив, что Романов, Кириков и Куликов распустили свои звенья, организовал за ними слежку. И, естественно, выследил, что они продолжают заниматься революционной деятельностью. Сенин, с уликами, пришел к Романову и потребовал объяснений. Произошел раскол (как и положено у революционеров). Романов признался, что организация продолжает действовать, и потребовал устроить ему встречу с Л. Бориным (псевдоним Юрия Будки — ред.) — таинственным автором "Заката капитала". Сенин организовал. Вудка поехал в Саратов - насколько я помню, это было в апреле 1967 года, — где и состоялась историческая встреча двух вождей. Романов, который стал идеологом новой организации, и Вудка поговорили. Видимо, они не очень-то договорились. Я знаю только, что Романов обвинил Вудку в анархизме. Кстати, это совершенно справедливо, ибо "3. К." в своей программно-конструктивной части написан — свидетельствую — с анархо-синдикалистских позиций.
После этого Сенин, опять же по классике, понял, что он, как единственный человек, который имеет связь как с саратовской, так и с рязанской организацией, должен срочно созвать съезд для выяснения разногласий и, может быть, создания неких структур высшего порядка с соответствующими должностями... Но для съезда двух организаций мало. Как минимум их должно быть три. И для этого ему и понадобился я со своей несуществующей петрозаводской группой.
Но тут все смешалось. В первую очередь из-за братьев Вудок, которые к этому времени как-то потеряли интерес к подпольной деятельности и обратили свои мысли на эмиграцию. Шел 68-й год, выпускали только из Черновцов. У старшего Вудки невеста была из Черновцов, они собирались пожениться и ехать туда...
Почему только из Черновцов?
— А вот этого я не знаю. Политика советской власти часто бывает загадочной... Очень трудно сказать, по какому принципу оттуда людей выпускали, а отсюда — нет.
— В "Московщине" ("Московщина книга воспоминаний Юрия Вудки, изданная в Израиле — прим, ред.) Юрий пишет, что желание уехать на историческую родину пробудилось у него с самого начала.
— Я думаю, что это он задним числом более поздние свои желания переносит в более ранний период. В воспоминаниях, кстати, это довольно часто случается.
— А что было в Петрозаводске?
— В Петрозаводске, к счастью, никого, кроме меня, не посадили. Нескольких человек, кто брал у меня и читал "Закат капитала", исключили из университета и все.
— А Вы собирались создавать организацию?
— Вы знаете, меня с самого начала крайне удивляло это требование Сенина — создавать организацию. Я никогда не интересовался историей подполья, историей РСДРП и не имел ни малейшего представления, как создавать некую структуру. Честно говоря, мне просто понравился анализ действительности в "Закате капитала" и я просто давал его людям читать...
Кстати, с "Закатом..." было несколько забавных эпизодов. Сенин обещал мне прислать еще один экземпляр, отпечатанный на фотобумаге, плюс фотопленку. Почему фотопленку? Потому что один из моих знакомых, который уже прочитал, должен был ехать на учебу в Чехословакию и хотел взять текст с собой. И вот однажды стучится ко мне в дверь какая-то девушка (это была сестра Олега), спрашивает, знаю ли я Сенина, и когда я говорю -- да, она требует, чтобы я его описал. Начинаю описывать, как могу, она, наконец, удостоверяется, что я не подставной агент, а подлинный Учитель, и протягивает мне набитый пакет из-под фотобумаги и... кусок мыла. В нем была пленка. После этого я проводил ее на вокзал.
А парень, который должен был ехать и которому я отдал привезенный экземпляр, летом был на практике в Архангельской области и стал давать читать "Закат..." всем, кому было не лень. Наверное, эта архангельская глубинка была местом самого массового распространения идей "Заката...". Самое удивительное, что потом все было тихо и ничего оттуда не потянулось.
— Ну, а "мыло"-то — уехало?
— Мыло — нет, не уехало. Я его вскрыл и пленку достал. Когда меня в Рязани вызвали в КГБ, обыска в Петрозаводске в моей комнате не сделали. И когда я приехал — сразу же спустил ее в туалет. У меня вообще ничего на руках в момент ареста не было. "Закат..." я отдал, оба экземпляра. Пленку уничтожил. Если бы я был поумней, меня и арестовать-то было бы трудно...
— А как Вас арестовали?
— Да очень просто. Вернулся я в сентябре с каникул, ну и прямо в университете, в коридоре, подошли двое, говорят — пройдемте, и... в тюрьму.
— Извините за банальный вопрос, Александр Ефимович, но какое у Вас возникло чувство после того, как Вы услышали это "пройдемте"?
— Точнее всего его можно передать словом игра.
— Но у Вас возникла хоть капля задора? Вот я сейчас всех их переиграю, вот я буду Павлом Власовым...
— Нет, нет... То, о чем вы говорите, этого, разумеется, ничего не было, но ощущение игры все время присутствовало... Тюрьма... — будто в кино, будто ты — герой некоего кинофильма... Но при этом у меня не было ни малейшего желания бороться с ними. Дискутировать, хитрить, пытаться переиграть... Еще было чувство конца, отсутствия шансов, уж. казалось бы, куда как серьезнее и реальнее, но все равно, при всем при этом - ощущение игры... Действительность, как реальность, не воспринималась...
— Но оно пришло, в конце концов, это чувство?
— Реальности? Да. После суда, в тюрьме. До суда меня держали в одной камере, маленькой, часто только вдвоем. А после суда вводят совсем в другую камеру — такой громадный зал, человек на тридцать, где сидело человек пятьдесят, нары двухэтажные, дым махорочный, сизый, почти ничего не видно, матрасы на полу валяются... Впечатление... совершенно сюрреалистическое. И в то же время — чувство абсолютной реальности.
— Что Вам было вменено?
— 70-я и 72-я статьи. Следствие тянулось с 18 сентября до конца декабря. А судили меня под Новый год — 31 декабря 1969 года. Новогодний "подарочек", так сказать.
— А почему, как Вы думаете. Вас не объединили с рязанскими участниками?
— Трудно сказать. Скорее всего, какие-то внутриведомственные соображения КГБ.
Им, наверное, выгоднее было доложить наверх о ликвидации широко разветвленной, хорошо законспирированной и т.д. и т.п. сети организаций в трех городах, чем двух групп общей численностью 11 человек.
— А на что человек может опереться в тюрьме? Кроме религии, как это было у Сенина.
— У него это позднее началось, уже в лагере, где-то в середине срока...
Честно говоря, я не знаю, на что человек может опереться или за что уцепиться в тюрьме... Что касается меня, то надо иметь в виду, что я был очень молод. Арестовали меня в 19 лет. Да, было тяжело, но, в общем, даже интересно — как я через все это пройду?
— Ну и как у Вас нее это началось, в этой "сюрреалистической" камере? Ведь там были уголовники?
— Да нет, какие там уголовники! Бытовики. Люди сидели за ящик водки, украденный в магазине. Или мальчики-хулиганчики, которые с прохожих шапки сдергивали. Грозные они были на воле, а в тюрьме плакали по ночам. Вот такие были преступники.
— И все-таки, все эти внутри - камерные обычаи-законы: паханы, проверка, прописка и т.п. — это все было?
— Да, нет, ничего похожего! Какие паханы — что вы! Отношения, как говорится, силовые имели место, но не на таком уровне. А в той камере, когда я вошел, места мне не было просто физически. Я стою возле двери совершенно обалдевший — только что осудили, — в руках у меня мешок с вещами и несколько книг. А одна из
них — на финском. Вдруг подходит ко мне мужичок-старичок, плюгавенький такой, на протезе, и спрашивает по-фински, кто, мол, такой, за что и т.д. И когда он увидел, что я на финском ему отвечаю, он поворачивается и идет в угол к окну, где лежал на нарах здоровенный детина в майке, весь зататуированный, — просто страх божий! Мой старичок ему говорит: "Вставай и уматывай отсюда". И к моему полнейшему изумлению, тот начинает собирать свои вещички и переходит на пол. Правда, при этом грозит мне: мол, я тебя в лагере найду, да я тебя умою и т.д. А старичок мне говорит: "Ложись".
— Кто же это был? Вор в законе?
— Да нет. Он отсидел 20 лет за бандитизм. Финн по национальности, партизанил в Эстонии после войны. А потом сел еще на 10 лет, я даже не знаю за что. А этого детину, оказывается, в подследственной камере, еще до суда, просто побили. Он потерял лицо и авторитет. Так что мне прямо от порога чуть ли не лучшее место на нарах этот старичок на протезе устроил...
Вот такое у меня было первое впечатление от соприкосновения с уголовным миром.
— Скажите, когда Вы сидели под следствием, "наседка" у Вас была?
— По всей видимости — да. По общей логике работы КГБ. Но я не утверждаю. По делу я со своим сокамерником не разговаривал. Но, по правде, никаких тайн у меня от следствия и не было. Я не геройствовал и рассказал все, что знал. Так что никакой необходимости что-то из меня вытягивать в камере не существовало. Кстати сказать, он был очень интересным человеком. Сидел за хозяйственное преступление — семь лет. И я про него даже статью написал в "Посев", когда приехал в Израиль.
— Вы получили 4 года?
— Да, 4 года. После суда меня повезли в Саратов в качестве свидетеля. По этапу. Длилось это невероятно долго. На процессе я впервые увидел всех саратовцев. Потом долго везли назад в петрозаводскую тюрьму, уже в другую камеру. И уже отсюда по этапу потащили в Мордовию.
Попал я на 17-ю зону, где сидели Сенин и Фокеев. Вы представляете, какой это был подарок судьбы? Сенин — единственный человек, с кем я был связан, и именно с ним я сразу встречаюсь в лагере! Пробыл я там недолго. Привезли меня в марте 70-го, а уже в мае я очутился на 3-й зоне, в Барашево. Здесь я встретился с Куликовым, Бобровым и Фроловым. И вместе с ними просидел большую часть срока, 2 года из 4-х, пока зону не расформировали. 1 огда, в 73-м, сделали политзону в Перми (дер. Кучино возле г. Чусового Пермской обл. -- прим, ред.) и половину угнали туда, а половину перевели на 19-ю здесь, в Мордовии. (А 3-ю преобразовали в уголовную).
Я попал на 19-ю, где встретился с Сашей Романовым. Но буквально на несколько дней. Едва мы с ним успели поговорить, как его этапировали во Владимирскую тюрьму, ибо он занимал активно отрицательную позицию по отношению к администрации. На 19-й я и досиживал.
— Как же Вас встретили товарищи-подельники?
— Понятно, что я их удивил. Группы у меня не оказалось. В смысле идейной подкованности я тоже был далек от всех их рассуждений, почерпнутых из ленинского труда "Государство и революция". Но в лагере, надо иметь в виду, люди делятся не столько по убеждениям, сколько по так называемым "мастям". Внешне это выражается в том, кто с кем пьет чай. Ну, а глубинная причина, конечно, чисто психологическая. Люди группируются по качествам характеров и темпераментов, по соответствию нравственных идеалов.
В политическо-общественном смысле мы считались "марксистами". Вообще, было три таких очень широких — очень! — категории: "монархисты", "марксисты" и "националисты". У последних были три больших группировки-землячества: украинцы, литовцы, армяне. С 70-го года появились еще и "сионисты" — они составили четвертую категорию. Но грубо, в обиходе, было всего две категории: либо ты "монархист", либо "марксист". Вопреки распространенному мнению, ни о каких "демократах" тогда не было и речи.
Ну, что я могу сказать вообще? Чай я с ними пил.
— А какая у вас была атмосфера, в вашем чайном кружке? Продолжались ли идейные искания, или, может быть, начались какие-либо трансформации?
— В общем-то, да. Трасформации были. Вы же видите, как в итоге все разбрелись. Кто в религию, евреи в свои сионистские дела...
— А с сионистами Вы там не сошлись?
— Я с ними общался, но в их крут не входил. Вудки — да, они сразу присоединились. Юрий довольно подробно пишет об этом в "Московщине", вспомните хотя бы эту жуткую историю с обрезанием. Причем, хочу отметить, что у старшего Вудки еврейство и иудаизм носили довольно сложный характер, а именно: некую мистико-оккультную форму. В лагере это называлось "йогнуться".
— Как, как?
— Йогнуться. Так называли людей, которые занимались индийской философией и всякими прочими мистическими вещами. Национальное они воспринимают как некую форму воплощения высшего тайноведения бытия. И вот у Вудки это все именно в таком виде и проистекало, не просто иудаизм, не просто религия. В "простую" религию ушел Гримос, он даже раввином стал. Младший Вудка тоже ушел в религию, но больше в национальную форму, в чистом виде. Так что не случайно сейчас он живет в поселении на арабской территории и примыкает к крайне правому движению.
— И все-таки, что же заставляло людей так изменяться, как Вы думаете?
— Думаю, что сам факт несвободы. Это был лагерь — не надо забывать. И условия были жесткие. Человек в лагере жестко ставится перед вопросом "как жить?". Хочешь не хочешь, а надо определяться.
— Итак, это была политзона. Какова же была атмосфера взаимоотношений между заключенными, когда чисто уголовные элементы практически отсутствовали?
— Большинство населения всех таких зон, процентов 70, наверное, составляли так называемые военные преступники. Ожидаешь совсем не этого, а попадаешь в некий гериатрический санаторий, где бывшие полицаи, старосты, бургомистры и т.п. досиживают 25-летние сроки. Правда, встречались и страшные типы. Один, например, был из автобатальона душегубок "Нахтигаль".
Они, конечно, несчастные люди, и главной их целью было — выжить любой ценой, а достигнуть этого можно было только совершенно холуйским поведением, и потому они сотрудничали с администрацией как только могли. Когда человеку дают 25 лет, никакого иного стимула у него, в общем-то, нет. Все они состояли в "активе", были членами секции внутреннего порядка (СВП), работали бригадирами и т.п. В общем, общаться с ними было тяжело и противно. Конечно, общение все равно происходило, и все было достаточно корректно. Хотя в отдельных случаях, в какой-то мере, возникало и напряжение, и озлобление. Главным образом, на почве антисемитизма. Наиболее ярко это проявлялось в столовой, когда ты садишься, а рядом демонстративно встают и уходят за другой стол. Или когда тебе прямо в лицо кричат: "Хайль Гитлер!" Такое бывало, да...
Кроме военных преступников было еще много беглых солдат. Тех, которые бежали неудачно и были пойманы и посажены. И тех, что бежали удачно, но сами вернулись из-за границы. Весьма интересный феномен, кстати. Люди, прожившие не один год и в Америке, и в Германии, возвращались добровольно, заведомо зная, что им дадут как минимум 10 лет. Таких было очень много. Там они не могли адаптироваться, большей частью, психологически.
Был и уголовный слой. Все уголовники попадали на политзону одинаково. Если человеку на бытовой зоне по той или иной причине грозило убийство, он писал и вешал на каптерке или на вахте антисоветскую листовку, в которой было что-нибудь нелестное (обычно матерное) про Брежнева либо про Ленина. Его арестовывали, судили внутрилагерным судом, добавляли пару лет по политической статье и переводили на политзону. А в политзоне убийств не было, потому что был некий кодекс — в политзоне не убивать. Поэтому даже если враги этого зэка попадали (таким же путем) тоже сюда, ничего сделать они не могли.
Так что, собственно, политзаключенных трех вышеназванных и очень — очень! — условных категорий: марксистов, монархистов и националистов было довольно мало. Все, вместе взятые, они составляли безусловное меньшинство.
— А эти уголовники не могли постепенно навязать свои законы?
— Нет, что вы! Они рады были до смерти, что спаслись и сидели тихо, как ягнята. И почти все немедленно начинали изучать индийскую философию. Самой популярной книгой была "Радхакришна". Все уголовники штудировали ее, мало, думаю, что в ней понимая.
— В уголовных зонах есть четкое разделение на "вставших на путь исправления" - читай: сотрудничающих с администрацией, "отрицаловку" и "мужиков"...
— У нас не было такого разделения. Все, без исключения, военные преступники "встали на путь" еще 20 лет назад. И сходить с него могли только в могилу. А "отрицаловка" — это те, кто отказывается работать. А такого вообще не было. Так что те, кто не сотрудничал с администрацией, и были, собственно, политические заключенные.
— А вы чувствовали, что вам живется хуже, чем тем, которые «встали на путь», ну скажем, в смысле ларька и т.п.?
— Да кто его знает, как они жили, эти "вставшие"... Они были сами по себе, а мы сами по себе. Конечно, какие-то льготы у них были. Но вообще-то материальное расслоение в лагере шло совсем по другой линии. И это, кстати, говорит о глубине и незыблемости человеческой природы. Вот вам яркий пример. На 19-й зоне был старик-эстонец, из военных преступников, так вот он имел собственный магазин.
— Как магазин?
— Да так. Он был каптером. Заходишь к нему в каптерку, там лежат несколько десятков чемоданов. Он их открывает, а там — любые товары.
— Продукты?
— Да, конечно. Кому нужны "тряпки" в зоне, где все ходят в одинаковой форме? Продукты, — непортящиеся, любые.
— А как...?
— Деньги! По тем временам деньги у него крутились бешеные. Ему прямо на вахту, открыто, приносили чемоданы. И вот, смотришь, тащит он громадный чемодан через всю зону к себе в каптерку, а мужичок, между прочим, еле ноги уже таскал, в чем душа теплилась... Говорил — хутор себе куплю, когда выйду...
Так что всякие льготы, они достаточно смешно смотрятся... Их другим приманивали. Так называемым снижением до 15-ти. В 58-м отменили срок 25 лет. И вот каждый год собиралась комиссия, которая имела право снизить срок до 15-ти. Например, человек отсидел 22 года. Снижают ему до 15-ти и выпускают. И каждый из них надеялся, что ему снизят. А на что надеяться, если уже 24-й год идет? Тем более, что снижали скупо-скупо, по одному за раз, не больше. И все равно — надеялись...
—Александр Ефимович, а вербовать Вас пытались?
— Да, сразу. Это первое, что происходит перед тем, как в зону вы пускают. Заводят в кабинет, там замполит, еще какие-то офицеры, и начинается: мы рады вас принять..., вы так молоды..., мы готовы вам помочь...
— То есть почти открыто предлагают?
— Да, именно. Они предлагают помочь вашему будущему в лагере, но... "Мы надеемся, что и вы, в свою очередь, будете готовы помочь нам".
— И на это надо сразу отвечать?
— Ну, разумеется, надо отвечать "да" или "нет". Что следует за согласием, я не знаю. Возможно, человек должен что-то подписать. Я им ответил, что получил свой срок, хочу его спокойно отбыть и что свои проблемы они должны решать сами.
— Заключенному предлагают помочь исправиться. Если он это
отвергает, то тем самым заявляет, что не хочет исправляться, то есть ведет себя с самого начала нераскаянно и вызывающе, так?
— Нет. Смысл моего ответа был таким: я получил срок за преступление и хочу его отбыть в соответствии с законом. В чем же я должен помогать? Что я — офицер МВД, чтобы им помогать?
— И что они?
— Они очень вежливо этот вопрос закрыли.
— А потом, особенно при переводе в другие зоны, были попытки?
— Нет, больше ни разу.
— А были случаи, чтобы стукача "вычисляли"?
— Да, были.
— И что следовало затем? Что вы делали?
— Мы — ничего. Как правило, его освобождали. Он уходил на помилование.
— То есть помилование было признаком того, что человек "отработал" и "заработал", так сказать?
— Нет, это ничего не означает. Прошение о помиловании пишут многие. Например, всех саратовцев (кроме Романова) — помиловали. Но у меня нет информации, что кто-то из них в чем-то участвовал или вел себя так, чтобы заработать помилование. Я думаю, что в данном случае, это было решением саратовского КГБ. В конечном счете, решение принималось именно в этих органах. А какие у них были соображения по поводу бывших подпольщиков из группы "революционного коммунизма", этого пока никто не знает...
— И все-таки Вы лично не стали писать прошение о помиловании, потому что Вам могли предложить известную цену за это?
— Нет. Просто шансов у меня не было. В лагере ведь каждый год составляют характеристику и знакомят с ней. Вызывают к начальнику отряда и зачитывают. А там — черным по белому — "на путь исправления не встал". Кстати, "встать на путь" не означало только сотрудничество в форме стукачества. Существовали и всякие промежуточно-завлекательные этапики. Например, можно было вступить в культурную или политпросветительскую секцию или участвовать в художественной самодеятельности. Можно было пытаться балансировать на этой грани. Вроде бы это уже считалось "встал" и появлялся какой-то шанс. Но это, опять же, как они решат. А поскольку я ни в чем решительно не участвовал, то...
— Скажите... — я никак не могу обойтись без лагерного словечка, - а вот это было "западло" песенки петь со сцены?
— Да, да, конечно. Этим занимались только военные преступники.
— Александр Ефимович, а что вынюхивали стукачи в первую очередь? Чего они больше всего желали выудить?
— Разные вещи... Я думаю, в зависимости от ситуации, от той задачи, которую ставил перед ними лагерный "кум".
Вот, например, к концу моего срока, в 1973-м, в лагере оказался Кронид Любарский (первый демократ-диссидент при мне). Он сразу начал организовывать открытое письмо академику Сахарову. Написал какой-то текст, его, по идее, должны были подписать как можно больше заключенных, а затем передать на волю. Все, кто вокруг него крутился по этому делу, были стукачи: почти без исключения. История окончилась так: Любарский залетел сначала в БУР на шесть месяцев, а затем во Владимирскую тюрьму. А двух стукачей сразу(!) же освободили.
Я с самого начала думал, что вся эта история с письмом была провокацией КГБ с целью убрать Кронида с зоны в тюрьму. Он был личностью крупной, заметной и его не хотели держать на "открытом воздухе". Видимо, они вообще побаивались диссидентов.
— Вы считаете, что Любарский поддался на провокацию?
— Я думаю, что скорее всего — да.
Но, к сожалению, есть еще один особенно мерзкий аспект в этой истории. (И этого я ребятам-подписантам никак не могу простить). Они распустили слух, будто письмо должен вывезти мой приятель Иван Удодов, который как раз освобождался. (Он сейчас в Швеции живет). Так вот его на выходе шмонали... ужас как! Ничего, конечно, не нашли, но задержали, издергали и измучили ни за что. А вывозить должен был другой, мне кажется, "из этих", так что он сразу и передал его "куда следует". (Я, конечно, это не утверждаю, а предполагаю). Вот так они поступили с Удодовым — человек не имел никакого отношения, а его для прикрытия "операции" использовали как минный трал...
Так что на этом примере вы можете сами судить, какую информацию должны были и могли собирать стукачи.
— А что это было за письмо?
— Я не видел текста. Я просто из принципа не участвовал.
Ни в ту, ни в другую сторону. Я вообще отрицательно относился к внутрилагерной, так сказать, политической жизни. А кроме того, я уже говорил, вокруг этого письма такая была атмосфера и такие люди крутились...
— Александр Ефимович, а как кормили в мордовских лагерях?
— Хлеба полагалось 700 грамм в день. Физически этого было съесть невозможно. И администрация все время экспериментировала, как его лучше сэкономить. Иногда хлеб просто клали свободно на столы. Иногда выдавали пайкой с утра. Но в конечном итоге хлеба много выбрасывалось, потому что всего все равно почти никто не съедал. Вообще, по объему еды было достаточно, но она была очень плохого качества. В этом была проблема. В обед давали так называемые "мясные щи". Лучше бы они вообще мясо не клали, потому что мясо было просто совершенно... Некоторые просто не могли есть. Олег Фролов, например, все пять лет питался исключительно хлебом. Он вообще человек брезгливый и не мог есть ни этих щей, ни каши.
— А кашу почему?
— Потому что каша была нечищеная. А я, как раз, с детства любил овсяную кашу и потому был, наверное, одним из немногих, кто был доволен этим блюдом. Пускай и нечищенным. Но я, например, не ел сахара. Вообще. Давали 15 грамм в день. В таком кулечке, раз в неделю. Я его ссыпал в банку и потом кому-нибудь дарил. Но обычно сахара людям не хватало.
Итак, на обед давали щи "мясные" и кашу нечищеную (не только овсяную). На завтрак — такой макаронный суп на воде. На ужин опять давали кашу и кусок рыбы.
— Ну, а например — молоко?
— Только за вредность. Если цех или операция считались вредными, давали стакан молока.
— А знаменитые "бациллы", жиры то есть, в каком виде выдавали?
— Не знаю. Реально видимые жиры можно было купить в ларьке. Зарплата шла на счет заключенного. И вот на 5 рублей в месяц, разумеется, безналично, можно было купить продуктов. Набор был очень ограниченный. Конфеты-подушечки, жир — такой непонятный, масло подсолнечное, — что там еще было: — да, сыр колбасный. Ну, вот, пожалуй, и все продукты. На ларьке, разумеется, играли. За хорошее поведение добавляли два рубля. За плохое могли лишить этих 5 рублей или снизить, скажем, до 2-х.
Кроме того, если человек выполнял норму на производстве, утром ему выдавали к макаронному супу еще порцию каши с маслом. Такую хорошо прожаренную гречневую кашу с куском масла.
— Премблюдо...
— Да, премиальное блюдо... Зависело это исключительно от бригадира. Потому что нормы выработки были совершенно идиотские. Некоторые можно было выполнить на 300 процентов. А некоторые — вообще невозможно. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Но, как и на любом производстве в стране, — приписывали, туфтили...
Если считалось, что человек не выполняет норму, фактически это была форма наказания. Бригадиру давали указание не приписывать и...
В общем, если подводить итоги, пища была некачественной. Не хватало жиров и овощей. Круглый год не было никаких овощей, не говоря уж о фруктах. Недостаток витаминов и жиров.
— Ну, а за пределами зоны — не все же работали внутри — можно было что-либо приобрести?
— Это был уже вопрос денег. Живые деньги в зоне иметь запрещалось, но кто их имел, мог купить все, что угодно. Я вам уже рассказывал о старике-эстонце с его магазинчиком. А можно было и через конвоиров, через охрану.
— И чай, и водку?
— Все, что закажешь.
— А за что можно было попасть в карцер?
— За все что угодно. Я попал — единственный раз — за неопрятный вид одежды. Возможностей у администрации была масса. Например, в тапочках можно только в бараке, по зоне — только в сапогах. Забудешься, выйдешь, увидят — запишут и предупреждение. На третий раз — карцер. В общем, можно было попасть за любое нарушение дисциплины.
— А можно сказать, что в лагере были организации?
— Организации? Да, разумеется, были. Они имели, главным образом, практическую направленность по поддержанию контактов с внешним миром. Лучше всего это было налажено у сионистов и у Свидетелей Иеговы. Последние вообще нелегально, но регулярно получали свой журнал "Башня стражи".
— А попадала в лагерь "Хроника текущих событий"?
— Нет. Вообще, людей, связанных с правозащитно-демократическим движением, до Любарского практически не было. Он первый, с кем я встретился. По-видимому, повторяю, диссидентов администрация побаивалась.
— А националистов?
—У националистов были крепкие землячества. Но в какой мере они имели контакты с внешним миром, я просто не знаю. Скорее всего — слабее.
— А было ли в лагере что-нибудь такое, что могло Вас развеселить? Чтобы было радостно, чтобы Вы смеялись?
— Конечно. Бывало и радостно, бывали и праздники, и кинофильмы хорошие показывали. Я в зоне много хороших фильмов посмотрел. На 3-ей вообще целый клуб был для заключенных. Вполне легальный. Там возле котельной была такая полуподвальная комната, где стояли столы, скамейки, "титан". И туда ходили пить чай компаниями ("мастями'), играли на гитаре, танцевали. Землячества по национальным праздникам занимали его под свои встречи и мероприятия. Помню, как сионисты вывесили израильский флаг, такой большой, рисованный, я его впервые увидел открыто висящим...
— И все совершенно свободно?
— Да. Вообще, 3-я зона была очень либеральной по сравнению с 19-й, например. А ведь и там и там — строгий режим. Видимо
на 3-й начальник по режиму был полиберальнее и поумнее, чем иные. А может, наоборот, в такой атмосфере ему удобнее было вести агентурную работу и держать все под контролем.
—Александр Ефимович, к Вам на свидание в лагерь приезжал кто-нибудь?
— Да.
— Как это происходило?
— Если сравнивать с израильскими тюрьмами, то очень даже по-божески. В лагере есть дом свиданий. Раз в году разрешается одно большое, так называемое личное свидание на трое суток. Тебе дают комнату, там есть, где готовить, и три дня и три ночи заключенный живет с тем, кто к нему приехал. А еще два раза в год можно получить так называемое общее свидание, на несколько часов. Разговариваешь в комнате через барьер, в присутствии надзирателя. Правда, администрация часто нарушала право на свидание. Например, могли отменить свидание за какой-нибудь проступок, а родственникам не сообщить, и они ехали, тратились, а приехав, вынуждены были унижаться, мытариться и уезжать несолоно хлебавши. А когда в СССР приезжал Никсон, все свидания отменили вообще.
— Были ли какие-то организации, которые поддерживали евреев в лагерях?
— В смысле материальном — конечно. Посылки шли вовсю. Хотя лимит на них был, вы знаете, — две бандероли в год по 1 кг с начала срока и одну посылку в год до 5 кг после половины срока. Но когда присылалось регулярно и все это соединялось и распределялось — в общем, было неплохо. Приходило им также много писем и открыток из Израиля — моральная поддержка.
—Александр Ефимович, а Вы в лагере уже знали, что уедете?
— Нет. Вначале это было невозможно. Лишь в 70-м году, когда в лагерях появились сионисты в большом количестве, а на воле начались единичные отъезды, стало ясно, что дело сдвинулось... И только к концу срока я ясно представлял, что это вполне реально. Правда, в лагере никаких особых национальных чувств во мне не пробудилось. И у Олега Фролова тоже. Но когда я вышел, жизнь стала складываться так, что делать мне здесь было абсолютно нечего, никаких перспектив. Так что у меня и, насколько я знаю, у Олега эмиграция была стопроцентно вынужденной.
— Значит, когда окончился срок. Вы не пытались как-то обустроиться в Рязани, найти работу?
— Это было невозможно. Дело в том, что меня посадили под гласный надзор милиции. Я не имел права выйти из дома после 8-и часов вечера и до 7-и часов утра. Я не имел также права выезжать за черту города. Жизни никакой не было...
— То есть Вы не могли съездить на пляж в Солотчу? (Солотча — место отдыха в 20 км от Рязани – прим. ред.)
— Да, в Солотчу уже было нельзя. Так же, как и в Москву и другие города. А вначале они еще записали, что я не могу выходить из дома в праздничные и выходные дни. Но здесь, правда, я быстро сориентировался и написал жалобу областному прокурору. Там, видимо, повнимательнее прочитали правила о гласном надзоре, увидели, что такого ограничения нет и этот пункт отменили.
Единственное место, куда мне удалось устроиться на работу — это кочегаром в баню на улице Подбельского, точнее — оператором котлов газового отопления.
— А Ваши родители работали в это время?
— Отец работал.
— Не было ли у него каких-либо неприятностей в связи с Вами?
— Нет. Хотя, впрочем... может быть. Ему собирались дать квартиру, но так и не дали. Но работать он продолжал несколько лет в прежней должности — заместителем директора мебельной фирмы "Ока".
— Александр Ефимович, а когда Вы решили уезжать, что Вы стали делать? Каков был механизм, так сказать?
— Механизм был тяжелый... Сначала я не мог вообще подать документы, потому что нужна была характеристика с места работы. А я еще не работал, а только учился на курсах кочегаров. В домоуправлении характеристику дать также отказались. Я подумал и решил сходить на прием в прокуратуру. Один раз помогли, может быть, и второй раз тоже? Так оно и вышло. Прокурор меня принял, выслушал и посоветовал: "А Вы в лагерь напишите. Вам пришлют". И действительно, прислали прямо в ОВИР.
И вот я собрал все документы, а мне — бац! — и отказ. Тогда я засуетился, письма начал писать всякие. И в Верховный Совет, и Гинзбургу, и в "Хронику текущих событий"... В общем, старался как мог. В конце концов - разрешили. Всего я прожил "на воле" год: в сентябре 73-го освободился, а в октябре 74-го — уехал.
— А Вы поехали туда на пустое место? Все с нуля начинали?
— Вызов мне прислал двоюродный брат. Он уехал незадолго до меня. А в общем, все пришлось начинать с нуля.
—И как же Вы начали строить свою жизнь?
— Поступил в университет.
— Пришлось сдавать экзамены?
—На Западе практически нет вступительных экзаменов. Там нужен документ о среднем образовании. Меня приняли по справке из Петрозаводского университета. Я ведь закончил первый курс, и у меня была академическая справка. Правда, мне ничего не зачли, кроме... физкультуры.
— …
—Да, ничего не зачли, но на первый курс приняли.
— Вы сохранили специализацию?
—Нет. В Петрозаводске я изучал финно-угорскую филологию, а в Израиле выбрал историю.
— А язык Вы уже знали?
—Нет. Язык я начал учить только в лагере. Когда там появились сионисты, они очень быстро продолжили свою привычную деятельность, в том числе открыли курсы иврита.
— А Ваши дети знают русский язык?
—Да. Правда, у них с языками разные были приливы и отливы. Например, моя старшая дочь (ей сейчас восемнадцать), когда мы жили в Англии, напрочь забыла иврит. Только русский и английский. Вернулась в Израиль, начала вновь учить иврит и стала забывать русский. А в 89-м началась массовая эмиграция из СССР, и так получилось, что все ее друзья-приятели — русские, и язык возвратился. Думаю, что сейчас она на нем больше говорит, чем на иврите.
— А в Англии Вы...
— Я учился в аспирантуре.
— А когда Вы приехали, какие-либо государственные или общественные программы поддержки эмигрантов были?
— В Израиле есть понятие "узник Сиона". То есть тот, кто сидел за сионистскую деятельность в любой стране. Таким помогают. Есть некоторые льготы. Если человек получил инвалидность в тюрьме, то платят небольшое пособие. Остальным — нет.
— А каким Вы ощутили израильское общество?
— Сейчас об этом трудно судить... Я не могу не думать о том обществе без ностальгии. Современный Израиль — это совершенно другое государство. За 20 лет оно изменилось до неузнаваемости. А тогда это было такая полусоциалистическая страна, наивная, с таким каким-то оптимизмом... Это очень трудно объяснить... Нужно жить там, чтобы понять... Тогда еще оставались остатки цивилизации первопоселенцев, которые приехали из России и Польши и принесли с собой странную идеологию, основанную, главным образом, на Чернышевском... Да, да, "четвертый сон Веры Павловны"... Там его и осуществляли...
— Вы искали, по приезде, Вудок, Фролова?
— Когда я приехал, там был только младший Вудка. Остальные сидели дольше меня. Фролов — пять лет, Юрий — семь. Но с Вудками я не был знаком вообще. И я ждал Олега. И был очень рад, когда он появился. Помню, в первый же день я повез его на пляж в Ашкелон и там буквально сжег. Олег ведь очень белый, чуть-чуть не альбинос. И вот к вечеру у него на руках и на ногах появились волдыри, — в первый же день в Израиле!
— А чем Олег сейчас занимается?
— Он инженер-программист.
— Вы с ним общаетесь?
— Конечно.
— Вы знаете, по нашей просьбе, через одного человека в Америке, пытались связаться с Юрием Вудкой. Так вот, он ответил, что все произошедшее в Рязани и в лагере — позапрошлогодний снег. Правда, мы тогда получили "Московщину".
— Если вы обратили внимание, в "Московщине" он столь скромно пишет о своей подпольной деятельности, что просто непонятно, за что же, собственно, его арестовали и упекли на семь лет. Он старается отринуть и забыть прошлое, это очевидно. Я думаю, это началось еще в лагере...
— А Вы знаете что-либо о саратовцах?
— Знаю, что Романов живет до сей поры в Саратове, написал книгу воспоминаний "Время собирать камни". Впрочем, вы ведь напечатали несколько глав из нее, так что знаете это лучше меня.
В сентябре 96-го я встретился в Израиле с Куликовым. Он эмигрировал (кажется, после развода с женой), обосновался в Хайфе, работает слесарем в порту. (По специальности — тренером — устроиться не удалось). Сказал мне, что испугался прихода Жириновского к власти... Кстати, сын его остался в Саратове, он офицер МВД, работает в каком-то лагере. Вот такой поворот сюжета...
Бобров, второй, после Олега Фролова, мой близкий товарищ по лагерю, окончил Киргизский госуниверситет, работал в школе в Бишкеке. Мы с ним некоторое время переписывались. Но потом, постепенно, переписка прервалась. Все-таки 25 лет минуло, срок солидный...
Что сейчас с Кириковым, Фокеевым, Сениным, я знаю только из публикаций "Карты".
— Александр Ефимович, а как сейчас, ретроспективно. Вы смотрите на всю эту рязанско-саратовско-петрозаводскую историю? На людей, в ней участвовавших, на себя?
— Ну, смешно немножко... Если бы не давали такие серьезные сроки, все это было бы очень забавно.
— Ну как так — смешно и забавно?! Чего же тут забавного? Ну а, скажем, МХГ или "Хроника текущих событий" — это тоже забавно?
— Вы говорите о совершенно другом явлении. Вернее, о двух разных явлениях.
В то время — середина и конец 60-х — совершенно независимо друг от друга в России возникали всевозможные организации вроде нашей. В широком смысле мы были частью общеевропейского и даже мирового движения тех лет. Вы помните, что творилось в Европе в 68-м году? Это было широчайшее наступление против капитализма во всем мире, в том числе и у нас, как специфической формы государственного капитализма. И идеи очень перекликались. Но в целом ответы на требование времени были устарелыми, изжившими себя. Тот же анархизм? Или неомарксизм? Так что у них там, в Париже, — Дании Конбендит знаменитый (кстати, он сейчас — член Европарламента), а у нас в Рязани — Юрий Вудка.
Но у нас это движение приобретало порой столь причудливые формы, что иначе, чем анекдотом и не назовешь. Боже мой! — чего я только в лагере не насмотрелся, с кем только не познакомился! Вот вам яркий пример. Где-то в 71-м году привозят по этапу на 3-ю и сажают в карантин группу. И вот пока они еще там и любопытство самое сильное, им кричат: кто вы? за что вас? Они кричат в ответ: мы — социал-дарвинисты!
— К-а-а-ак???
— Социал-дарвинисты. Ну, естественно, в лагере ажиотаж, все ждут, когда они оттуда выйдут. Выходят — а были они с Урала, такие простые рабочие парни, — и рассказывают, что их лидер Смолин попал в психушку, а все остальные — в лагерь. Учение Смолина сводилось к тому, что существуют два класса. Класс трамполистов и класс интеллектуалов. Первые — эксплуататоры, вторые — все остальные. Почему социал-дарвинисты — непонятно, что за трамполисты — никто объяснить толком не может. Короче говоря, видимо, человек попал в психушку не совсем незаслуженно. Но потянул за собой вполне нормальных людей.
— И кто же такой был этот Смолин?
— Не знаю. Скорее всего такой же псевдоним, как Борин у нас.
Так что, видите, каких только организаций не было, вплоть до самих карикатурных. А параллельно с этим существовало правозащитное движение, и оно-то носило совсем другой характер. Совсем не смешной, а — настоящий..
— А Вы, будучи на свободе, имели представление об этом движении?
— Имел, конечно. Контактов, правда, не было. К сожалению, не попал мне в руки и самиздат.
— А Будка и Сенин читали самиздат?
—Вряд ли. Думаю, что нет...
— Александр Ефимович, как Вы теперь знаете, редакция "Карты" располагает достоверной информацией о человеке, очень близком к группе, который сотрудничал в то время с КГБ. Каково Ваше отношение к моральной проблеме обнародования имени этого человека?
— Мне кажется, нужно прежде всего спросить у него. Лично у меня к нему нет никаких претензий — здесь я солидарен с Мартимоновым, — мало ли что было 30 лет назад! Если же вы хотите в чисто историческом смысле опубликовать, нужно поговорить с ним... А если он считает, что сделал правильно? Откуда вы знаете?
Будучи на месте журналиста, я постарался бы реализовать право личности на публикацию ответа. Каждый человек должен иметь право на ответ...
Рязань