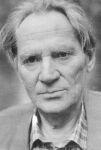Раннее и позднее
Раннее и позднее
ДАВНО ХОЧУ СКАЗАТЬ… БЫВАЕТ ЛИ СВОБОДА БЕЗ КУЛЬТУРЫ?
ДАВНО ХОЧУ СКАЗАТЬ...
БЫВАЕТ ЛИ СВОБОДА БЕЗ КУЛЬТУРЫ?
Печатается по «Литературной газете» (1991, 16 янв.)
Я как-то так «странно устроен», что «частной» жизни с бытовыми подробностями для меня просто не существует. Поэтому я никогда не смог бы написать хорошей прозы, даже мемуарной: ведь вся проза держится исключительно на этих подробностях. (При Сталине я сидел в лагере ни за что — «за антисоветскую агитацию», но что такое означала эта «агитация» по тем временам, за которую я получил смехотворный срок — пять лет, не знает никто. Лагерь не оставил в моей жизни никаких следов, я ничего не запомнил из тех страшных пяти лет, и, когда я попадаю в компанию бывших лагерников, я чувствую себя самозванцем. Я и там жил своей внутренней, духовной жизнью.
Да что лагерь? Будучи отлучен от литературной жизни, лишенный возможности публиковать свои стихи, для того чтобы заработать на кусок хлеба, я 25 лет проработал чем-то вроде экономиста-плановика (числился по штатному расписанию «мастером») в трамвайно-троллейбусном управлении. К своей работе относился добросовестно, и, надеюсь, сослуживцы поминают меня добром, но и эта работа никакого отношения к моей подлинной жизни не имела. Я отрабатывал свои положенные 8 часов — и забывал все: службу, служебные отношения, выговоры начальства — и возвращался к настоящей жизни: к книгам, стихам, к раздумьям о времени и мире. Не знаю, живут ли так все поэты, но я жил так и иначе жить не могу. То, о чем я написал, — это и есть моя жизнь, и разве сейчас кто-нибудь в стране живет другим, тем более человек, имеющий какое-то отношение к русской литературе?
Свобода, культура, ответственность. Эти понятия связаны между собою теснее и нерассоединимее, чем нам представляется. Свободный человек в свободном обществе не может не уважать культуру, облегчающую и одухотворяющую его труд, быт, досуг, повседневную жизнь, как не может не обладать чувством собственного достоинства и личной ответственности. В этом и состоит его отличие от раба, который не волен не только в своих деяниях, но и в самой жизни, у которого изначально вместе со всеми
человеческими правами отобрано и чувство ответственности, а культура для которого является одним из атрибутов ненавистной господской власти, то есть чем-то чуждым, ненадобным и враждебным. Свобода без чувства ответственности и без уважения к культуре есть абсурд и дикость, производные от «бессмысленного и беспощадного» рабского бунта, то же вывернутое рабство, нечто невообразимое и страшное.
Все это мы ощущаем «на своей шкуре», вдыхаем из атмосферы нашей общественной жизни. Когда наши «духовные пастыри» прочитали у великого русского писателя Василия Гроссмана всей его горькой жизнью выстраданную мысль о том, что «русская душа — тысячелетняя раба», что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства, как они обрушились на него за эти «исступленные нападки» на русский народ! Да оглянитесь вокруг, посмотрите в зеркало! При обилии всяческих гражданских, «внешних» прав и свобод, буквально обрушившихся на нас за последние три-четыре года (частью этих прав и свобод мы были непрошено-нежданно-негаданно одарены «свыше», часть их сами позже отвоевали на демонстрациях и митингах), мы так до сих пор и не обрели единственно нужной нам, «внутренней», подлинной свободы, неотделимой от культуры и ответственности. В нас ничуть не изжиты представления и чувства, свойственные рабам, рабская психология, рабские темнота и злоба. Мы по-прежнему безответственны, бескультурны и несвободны. Как это и пристало рабам, мы шарахаемся из крайности в крайность, и то, чему были безоговорочно привержены и что безусомнительно славили вчера, сегодня столь же безусомнительно и безоговорочно предаем осуждению и проклятию, сами при этом даже не подумав о покаянии и искуплении. Вчерашние поголовные атеисты, сегодня мы скопом бросаемся в православную церковь, опять-таки не с покаянием, а за утешением и помощью, не подозревая того, что путь веры трудный и тернистый и уж в любом случае индивидуальный, личностный, свободный и ответственный путь. Разуверившись в наших любимцах и лидерах, устав от их парламентской и митинговой болтовни, поняв-таки, что они такие же рабы, воюющие друг с другом за свою правоту, за свой верх, за свою власть, в предчувствии беды мы по-прежнему ждем выхода и спасения от кого угодно, но только не от самих себя. Рабы, никогда не знавшие радости свободного труда, свободного деяния, мы, может быть, и хотели бы, да не можем, не умеем приложить руки и душу к какому-то конкретному живому делу, которое хотя бы чуть-чуть изменило к лучшему положение в доме,
в селе, в городе, в государстве, хотя бы на немного улучшило и осмыслило нашу жизнь.
Я уже не раз приводил и, пока дышу, не устану повторять благую и живительную мысль моего любимого Бердяева, его мудрое и точное противопоставление религиозного, благородного и плодотворного чувства вины, присущего свободному человеку, рабскому чувству обиды, безбожному, низменному и губительному. А мы все сегодня полны этим рабским чувством. Я не стану говорить о том, что в противоположность христианскому, зрячему, доброму чувству вины чувство обиды недоброе, слепое, нехристианское: какие же мы христиане? Далеко нам сегодня до христианства. Но ведь простой здравый смысл говорит, и ребенку ясно, что чувство обиды, развиваемое, подогреваемое, культивируемое, делает и самого подверженного этому чувству несчастным и приносит неостановимое, безудержное, бесконечное зло в мире: счет обидам, поиски виноватых, тоска по оплате и возмездию ведут к новым обидам и распрям — и так без конца.
Когда один из немногих истинно свободных людей в стране — Дмитрий Сергеевич Лихачев призвал нас всех к покаянию. Господи, как возмутилось в нас рабское чувство обиды: пусть палачи и насильники каются, казнокрады, начальники, аппаратчики, а нам-то в чем? Мы непричастны, мы — как все, мы сами обиженные, жертвы, винтики. Да вот в том, что винтики, и покаемся! Академик Лихачев, чудом избежавший расстрела на Соловках, не считает, что ему не в чем каяться, не снимает с себя вины за все зло, всю ложь, все грехи своего времени и своего государства. И академик Сахаров не снимал. И те семеро, что вышли на площадь, протестуя против ввода наших войск в Чехословакию, не снимали и не снимают. И кто в лагерях и психушках при Брежневе сидел, не считают себя героями, винятся, каются. В том, что жили в такое время, в такой стране и, значит, не могут быть непричастны ко всему, что творилось тогда, да и по сей день творится, не могут не разделять вины и ответственности за все, что делалось и делается, что было и есть. Да так всегда и велось на свете, чем душа праведней, тем она сама себя считает грешней и виноватей, тем больше ей есть в чем каяться, а мнили о себе, что не в чем, те, кто понаглей да поподлей, ну разве что еще дурачки, по слепоте да недомыслию. Не может же быть свободы без чувства ответственности!
Но и без культуры какая ж свобода? А мы ужасно некультурны. Посмотрите, послушайте, как мы спорим, как ведем себя на митингах наших, на диспутах, в журнальной грызне, на съездах наших, хотя бы и писательских. И все норовим историю нашу пере-
писывать, какие-то страницы ее зачеркивать, как будто их и в помине не было. Да она, история русская, вся в наших костях да крови, никуда от нее не денешься: ни от царей, ни от бунтарей, ни от Ивана Грозного, ни от Стеньки Разина, ни от Столыпина — реформатора и вешателя. Сегодня мы его превозносим как великого государственного деятеля, а я до смерти не забуду, как везли меня при Сталине в лагерь, с сотней таких же безвинно осужденных, в нечеловеческом вагоне, который, по старой памяти, назывался столыпинским. Вот сейчас мы с обоих краев в один голос от Октябрьской революции отрекаемся. Дескать, революция эта в историю нашу как бы по ошибке попала: историческое недоразумение и преступление, да и не народная революция, а переворот, сотворенный кучкой злоумышленников, преимущественно нерусского происхождения. Да чушь все это! Не могла кучка злоумышленников всю Россию всколыхнуть до самых глухих и отдаленных окраин, до самого Тихого океана. Значит, накапливались обиды, чтобы прорваться разом в великую и страшную четырехлетнюю братоубийственную войну. Тому и свидетель есть непогрешимый и неподкупный, которому невозможно не верить, — великая русская литература. Или уже не слышим Некрасова? Не слышим Щедрина? Не слышим великого Толстого, кого весь мир слышал? А как же Достоевский, которого сейчас на каждом шагу поминают? Да вспомните, перечитайте в «Карамазовых» разговор в трактире Ивана с Алешей, историю про то, как крепостного ребенка помещик собаками затравил. Перечитайте Александра Блока, самого чуткого, самого искреннего, самого прозорливого русского поэта XX века, стихи его из третьего тома о «Страшном мире» и все его статьи того времени. Или и Блоку не верите? Перечитайте Бунина, ненавидящего революцию, — «Деревню». Ведь очевидно же, что не могло не свершиться революции в этой стране, в нашей многогрешной России, и что должна она была разразиться именно такой — великой, страшной, кровавой, многократным «бессмысленным и беспощадным» повторением пугачевщины. Конечно, «не приведи Бог», — не с Пушкиным же спорить, — конечно же, великое преступление и великий грех. Но и великая же кара, великое возмездие тем, против кого она была направлена и кто в ней повинен, по крайней мере, ничуть не меньше тех, кто ее осуществлял. И ведь лозунги ее, обещания ее, до сих пор неисполненные, человечны и прекрасны: «мир народам, власть Советам, земля крестьянам, заводы и фабрики рабочим». Мы только сегодня беремся их в жизнь воплощать — значит, живы замыслы революции, может быть, сможет она искупить свои грехи? Может: быть, она не конче-
на на страшном и стыдном, может быть, впереди преображение и искупление? Многие великие революции прошли через террор и диктатуру, но ведь замыслы их воплотились со временем во что-то разумное, человечное, доброе, — и празднуют французы 14 июля, День взятия Бастилии как свой великий национальный праздник. Конечно, французы нам не указ, но ведь и мы 7 ноября не зло и не грех революции празднуем, а ее великие, все еще не осуществленные замыслы, то, что живо в ней и сегодня. А и слева, и справа крайне покушаются на этот праздничный день в нашем календаре: одни хотят забыть, что была революция, и вернуться к старому, к Государю Императору (непременно с большой буквы) и единой неделимой, другие хотят строить что-то с самого начала «на голом месте». Это все от несвободы, от безответственности, от бескультурья нашего. Нельзя, невозможно вернуться к старому или вернуть старое, как нельзя, невозможно что-то построить из несуществующего, из пустоты, из ничего. Ни то, ни другое никогда никому не удавалось.
Историю нельзя переделывать, от истории нельзя отказываться. Да и незачем. За нашей революцией стоят благословляющие и вдохновляющие тени прекраснейших и благороднейших русских людей — от Радищева и декабристов до лейтенанта Шмидта. Она была, ее не перечеркнешь. Мы приняли ее наследство, страшное, темное, безобразное, но нам не избавиться от него. Это не только недостойно, безответственно, безнравственно, но, в конце концов, и безграмотно, противоестественно, просто невозможно. Наш долг, наша задача, наше дело — пока еще не поздно, покаяться во всех страшных, непростимых грехах Революции, государства, своих собственных (а их у каждого немало), исправлять ошибки революции, искупать ее преступления, преобразовывать ее согласно с велениями времени, чтобы вместе с ней обновленными и просветленными вернуться в божественное лоно мирового человечества.
МОЛИТЬСЯ, И ВЕРИТЬ, И ЛЮБИТЬ
МОЛИТЬСЯ, И ВЕРИТЬ, И ЛЮБИТЬ1
Печатается по газете «Советская культура» (1991, 26 янв.)
...Продолжая наш разговор, скажу, ссылаясь на чьи-то мудрые слова, что вопросы, на которые можно дать ответы, это «неправильные» вопросы, «правильные» же вопросы — это вопросы, на которые ответов (по крайней мере, определенных, единственных) нет и быть не может. «Правильные» вопросы — я их иногда называю еще «детскими» — непременно касаются Главного (с большой буквы), непременно имеют отношение к тому Главному, о чем мы с вами говорили. И отвечает на них каждый по-своему, по-разному, и даже в разные моменты своей жизни по-разному, иногда прямо противоположно, и отвечает, чаще всего, не словами, а поступками, делами, всей жизнью.
Большинство Ваших вопросов это, по-моему, как раз такие «правильные», и поэтому, не пытаясь однозначно отвечать на них, я буду просто думать над ними вместе с Вами.
Вы спрашиваете, что для меня Главное. С одной стороны, вопрос этот естественный и законный: поскольку все люди разные и один не похож на другого, то и Главное должно быть у каждого свое, особое, личное (как у каждого должен быть и есть свой Бог, особый, личный), т. е. именно мое Главное, для меня Главное. С другой стороны, ведь оно потому и Главное, что оно (и тоже — как Бог) для всех должно быть Главным, единым для всех Главным. Вот вам уже и противоречие — а в мыслях о Главном все полно таких противоречий, когда «высота» оказывается одновременно и «глубиной», а «пустота» совпадает с «полнотой» (ибо только «пустое», освободившееся от мнимого, суетного, «неглавного», может наполниться подлинным, главным, Божьим).
Я не могу одним или несколькими словами определить то, что я называю Главным (и для меня, и для всех), глубоко убежден, что было время (сужу по книгам, по преданиям, по памятникам культу-
1 Статья — ответ на письмо журналистки газеты «Советская культура» Елены Грандовой, познакомившейся с Чичибабиным в сентябре 1990 г. на фестивале авторской песни в Киеве. Начавшийся разговор завершился се письмом и ответами Чичибабина на вопросы, поставленные в письме.
ры, по самой культуре, в конце концов), когда все психически нормальные люди про это Главное знали и в жизни своей этим знанием, этим представлением руководствовались. Пожалуй, они выразили бы это так: Главное — это мое отношение к Богу, мои отношения с Богом. Не всякий нашел бы эти слова, но, если бы сумел и смог, все сказали бы так или похоже. Неверующий вместо слова «Бог» сказал бы: совесть, или любовь, или дух, или «мое представление о добре, о справедливости, об истине», — суть бы от этого, как Вы понимаете, не изменилась. Конечно, и тогда жизнь людей была и тяжелой, и страшной, в чем-то, пожалуй, для огромного большинства людей и тяжелее и труднее нынешней: не то, что молоко для ребенка или мясо для мужчины, но и просто кусок хлеба доставался дороже, и, конечно, и в те времена, как всегда, были мошенники, распутники, воры, убийцы, — и все-таки про это Главное знали все, и все знали, что это и есть Главное, и жили этим Главным. Про это Главное знал каторжник, осужденный за страшное преступление, за насилие, за убийство, и знала женщина, подававшая ему милость — кусок хлеба или денежку, — все знали, каждый знал. В человеческих душах, невежественных, непросвещенных, жило представление о добре и зле, понятие греха и покаяния. Люди и тогда грешили, но знали, что это грех, что это против Бога (или против совести, против любви, против справедливости, как бы они это ни называли, в конечном итоге — против жизни, против мира) и заслуживает «Божьего наказания», требует искупления. И с этим знанием жили люди, десятки поколений людей, — я убежден в этом, я верю в это, я знаю это: я верю книгам, верю мировой литературе, мировой духовности, которая вся на этом зиждется. И, зная о Главном, люди были причастны Вечности.
Для меня Главное и Вечное — это синонимы. Вечность, по-моему, это вовсе не временное понятие, как думают некоторые (дескать, пройдет время — и настанет Вечность, есть даже такие стихи, не помню чьи, что из лет складывается Вечность, — или что-то в этом роде), а понятие философское, религиозное, и, напротив, нечто противоположное и противоречащее времени. Вечность не когда-то была и не когда-то будет, а всегда есть, сегодня есть. Вечность это то и там, где пребывает Бог и где проявляется Его воля. Сегодня — и у нас, и за рубежом — миллионы людей живут временным, то есть преходящим, бренным, не подлинным, неглавным. А нужно жить вечным и в Вечности, то есть не только, скажем, в 1991 году, но и в Вечности, и для Вечности.
Я еще так могу сказать о Главном: представьте себе, что человеку сказали, абсолютно достоверно, неусомнительно, что после-
завтра в три часа дня он умрет, — как бы узнавший это прожил оставшиеся часы? По-моему, вот тогда с большинства людей и сошло бы, спало бы все неглавное, невечное, не подлинное, все то мнимое, ложное, суетное, небожье, а значит, и нечеловеческое, чем все мы живем в повседневности: карьера, зарплата, политика, вещи, тряпки, склоки, звания, вся наша ложь, алчность, зависть, вражда, и осталось бы Главное, осталось бы то, что в нас задумал Бог, и то, с чем мы должны предстать перед ним: я и Вечность, я и Бог. Причем, повторяю, что слово «Бог» я употребляю для облегчения изложения моих мыслей и взглядов из-за отсутствия в моем привычном лексиконе другого такого же «универсального» слова, которого, скорее всего, просто и не существует.
Когда я говорю «Бог», я имею в виду не церковного Бога, в которого я не верю. Мой Бог начинается не «над», а «в», внутри меня, в глубине моей, но в такой дальней, такой недоступно сокровенной, такой совершенной моей глубине, когда она, не переставая оставаться моей глубиной, моим невозможно-идеальным, лучшим, прекраснейшим «я», Божьим замыслом меня, становится одновременно и такой же Вашей глубиной, и глубиной всех других людей, живущих и живших на земле, и глубиной всех животных, всех растений, божественно-всемирной глубиной. И еще я убежден, что Бог один — у православных и католиков, у христиан и евреев, у мусульман и буддистов, у верующих и неверующих, иначе вся идея Бога теряет всякий смысл. Вот то все, что я могу сейчас ответить на Ваш вопрос о Главном.
Но вместе с тем, — недаром же оно Главное, — это и ответ на многие другие вопросы, которых мы с Вами касались. Понимаете, все зло, вся тяжесть и тьма нашей жизни оттого и в том, по-моему, что в ней перестало ощущаться Главное, и поэтому сама жизнь лишилась смысла и значения, лишилась подлинности. Не знаю, когда и как это случилось с нами, но мы в нашей жизни подменили Главное если не прямо ложным и мнимым, то уж точно «второстепенным», вторичным, отвлекающим, мешающим, запутывающим. Беда не в жизни, не в быте, а в том, что жизнь и быт — без главного, что они сами — жизнь и быт — заняли главное и единственное место, а больше, кроме них, ничего и нет. Господи, да, конечно же, «нужно ребенку молока достать, мужу добыть мяса, в чем-то нужно ходить на работу в морозную зиму, чтобы еще и чучелом не выглядеть», и лечение, и лекарство нужны, когда заболеешь, но все это нужно делать, как делали наши предки, с любовью, помня о Главном, и тогда, мне кажется, не должно быть ни отчаяния, ни апатии.
Вы противопоставляете «настоящее искусство», «поэзию, музыку» и жизнь с ее «суечением» и бытом. А их не нужно противопоставлять. Нужно просто всегда помнить про Главное и знать, что оно-таки Главное, — и тогда не «приложится все остальное», а озарится и осмыслится этим несомненным Главным, вечным, подлинным, Божьим. В доставании молока и добывании мяса — ведь это же акт любви — смысла, подлинности, добра ничуть не меньше, чем в «прекрасных стихах или Бахе», но нужно же их почувствовать, волю Божью услышать во всех этих делах.
Вы спрашиваете, что мне помогало в жизни, какие были ориентиры, — вот это знание помогло и было ориентиром. В глазах большинства «взрослых» людей (сам-то я всю жизнь считаю себя «невзрослым») я выгляжу, наверное, юродивым или уродом: после пяти тюремных и лагерных лет (с июня 1946 по июнь 1951 — Вятлаг, север Кировской области) у меня не осталось никаких лагерных воспоминаний, настолько не осталось, что, когда приходится попадать в компанию бывших лагерников, зеков, я чувствую себя среди них самозванцем — ничего не помню. У меня была надежная внутренняя защита, как бы «внутренний монастырь»: мои мечты, книги, стихи, моя духовная свобода, этим я и жил, а нестрашным лагерным бытом, — не в лагере, а в Вечности. Как и потом, после лагеря, когда «вышел из игры взрослых людей» и перестал участвовать своими стихами во всеобщей идеологической лжи, 25 лет просыпался под будильник, ходил на службу в трамвайно-троллейбусное управление, составлял заявки и отчеты — при этом считал себя счастливым человеком, потому что не продался, устоял, душу сохранил. Когда о моей судьбе говорят, что она трудная, тяжелая, мне смешно: опять все напутали. Вот если бы я продолжал издавать лживые книжки без главных, любимых стихотворений, без моего лица и голоса, если бы приспособился, применился, пошел на компромиссы — вот это была бы тяжелая, трудная судьба.
Казалось бы, так просто ответить на Ваш вопрос о «политизации» культуры: нет, не должна, не может быть политизирована. Культура служит Вечному. «Служит», наверно, не очень точное слово: не нравится мне, что культура может чему-то служить, хотя бы и Вечности, и истине, и Богу. Но она оттуда, из этого ряда, от Вечности, для Вечного, ради Вечного. Для меня культура и Вечность, культура и совесть, культура и истина, культура и красота, культура и Бог — это тоже в каком-то смысле синонимы или почти синонимы, во всяком случае — что-то стоящее близко и неотделимо. При чем же тут политика? Но ведь смотря что разуметь под
политикой. Вот семь человек выходят на площадь, протестуя против ввода наших войск в Чехословакию, — это политика? Наверное, можно рассматривать и как политический акт. Но ведь прежде всего это акт совести, не мирящейся со злом и ложью. А декабристы? А народовольцы? А лейтенант Шмидт? Вся гражданская деятельность Сахарова — это политика. И что, по-вашему, с большей несомненностью и очевидностью, принадлежит культуре: его наука, физика, изготовление водородной бомбы или его политические выступления, защита диссидентов, все то, за что его знают и любят во всем мире?
Когда писатель, поэт, интеллигент поднимает свой голос против явной социальной несправедливости, против тирании и насилия, лжи и беззакония, когда он выступает против крепостного права, против тяжелого положения рабочих, против национального угнетения, против еврейских, или армянских, или негритянских погромов, против заключения в тюрьмы и лагеря инакомыслящих, против помещения в психушки здоровых людей — это политика, это политизация культуры? Если да, то, значит, всегда, во все времена культура была, и есть, и обязана быть политизированной. Это еще с библейских пророков ведется. Словом, и в этом вопросе, как и с бытом: помня о Главном, во имя Главного. Лишь бы не было подмены и путаницы.
Политика, если даже она действительно стала неотъемлемой частью нашей жизни и если уж без нее никак нельзя, не может быть главным делом. Политика это нечто преходящее, временное, меняющееся на глазах. Политические взгляды человека могут меняться. Говорят же, что каждый нормальный человек — в молодости революционер, а к старости консерватор. Я и сам не зарекаюсь. Я думаю, что таких измен не нужно стыдиться. Человек изменяется и поэтому неизбежно изменяет. Он не может изменить Главному, не может изменить совести, Божьей воле (насколько он ее слышит), призванию, не может, не должен изменять себе; всему остальному — пожалуйста. Взгляды, увлечения, суждения с годами меняются, и мы изменяем им. Пока сами живые, пока не остановились в развитии, в росте, в пути, пока способны, слава Богу, меняться и изменять.
Но мне, как, по-моему, и Вам, противно, смешно и страшно то всеобщее, стадное шараханье из крайности в крайность, которое мы переживаем. Вчера мы любили Чапаева в действительно великом фильме, сегодня поем песни о поручике Голицыне и корнете Оболенском. Вчера собирали в своих библиотеках лучшие книги из серии «Пламенные революционеры» (а там были хорошие кни-
ги, для этой серии писали Трифонов и Окуджава, Эйдельман и Давыдов, Аксенов, Войнович и др.), сегодня объявляем революцию преступлением и ошибкой, считаем злодеями и врагами народа и России не только Ленина и большевиков, но заодно и Чернышевского, и народовольцев, и чуть ли не декабристов, а идеального героя находим в Столыпине. В этом опять-таки сказывается отсутствие культуры, элементарное, примитивное невежество. И отсутствие внутренней, духовной, единственно настоящей и необходимой свободы.
Мы воюем за всякие политические, гражданские права и свободы, а внутри остаемся рабами и ведем себя как рабы. Иногда — как взбунтовавшиеся, взбесившиеся рабы. И к православной церкви мы, вчера еще поголовно атеисты, бросились как темные рабы, которым померещился какой-то выход, какое-то утешение. Когда я смотрю телевизионные молебны и проповеди, я, религиозный человек, готов записаться в воинствующие безбожники. Радости от этого нет, а тревожно и страшно. В Москве — сам видел — слоняются молодые люди, юноши и девушки, на глазах распутничают, дерутся, матерятся, а на груди — православный крест. Завтра они пойдут стадом громить и убивать евреев, коммунистов, интеллигентов — это ведь все «враги России». В киосках и на лотках — тоже сам видел — рядышком лежат иконы и молитвенники — и эротические открытки и инструкции по «технике секса». А церковь радуется и торжествует. Александра Меня убили — и ничего, а убиенного царя собираются канонизировать как святого.
Вы тревожитесь, «нужно ли, возможно ли так». Нельзя, невозможно, стыдно, гадко. К Богу приходят индивидуально, личностно, каждый своим единственным путем, через сомнения и муки. И непредсказуемо — ужасно это невероятное, немыслимое, кощунственное и в то же время абсолютно понятное и, вероятно, неизбежное объединение самых косных и твердолобых коммунистов и церковников, монархистов, белогвардейцев. Как сказал поэт, «они всегда договорятся»1: интересы-то одни.
А вот «нам» с «ними» вряд ли можно «договориться». И вряд ли этого от нас хочет Бог. Есть вопросы, на которые ответов у меня нет, я их не знаю, не вижу. Мне, как и Вам, кажется, что Ст. Куняев ни при каких условиях не объединится с Окуджавой, а ан. Иванов с Василем Быковым. И я, как и Вы, не знаю, «что же делать». Правда, когда в открытом море гибнет корабль, идет на дно, и люди бросаются спасать детей, женщин, самих себя, они на те минуты и ча-
1 Цитируется стихотворение Е.А. Евтушенко «Мед»
сы не думают, кто из них коммунист, кто фашист, и действуют сообща, вместе. Вот разве так. Но ведь это случай экстремальный, предсмертный. Возможно ли так в жизни? Ведь это же нужно всем и каждому почувствовать, ощутить, что действительно остаются в жизни минуты!
Согласно Божьим заповедям, нужно, должно ненавидеть грех и любить грешников, не принимать зла, противостоять, противодействовать, противиться злу и любить носителей зла, любить злодеев, любить в них людей, наших братьев и сестер. Я знаю, что это так, знаю, что так нужно и должно, но понять это ни умом, ни сердцем не могу, тем более не могу применить это в жизни. Я не могу любить убийцу, мучителя, насильника, не могу отделить их страшных дел, их злодейств от них самих, не могу увидеть в них человеческого, Божьего. Наверное, это мой грех, моя вина, мое несовершенство, мое несчастье, но и не могу и вряд ли хочу мочь. Да ведь люди, о поведении которых на писательских пленумах читать было тошно, слава Богу, не убийцы и не насильники, и «договориться», а тем более «объединиться» с ними значило бы «объединиться» с их взглядами, «объединиться» со злом, не с ними как с людьми (я допускаю и даже, кажется, знаю, что некоторые из них, помимо проповедуемых ими взглядов, в жизни, в поведении хорошие люди с близкими мне литературными вкусами и т. д.), а именно с их взглядами, с тем, что они говорят, к чему призывают, значило бы полюбить не грешников (в отношении этих людей это как раз можно было бы сделать), но сам грех, принять на душу их грехи, то есть пойти против себя, против Бога. Нет, это тоже не нужно, нельзя, невозможно.
Я очень люблю Тютчева, не считая божественного Пушкина, и наряду с Лермонтовым он мой самый любимый и, вероятно, самый великий русский поэт, но знаменитого его четверостишия о России я никогда не принимал и не любил. Я тоже «верю, что наша Россия сумеет вырваться из ямы», но, в отличие от Вас, не потому, что «очень верю в Россию», а потому, что очень верю в Вечное Человеческое, в Божье в человеке.
«Особенная стать» у России, конечно, есть (как у всякой страны, у каждой нации, у каждого человека) — ну хотя бы ее территориальная, пространственная огромность, безмерность, безусловно, наложившая отпечаток на национальный характер: вряд ли мы когда-нибудь научимся, сумеем, захотим так работать, так относиться к труду, к делу, как немцы или японцы на своих небольших пространствах, и вряд ли они оценят, поймут, полюбят нашу русскую «волю». Но какой он, этот русский национальный характер?
Славянофилы говорят, что мы, русские, всемирноотзывчивы, духовны, смиренны, добры. Все так. Но я в своей жизни встречал в русских людях столько национальной гордыни, кстати, невежественной, глупой, дикой, столько жестокости, нетерпимости, бездуховности, бессовестности... Для меня самый прекрасный, идеальный русский человек, из русских русский — наш Пушкин. Но, во-первых, не такой уж он и русский, как известно, а во-вторых, так ли уж он характерен, «нормативен» для России с ее «особенной статью»? Сергий Радонежский и Иван Грозный, Серафим Саровский и Стенька Разин, протопоп Аввакум и Чаадаев, Петр Первый и Лев Толстой — ужели же они не русские, а что же между ними общего? Что-то же есть, да словами не скажешь — вот вам и национальный характер.
Политико-экономические преобразования в нашей стране я, как и большинство ее населения, встретил с надеждой, радостью и восторгом, тем более что они коснулись и лично меня, и многих моих друзей и знакомых, возвращенных из лагеря.
Но, как Вы знаете, все такие «преобразования» осуществляются не так, как они задумывались, как нам всем хотелось бы. Почему это так, об этом, наверное, все мое письмо. Мы и в этом потеряли Главное, потеряли смысл, ради которого все и было задумано. Со всеми отвоеванными правами и свободами мы так и не обрели единственной внутренней свободы и остались рабами, невежественными, темными, злыми. Вместо присущего свободным (и культурным) людям спасительного и плодотворного чувства собственной вины, покаяния, ответственности мы, как свойственно рабам, культивируем в себе мстительное и губительное чувство обиды, занимаемся поисками виноватых и находим их в ком угодно, только не в самих себе. А ведь это не большевики, не интеллигенты, а мы сами убивали друг друга в братоубийственной войне, рушили храмы, одобряли, приветствовали, осуждали, молчали, обезжизнивали землю, на которой живем, уничтожали не то что реки, а целые моря, строили атомные станции, которые взрывались и обрекали на страшную смерть население трех республик, — кто ж еще, как не мы сами? И, как рабы, мы и сейчас ждем спасения, помощи, чуда от кого угодно — от правительства, от православной церкви, от политических лидеров. Бог знает от кого, — только не от самих себя. А политические лидеры тоже ищут виноватых, создают партии, борются за власть, добиваются не правды, а правоты. А до народа, до женщин, стоящих в очередях, никакой партии, никаким вождям нет дела: чем хуже, тем лучше, лишь бы я оказался прав, лишь бы мой верх.
Что делать? За всех — не скажу, не сумею, а нам с Вами — то единственное, что нам назначено, и что мы можем и обязаны делать, и что во все времена делала русская интеллигенция: нести людям, народу культуру, свет, добро, освобождать души от темноты, от зла, от рабства, любить и вызывать ответную любовь, бороться — только не силой, не враждой, не ненавистью — с невежеством, нетерпимостью, ложью, политиканством, говорить о Главном, призывать к поискам истины и смысла. И молиться. И верить. И любить.
ПОВЕРЬТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА
ПОВЕРЬТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА
Печатается по журналу «Вопросы литературы» (1994, вып. IV. С. 188—213)
Беседу вела Татьяна Бек¹
— Борис Алексеевич, я ваши стихи знаю с 1967 года, когда вас совсем не печатали. Мы, студенты МГУ, пели их «на картошке» как свою любимую песню:
Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.
...Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой...
Мы тогда об авторе ничего не знали. Какая же биографическая реальность стоит за этими пронзительными строчками?
— Когда мне задают вопросы биографического плана, я теряюсь. Поэт рассказывает о своей жизни в стихах и рассказывает то, что сам считает в ней особенно интересным, значительным, главным. Эти стихи — о лагере, где я провел пять лет и откуда вышел еще при Сталине. Они написаны в 1946 году... А теперь я лагерь вспоминаю редко, вовсе не хочу вспоминать.
— У вас есть строчка: «Я слишком долго начинался...» Что тут имеется в виду: что вы слишком долго внутренне созревали как поэт или что вы слишком долго не приходили в полный рост и в полном объеме к читателю?
— И то и другое, конечно. Но я как поэт — сам для себя — очень долго начинался, я не знаю почему. Это тайна для меня самого. Если меня спрашивают, когда я начал писать стихи, отвечаю: писал всю жизнь, но те стихи, которые я не стыжусь читать и для самого себя рассматриваю всерьез — именно те, с которых вы начали. 1946 год. Мне было 23 года! Это, наверное, как-то связано
¹ Бек Татьяна Александровна — поэт, журналист (Москва).
с историей поколений. По-моему, наши поколения начинаются значительно позже, чем поколения пушкинской эпохи. Мы очень поздно начинаем. И поздно начинаемся как люди.
— А почему?
— Бог его знает.
— А как складывался ваш собственный лирический характер, который совершенно неповторим, и темперамент? Я знаю, что это всегда тайна, и все вопросы, которые я собираюсь вам за дать, будут попыткой вторжения в творческую тайну. И все же какие события, встречи, книги стали для вас ключевыми и формирующими?
—Я, наверное, в очень большой степени книжник. И я никогда не смог бы стать прозаиком (если и буду писать прозу, то исповедально-размышлительную), поскольку абсолютно равнодушен и невнимателен к подробностям Материального бытия, без которых художественная проза не может существовать вообще. Я совершенно антибытовой человек. Меня остро интересует внутренняя жизнь человека, но я никогда не замечаю, как он одет. Я не вижу, какая у него прическа.
Я всегда жил в мире вымышленном, но мне он кажется более реальным, чем обыденная жизнь с ее бытом и суетой. В книге жизнь очищена от всех ненужных подробностей, мнимостей, которыми наша жизнь полна. И впрямь, на меня оказали большее влияние именно книги. А какие книги? В детстве я любил приключения. А уж через всю мою сознательную жизнь прошел Лев Николаевич Толстой, к которому у меня отношение как к личному учителю. Вообще русская литература, великая русская литература.
— Вопрос для вас, быть может, и коварный. История поэзии XXвека была богата школами и течениями. От начала столетия: символисты, акмеисты, футуристы... В конце 20-х — обэриуты. Затем — провал. Торжество обслуживающего тиранию общего соцреалистического стиля и крупнейшие исключения — одиночки. В 50-60-е годы — редкие попытки выйти на свет с программой и сообща (Лианозовская школа, ленинградский кружок учеников Ахматовой, смогисты) — и непременный разгром ответвлений от официального русла как крамолы.
Вы всегда были поэтом одиноким, штучным, «непримкнувшим». Более того: свою отдельность вы постоянно подчеркиваете и в стихах:
Не льну к трудам. Не состою при школах.
Все это ложь и суета сует...
Или:
Есть в мире мастера, течения и школы,
все ж в них меньше чар, чем в хлебе и вине.
Однако: какое из русских поэтических течений вам ближе других? Кого бы из поэтов (не обязательно ровесников — выбирайте хоть из старших на столетие) вы могли бы представить себе, пусть на короткое время, в своей группе?
—Я уже сказал, что я заядлый книжник, и когда я читаю нечто, что потрясает меня, — мне совершенно все равно, к какому течению принадлежит автор, новаторская это книга или традиционная. Меня одинаково потрясает «Все течет» Гроссмана, если говорить о книгах более или менее последнего времени (совершенно традиционный роман, в подчеркнуто традиционной манере написанный), и «Москва—Петушки» Венички Ерофеева, книга новаторская. Дело не в этом. Дело в том, серьезно это или несерьезно. Почему меня сейчас раздражает «новая поэзия», которая утверждает себя именно как школа (авангардизм... концептуализм...)? Потому что для меня она несерьезна. Я считаю, что это несерьезное отношение к литературе, что это именно стремление утвердить себя как школу и не думать о тайном в жизни — о том, как живется людям. Для меня литература — это не баловство, это не игра. Меня совершенно не устраивает установка: «Читатель милый, поиграй со мной...» Я считаю, что подлинная русская литература никогда не играла с читателем (да, все искусство — игра, но это высокая игра, это священная игра). Никогда ни Пушкин, ни Лермонтов не пригласили бы читателя с собой поиграть. Какая там к черту игра! Это игра на разрыв сердца...
— «Играй же на разрыв аорты…» — как сказал Мандельштам.
— Облегченная игра в литературе меня никогда не волновала, я проходил мимо нее... Хотя неправда. Я не миновал увлечения фу туристическими, формалистическими штучками. Во времена моей молодости Кирсанов казался новатором.
Сейчас большой интерес к обэриутам, Введенскому, Хармсу. А меня это опять-таки не волнует. Я не вижу в них того серьеза и трагизма, непременных в большой традиционной русской литературе, на которой я воспитан и к которой привык душой. Короче говоря, мне важно, не к какой школе принадлежит человек, а насколько серьезно его творчество, насколько оно отвечает тем проблемам и тем вопросам, над которыми я и сам мучаюсь.
У нас ведь есть прекрасные пушкинские заветы. «Исполнись волею моей...», «Веленью Божию, о муза, будь послушна».
Я совсем недавно узнал великолепную молитву Зинаиды Миркиной, которую я все время повторяю и так люблю: «Господи, да будет воля Твоя, а не моя». Пушкинские заветы совершенно совпадают с этой молитвой. Именно исполнение Божьей воли, а не своеволие, которое я, к сожалению, вижу во всех этих новомодных течениях и школах. А когда исполняешь Божью волю, совершенно неважно, как, в рамках какого направления ты пишешь. Важно слушать Божью волю и подчиняться ей. Но мне кажется, что я об этом сказал лучше в своих стихах. Вот одно такое стихотворение:
ЕФИМУ ВЕРШИНУ
Что-то стал рифмачам Божий лад нехорош,
что не чую в них больше его я,
и достались в удел им гордыня и ложь
и своя, а не Божия воля.
Наших дней никакой не предвидел фантаст.
Как ни долог мучительный выдох,
мир от атомных бомб не погиб, так, Бог даст,
не погибнет от слов самовитых.
Можно верстами на уши вешать лапшу,
строить храмы на выпитом кофе,
но стихи — я-то знаю, я сам их пишу —
возникают, как вздох на Голгофе.
Конструировать бреды компьютерных муз,
поступившись свободой и светом,
соблазняйся кто хочет, а я отмахнусь,
ибо дар мой еще не изведан.
Не умеющий делать из мухи слона,
как же суть свою в жизни сыщу-то,
где не царственен стыд, и печаль не славна,
и не прибыльны тайна и чудо?
Сочинитель, конечно, не вор и не тать —
грех иной, да и слава не та, мол, —
но возможно ль до старости бисер метать
и с ума не сойти от метафор?
— Ваша книга «Колокол» (1989) вышла после очень долгой разлуки с читателем. Какова глубинная символика этого названия?
Есть ли тут сознательная перекличка с Лермонтовым? Или... У меня это скорее ассоциируется с Мандельштамом: «Шум стихотворства и колокол братства».
— Название это многоемкое. Вероятно, тут и Лермонтов, и строчка Мандельштама, которую вы вспомнили, и еще много планов. Ведь сам колокол — как предмет, как символический предмет, как символ— многозначен. Самый первый, поверхностный план — гражданственный, то есть, по-лермонтовски, «колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных». Дальше — это религиозный смысл: колокол как нечто священное. Это еще и символ России для меня, символ русской духовности.
«Колокол» — это по-настоящему моя единственная книга, если на то пошло. (Хотя одновременно в Киеве вышла книжка «Мои шестидесятые».)
Я часто повторяю, что не люблю и стыжусь своих первых книг. Дело в том, что моя поэтическая судьба складывалась трагически. Первая книга выходила очень долго, как это водилось в центральных издательствах. Рукопись туда была отослана моими друзьями — я сам изданием стихов не умею заниматься, мое дело писать, — отослана в 58-м году, а вышла в 63-м. То есть все началось в разгар шестидесятничества, а когда книга появилась — хрущевская оттепель уже шла на спад... Все мои ранние книжки были не мои книжки. Там, конечно, были мои стихи, но главных не было. А написаны они, главные, уже были. Уже тогда я имел право назвать книжку «Колокол», было написано «Не умер Сталин...», и я вышел к читателю не таким, каким хотел бы появиться. Последующие книги появились в Харькове — через два года: 63-й, 65-й, 67-й... С выходом последней из перечисленных книг совпал кризис моих гражданственных и политических интересов и «вер». Был личный кризис. Я мог кончить чем-то очень плохим: или покончить с собой, или сойти с ума. Но появилась Лиля и спасла жизнь и разум мой.
Книжка 1967 года «Плывет «Аврора» была уж совсем не моя, совсем плохая... И когда появился в жизни свет и спасение, я подумал: а для чего, собственно, я издаю плохие книжки, в которых читатель не видит моего лица, не видит моего главного, моей сути? И я решил, что буду свободным человеком, что не буду связывать себя мыслями о том, напечатают это стихотворение или нет, не буду писать с оглядкой на цензуру, а буду писать, как диктует мне Бог, буду писать для себя. Я стал счастливым, я стал свободным человеком. Я перестал зависеть от конъюнктуры, от издательских планов, от критики.
Итак, «Колокол» — это первая и единственная моя книга, это я, Чичибабин. До «Колокола» я писал, не надеясь быть напечатанным при жизни, — кто же мог ожидать, как обернутся у нас события? Ну и что, думал я, может, после смерти вспомнят и найдут...
— Неужели вам совсем не нужна аудитория и никакого значения для вас не имеет широкое читательское эха? Для кого вы пишете? Достаточно ли вам одного читателя или даже и один не обязателен?
— Вопрос об аудитории, знаете ли, вопрос очень непростой. Вот я встречаюсь с поэтами — особенно с молодыми поэтами, — которые утверждают, что они пишут только «для себя». Я в это не верю. Поэты, музыканты, художники не могут работать исключительно «для себя». У меня, когда я пишу, есть, всегда воображаемый читатель-друг, которого я, быть может, никогда в жизни не увижу. Я не представляю себе его конкретно. Он у меня бесплотный, без имени, национальности, роста... Если хотите, эта персонификация моей совести, моей души, лучшего меня. Но воображаемый читатель у поэта должен быть. Мне всегда нужна была аудитория, да она всегда и была у меня — хотя бы в лице этого воображаемого читателя, друга, единомышленника. А потом поэты в этом отношении «счастливее», чем прозаики, ибо стихи — запоминаются и всегда есть кучка (довольно значительная) людей, которые готовы тебя слушать. В любом городе такая кучка была. А стихи обладают прекрасной возможностью: прочитаешь их одному человеку, строчки запоминаются, они передаются из уст в уста, потом могут стать даже песней... А когда перед нами проза — можно только пересказать содержание.
— Года четыре назад к вам пришла совсем иная реальность в смысле общения с аудиторией. Вы стали обильно печататься, появилось много интервью и выступлений (знаю, что, недавно прошел ваш вечер в телецентре «Останкино»). Мучительно ли это для вас или органично, дает ли новый импульс к творчеству или проходит по касательной?
— «Мучительно» — не скажу. Скорее это мне трудно в чисто физическом плане: мне 71 год. Я сердечник, и мне тяжело выступать перед большой аудиторией. И к сожалению, я в скором времени должен буду это прекратить и от большинства выступлений отказываться. А случись этот выход к аудитории несколькими годами раньше — какое бы это для меня было счастье! Есть поэты, которые пишут для заведомо узкого круга людей. Мои же стихи — я это чувствую — рассчитаны на большую, на площадную аудиторию. Мне не интересно писать для десятка — мне интересно писать для тысяч.
— Вы так и пишете, ваша интонация обращена ко многим людям. «Люди, радость моя...» — начало одного из ваших стихотворений. Но я вот еще о чем хочу сказать.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах, —
мой дух возращивался в тюрьмах
этапных, следственных и прочих,
заявили вы однажды. А в другом стихотворении я читаю: «Всех родней поэту те, кто здесь гоним был...» И еще, и еще... «Художник бежит от здоровья, от нежности и кутежей...» Этот мотив постоянно звучит в вашей поэзии, иногда формулируясь в лоб, иногда звуча подспудно. Почему и впрямь русскую лирику издавна питали и вдохновляли муки, гонения и изгойство? И почему именно такую судьбу вы выбираете для российского поэта в противовес благополучной?
— Специально я никогда над этим вопросом не задумывался. Но так оно складывалось. И не у одного меня, а во всей русской истории. Сама русская история печальная, страшная, трагическая, кровавая. Она полна теми, кому было очень плохо, и именно они (возможно, тут я и ошибаюсь) были, лучшие люди России, самые чуткие, самые думающие, самые интересные.
Так складывалась моя жизнь, что я, в силу каких-то особенностей характера, оторван от того страдающего большинства, которое принято называть народом, скажем так. У меня прямых, близких контактов с народом никогда не возникало, несмотря на четыре военных года и пять лагерных лет. И в то же время я всю жизнь считал себя частью народа и свою жизнь, свою судьбу неотделимой частью народной жизни и судьбы. Да и ходил я на службу совсем не элитарную. Я человек вообще замкнутый и необщительный. В характере есть такое несоответствие: замкнут, хотя пишу для тысяч. А почему я так настаиваю на своей близости с гонимыми, так я же воспитывался на русской литературе! А русский писатель всегда был на стороне тех, кому плохо.
ПИСЬМА БОРИСА ЧИЧИБАБИНА ИЗ ВЯТЛАГА (1948–1951)
ПИСЬМА БОРИСА ЧИЧИБАБИНА ИЗ ВЯТЛАГА
(1948—1951)
ПИСЬМА К РОДНЫМ¹
ПРЕДИСЛОВИЕ
Его арестовали в Харькове, прямо на улице в июне 1946 года, когда он шел на свидание с любимой девушкой и, казалось, никакой вины, караемой законом, за собой не чувствовал.
Позади было самое тяжелое испытание в его жизни — война, впереди — любовь, стихи, учеба в университете.
Перед войной он год учился на историческом факультете Харьковского университета, после демобилизации в 1945 году поступил на филологический. И во время летней сессии, когда сдавал экзамены сразу за два курса, был арестован.
Позже, когда Бориса Чичибабина (по паспорту Полушина — фамилия усыновившего его отчима; Чичибабин — фамилия матери) спрашивали, за что его арестовали, он всегда отвечал: «Ни за что».
Действительно, никакой антисоветской пропаганды студент Борис Полушин, по его разумению, не вел, но в то же время в разговорах с друзьями, в стихах, он часто выходил за рамки дозволенного официальной идеологией.
Интересно увидеть молодого Бориса Полушина глазами его сокурсников по филологическому факультету Харьковского университета. Вот отрывок из письма известного критика Владимира Турбина Борису Чичибабину от 30.12.1990 года:
«Дорогой Борис, читая тебя время от времени или глядя на тебя на экране телевизора, с нежностью вспоминаю зиму 1945/1946 года: промерзшее здание факультета на Совнаркомовской и декана Реву, который ввиду отсутствия электроэнергии самолично звонил в колокольчик, расхаживая по коридору, давая знать о начале перемены...
Был сортир: лопнувшие канализационные трубы, заледеневшие зловонные кучи.
Но, знаешь, нигде и никогда больше не встречал я стольких милых, добрых, отзывчивых людей, сошедшихся в одно место. У меня о первом курсе филологического факультета Харьковского университета — воспоминания непреходяще-радужные и благородные. Было какое-то простодушие — чистое, бескорыстное. Ты — в красных сапогах, густой, золотисто-пшеничный чуб падает живописно на лоб. Было твое стихотворение в стенгазете, которое кончалось меланхолическим двустишием:
¹ Впервые были опубликованы в журнале «Радуга» (К., 1999, № 8).
«Грустно мне: я ни во что не верю —
Ни в любовь, ни в жизнь, ни в коммунизм».
Батюшки, а ведь тогда, как бы то ни было, напечатали такое. Уж хоть и в стенной, а в газете. И удивляться остается тому, что ты тотчас же, в день, когда стенгазету вывесили, не схлопотал срока — милостивцы какие-то, еще чуть не год терпели тебя...»
Кто знает, возможно, эти строки положили начало более пристальному наблюдению за стихами и высказываниями Бориса Полушина.
Еще один фрагмент, из воспоминаний поэтессы Марлены Рахлиной, дружившей с Борисом Чичибабиным всю его жизнь, в те далекие годы студентки второго курса филологического факультета:
«Появившись в коридорах нашего филфака, новый первокурсник сразу вызвал интерес и любопытство своей, на первый взгляд, обычной, но уже при следующем взгляде необычной «штучной» внешностью. К тому же сразу попали к нам, передаваемые из рук в руки, маленькие его книжечки, тоже необычные, с яркими, густыми, своеобразными стихами. Он «издавал» их, складывая школьную тетрадь пополам вдоль переплета. Получалась книжечка. И — ошиблась Лидия Чуковская¹. Почерк его с самого начала был таким, как и потом: тоже необычным...
Он был маниакально целеустремленным человеком. Я помню, как у него дома читала его детские письма к матери из пионерского лагеря, когда он был уже в лагере режимном. Все письма были о книгах: он просил прислать ему детские книги, перечислял названия, просил журнал «Пионер» и другие «книги интересные». Все письма были о книгах! А было ему тогда лет двенадцать. Никогда Бориса не интересовало ничто бытовое, такое важное для большинства людей...
Книги, искусство, стихи — вот чем он был действительно одержим. Книги, искусство, стихи — вот что было его единственной страстью, а творчество — естественным состоянием, даже когда это было опасным для жизни...
Но зато ничто в мире не могло остановить его, когда стихи были написаны. Он их немедленно обнародовал: одному человеку или двадцати, и первому попавшемуся тоже.
И так было всегда: и после лагеря, когда были написаны гораздо более сознательные и серьезные стихи, чем полудетское «Мать моя посадница». А ведь он уже знал, чем такие вещи кончаются, и в этом смысле ничего у нас не изменилось»².
¹ Л.К. Чуковская, увидев почерк Чичибабина, сказала, что такой почерк приобретается в лагерях.
² Рохлина М. Я хочу, чтобы все видели его живым // Борис Чичибабин. В статьях и воспоминаниях. Харьков: Фолио, 1998. С. 160—163.
Упомянутое стихотворение, очевидно, явилось одной из причин ареста. Хотя оно совсем не безобидное, но все же больше задиристое и «хулиганское», Бориса Алексеевича всегда раздражало напоминание о нем. Но, так получилось, что написанное в двадцать три года стихотворение стало фактом биографии, резко изменившим его жизнь.
И, наконец, еще одна зарисовка из письма сокурсницы¹ Бориса, поступившей в университет сразу после школы и по моей просьбе написавшей все, что помнит о Борисе Полушине:
«... Была другая группа — фронтовики, участники ратных и трудовых сражений. Мы относились к ним с почтением и любопытством. Выделялся ли на их фоне Борис Полушин? Вероятно, да. Он был высок, элегантен, независим.
В нашу аудиторию, кажется, номер 51, вели две двери — к передним и задним рядам... Не знаю, часто ли бывал на лекциях Борис, но запомнилось его появление на «галерке» — такой светлый, стремительный и — о, ужас! — целующий ручки сидящим там девицам. Ведь мы твердили: «Ты шагаешь с мужчиной рядом, ты в труде и правах равна». А тут такой подрыв основ равноправия...
Говорили, что Борис бывает у В., читает там свои стихи и называет себя Чичибабиным. Какие-то стихи ходили в списках, но кроме «Я срываю подснежники с нецелованных губ...» ничего не запомнилось.
Вскоре они с Марлевой стали неразлучной парой, и на лекциях Борис больше не появлялся.
Гораздо позже стало известно, что Борис в течение 1945/1946 учебного года сдавал экзамены за два курса, то есть не бил баклуши, как казалось.
Никогда не забыть 1 сентября 1946 года, когда мы, оживленные и беззаботные, после первых летних каникул стекались к вестибюлю на Совнаркомовской. Был солнечный день, приподнятое настроение, и вдруг напряженные взгляды, шепот, как шорох, — арестован Борис Полушин. «Взяли», как тогда говорили. Ясно, что не за воровство, значит, политика? Отчаянье. Тьма...»
Из Харькова его конвоируют в Москву, на Лубянку. Никаких воспоминаний, связанных с арестом, Борис не оставил. Только в документальном фильме², снятом о нем почти в конце жизни, немного расскажет: «Самое страшное, что ты идешь свободный, счастливый, влюбленный, а тебя неожиданно хватают, заталкивают в машину, и ты уже отрезан от всего мира, от всех людей».
Сидя в одиночной камере на Лубянке, где «пять шагов в длину и один в ширину», через несколько месяцев после ареста он написал свои знаменитые «Красные помидоры»:
¹ Речь идет о Суламифи Давидовне Фаин.
² «Исповедь поэта». (Киевская студия документальных фильмов, 1993. Реж.Р. Нахманович).
Кончусь, останусь жив ли,
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.
Как я дожил до прозы
с горькою головой.
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
хитрые письмена...
Красные помидоры
кушайте без меня.
После Лубянки Бориса перевели в Лефортовскую тюрьму. Не любивший никаких воспоминаний о тюрьмах и лагере, он однажды, под впечатлением от книги Н. Ильиной «Возвращение», рассказал, что сидел в Лефортово в одной камере с эмигрантами из Харбина, решившими вернуться на родину после войны (уезжали во время революции и гражданской войны). Это были интеллигентные, глубоко верующие люди, и под их влиянием он тоже начал молиться, вылепил из хлебного мякиша крестик и носил его.
Сокамерники были самые разные. Здесь же сидел деникинский генерал Шкуро, рассказывавший пошлые истории о своих любовных похождениях.
В тюрьмах пришлось мытарствовать довольно долго. В «Энциклопедии земли Вятской» сказано о Чичибабине: «После длительного пребывания в тюрьмах, 31 марта 1948 года прибыл в Вятлаг, где и отбывал срок до конца (15 июня 1951 г.)».
Через десятилетия, в стихотворении «Воспоминание о Волге» Борис Алексеевич чуть приоткрыл завесу времени:
...Когда в прозренье болесном и горьком
и никого за участь не коря,
я ждал этапа в пересыльном Горьком,
а путь мой был на Север, в лагеря...
С общих работ в лагере его скоро перевели в контору. По-видимому, свою роль сыграли его каллиграфический почерк и грамотность. Может быть, это и спасло ему жизнь. Сестра Лидия Алексеевна Полушина-Гре-
визирская вспоминает: «Нам Боря писал успокоительные письма, но Марлене сообщал, что очень болен, что у него часто горлом идет кровь и что он утром еле поднимается на работу».
Тюрьма, лагерь — долгих пять лет боли, унижений, несвободы. Но внутреннюю свободу, которой жила и дышала его душа, не отобрали никакие лагеря, тюрьмы, преследования. В Вятлаге он написал немало стихов. Одни, по-настоящему вершинные, он сам опубликовал. Но были и другие — о природе Севера, полюбившейся ему, о людях, живущих в этом суровом краю. Эти стихи, а также — военных лет, Борис Чичибабин включил в рукописный сборник «Ясная Поляна. Реалистическая лирика 1952». Многие стихотворения из этого сборника вошли в первый раздел настоящей книги.
Лилия Карась-Чичибабина
ПИСЬМО 1-е¹
Дорогие мама и Лидуська²!
Я сдержал свое слово и исполнил то, что обещал вам перед разлукой. Никаких надежд на эту вещь я не возлагаю, было б лучше так, как я хотел, письмо И.С.³, но папа забраковал. Очень жаль Сергея⁴, так я и не попрощался с ним. Мне живется сейчас очень хорошо, т.е. так хорошо, как здесь еще не было и вряд ли и на воле большинству людей живется. Самое страшное уже за плечами. Не горюйте, скоро увидимся.
Мамочка, я за все, за все благодарю тебя. Желаю тебе здоровья и счастья. И только очень прошу: никогда не обещай мне того, о чем не уверена, выполнишь или нет: у меня ведь это с детства, теперь, пока у меня не будет тех однотомников Куприна и Островского, о которых ты говорила, я не успокоюсь. И где ж твоя «Роман-газета» или хоть бы самый скверный журнал?
Ну, ладно, не ворчу, не ворчу. Мне абсолютно ничего не надо. Крепко-крепко обнимаю и целую. Целую отдельно Лидуську и желаю ей большого-большого счастья, того, какого она себе выберет. Пускай и мне она пожелает моего счастья.
Очень, очень люблю вас. Не волнуйтесь. Целую.
Борис
<1948 г.>
¹ Нумерация писем условная.
² Полушина-Гревизирскоя Лилия Алексеевна, сестра поэта.
³ Вероятно имеется в виду неотправленное письмо Сталину.
⁴ Родной брат матери Чичибабина, трагически погибший
ПИСЬМО 2-е¹
...я до сих пор не успел прочесть: «Буря» Эренбурга, «Абай» Ауэзова и др. Если названных мною книг не сумеете достать, то какие угодно другие моих любимых писателей: Сервантеса, Бальзака, Роллана, Франса, Пришвина, стихи Тютчева и Фета (они должны быть у Брезинского², если вы их отдали ему, или у нас, если не отдали). Был бы очень рад рассказам Мопассана и повестям Гоголя. В Харькове, наверное, очень просто достать книги современных украинских писателей: Яновского, которого я страшно люблю, Смолича, поэтов: Тычины, Рыльского, Первомайского; у меня был учебник истории Украинской литературы киевской Академии наук, если он цел, тоже пришлите.
Вы очень обрадовали меня и доставили огромное наслаждение своим Рыльским, вот если бы еще несколько раз так угадали. Мне очень хотелось бы, чтоб мама прочла его стихи, только обязательно по-украински, особенно «Мандрiвку в молодiсть», она где-то есть у нас, пусть найдет и прочитает, она вызовет в ней много светлых и чистых воспоминаний. Любите ли вы тех писателей, что я перечислил, особенно Сервантеса и Роллана? Вот, если бы вы прислали мне «Дон Кихота» или «Жан-Кристофа». Боже мой, как бы я был рад и счастлив, и мне ничего не нужно было бы уже на целую зиму. А к папе у меня тоже особая просьба: он, наверное, сможет достать мне «Историю философии» Александрова.
Ну, вот и все. Я не буду больше писать ничего лишнего, потому что не хочу, чтоб кто-нибудь смеялся над моей душой. Я очень люблю вас, но у меня всегда получалось так, что тем, кто меня любил истинно и искренне, я платил только огорчениями и непониманием. Должно быть, так и у всех людей. Ради Бога, живите веселее, в жизни не столько горя и ужаса, сколько их выдумывают сами люди — по болезни, от скуки или по невежеству. Не ссорьтесь, не огорчайтесь, не выдумывайте ужасов. Если душа человеческая закрыта для красоты, для добра, для веселья и радости, то человеку не поможет ничто материальное, неужели это не так? А я обнимаю вас, я счастлив, и совесть моя чиста перед всеми.
Покупаете ли вы новые пластинки для патефона? Если да, то, может быть, вам попадется запись музыки моих любимых композиторов: Бетховена, Шуберта, застольная из «Травиаты», или что-нибудь в исполнении Обуховой, особенно, «Сомнение» Глинки и «Элегия» Массне, или «Сайта-Лючия».
¹ Начало письма не сохранилось.
² Брезинский Владимир Георгиевич — школьный товарищ, с которым Чичибабин в дальнейшем поддерживал добрые отношения.
Привет Володе Брезинскому, привет всем, кто помнит обо мне. Присылайте мне книги. Целую Вас.
Борис 20.
IХ.49
Папа, читал ли ты «Кола Брюньона» Роллана? Если не читал, то обязательно, непременно прочитай, только ее нужно читать помалу, как будто вкусное вино пьешь, наслаждаясь каждым словом. Тебе она страшно понравится, ты немножко похож на Кола, лучшее в тебе. Обязательно напиши мне, когда прочтешь.
Борис
ПИСЬМО 3-е
Дорогие, любимые мама, папа, Лидочка! Очень беспокоюсь за ваше здоровье. Поймите только одно: у меня было такое, что мне оставался только один выход умереть — но я вспомнил про вас и ради вас остался жить. Если вы надорвете свое здоровье, если с вами что-нибудь случится, зачем же тогда я остался жить? Это самое главное в моей жизни, вы у меня одни, и кроме вашей любви в ней нет больше ничего. Как вы не понимаете простой вещи: что мне не нужны ни продукты, ни деньги, ни какой-то клочок земли в будущем, — а единственно, чтоб вы были живы, бодры и здоровы. Если это будет, то я буду сыт и доволен и здоров, а если нет, то мне ничего не нужно. Вам кажется диким и нелепым поехать летом на курорт или хотя бы отдохнуть где-нибудь под Харьковом в лесу, но ведь это все для меня. Мне так нужно ваше здоровье, ваша вера в жизнь и душевная бодрость.
Крепко-крепко обнимаю и целую вас. Не беспокойтесь и не сердитесь, если я перестану совсем или буду очень редко писать вам. Я люблю вас и никогда не буду огорчать, — но мне больно писать письма, потому что все это — воспоминания и воспоминания, и от них никуда не деться. Ради Бога, берегите себя, подумайте о том, что вы у меня одни, что мне всю жизнь нужна будет ваша любовь. Заклинаю вас всем святым, своей жизнью: будьте здоровы, не отнимайте у себя, не переутомляйтесь, — и, самое главное, лечитесь, берегите себя, больше отдыхайте. Я вздохну спокойно, когда поверю, что вы послушались меня.
Дорогая, милая мама! Что ты прочла за последнее время? Пожалуйста, больше пиши мне о прочитанных книгах: я так был рад, что тебе понравился «Жан-Кристоф». Человек, написавший этот роман, — один из самых благороднейших и чистейших людей, живших на свете. Ни одного пятна нет на его совести. Ученик Толстого, преклоняющийся перед ним, друг Горького, все время ищущий, с прекрасным благородным лицом, — так и прожил он свою жизнь мечтателем, поэтом и борцом, французским Дон-Кихотом. Толстого он любил необыкновенно. Мне очень дороги все его книги: «Жан-Кристоф», «Кола Брюньон», «Очарованная душа», книги о Бетховене, «Героические жизни» (биографии трех великих: Микельанджело, Бетховена, Толстого), статьи, письма, очерки по истории музыки, драмы о французской революции.
А вот другой француз, живший в одно время с Ролланом, Анатоль Франс, совсем не похож на него, но я его тоже очень люблю. Прочитай его «Харчевню королевы Гусиные лапы» и еще кое-что (он писал очень много книг). Читала ли ты «Бурю» Эренбурга? Если нет, обязательно прочитай: это прекрасная книга, хотя и хуже, чем его же «Падение Парижа».
Тома собраний сочинений Горького, которые ты присылаешь мне, прежде перечитывай сама. Ты Горького совсем не знаешь, я помню еще с детства, у тебя было очень смешное представление, что Горький — грубый писатель, описывающий грязь и всяческие мерзости жизни. А на самом деле, Горький — единственный романтик в русской литературе. Его босяки похожи на героев Гюго или Дюма, и вообще он очень любил красоту, героизм, страсть. Разве только Лермонтова и Гоголя можно немного сопоставить с ним в этом отношении, но даже и они были гораздо большими реалистами, чем Горький. Многое в Горьком может быть смешно, враждебно, противно, но как человека его нельзя не любить. После Толстого из русских писателей я никого не люблю так, как его.
Мне очень нужны и как можно скорей: 1) «Война и мир», 2) другой том Ибсена — с «Пер Гюнтом», он или у Марлены¹ или у нас, 3) стихи Тютчева, 4) стихи Алексея Конст. Толстого. Роллану и Франсу буду рад чему угодно — и очень рад.
Шекспира еще не получил, но он мне очень нужен, и я заранее очень благодарю вас за него. (...)
Целую. Борис
¹ Рохлина Марлена Давыдовна — поэт и друг Бориса Чичибабина, — см. фрагменты писем к ней из Вятлага (с. 325—335 настоящего издания).
ПИСЬМО 4-е
Дорогие мама, папа и Лидуська! Крепко и нежно обнимаю и целую вас. Страшно беспокоюсь: в последней записочке, вложенной мамой в посылку, было как-то нехорошо сказано: «были у врача» и «еще немножко поживем». Что это значит? Почему вы не бережете себя. Я больше ничего не прошу у вас, только это одно: будьте здоровы, сохраните свои силы еще на много-много лет. Напишите мне правду о себе. Я вынесу все, любую страшную правду, — но берегите же себя. Кроме вас, что у меня еще есть в жизни?
Какие вы стали хорошие. Горький, на сочинения которого вы подписались для меня, — это самый лучший, самый дорогой подарок, о котором я мог мечтать. Из любимого у меня нет теперь только Роллана и Пастернака. Без Пастернака, особенно, мне трудно представить себе жизнь, — но вот все-таки, живу и без него. Почему мама спрашивает, нужно ли покупать украинские книги? Я же писал, что нужно. Вы мне прислали Тычину, и еще раньше Корнейчука в русских переводах. Это же смешно: жить в украинском городе и присылать украинских писателей в русских переводах. Но из украинских книг покупать нужно не все: обязательно — поэтов: Тычину, которого я очень люблю и которого полюбит и мама, когда ей прочитаю мое любимое и неискаженное переводчиками, Максима Рыльского — украинского Пушкина, Леонида Первомайского и, конечно, классиков: Франко, Лесю Украинку, а из прозаиков — Юрия Яновского. Но самое главное: Тычину и Рыльского. Их книги должны очень часто попадаться в харьковских магазинах. Рыльский, между прочим, замечательный переводчик, если будут его переводы — Пушкина, Мицкевича, «Орлеанской девы» Вольтера, их обязательно нужно купить.
В Киеве живет и работает чудесный русский поэт Николай Ушаков, единственный из больших современных русских поэтов, который живет не в Москве и не в Ленинграде. Недавно было его пятидесятилетие. Его книги могут попасться в Харькове. Помните, он читал мои стихи и ответил мне дружеским и теплым письмом, которое я прочитал уже в несчастье.
Побольше присылайте стихов: прозой вы меня закормили, и у меня теперь на нее реакция. Из современной русской поэзии, новинок, можно покупать решительно все: в этом отстать я не могу, и плохое нужно знать так же, как и хорошее. Не нужно только самого плохого: Лебедева-Кумача, Безыменского. Вот этих не нужно. Все остальное, написанное стихами, покупайте и присылайте. Спросите у Володи Брезинского Тютчева или Фета. После Пушкина это самые любимые мои из старых поэтов. Есть еще Алексей Толстой
(не наш, а другой, поэт). А из новых — самые любимые: Пастернак, Багрицкий, Светлов. Много хороших стихов было и есть у Твардовского, Исаковского, Симонова, Кирсанова, Маргариты Алигер, Ярослава Смелякова.
Из прозаиков — русских и нерусских — я больше всего люблю Тургенева, Толстого, Роллана, Сервантеса, Пришвина, Гюго, Бальзака, Мопассана, Анатоля Франса, Паустовского, нашего Алексея Толстого, Эренбурга. Вот теперь вы знаете все, что я люблю. Если можете достать, доставайте и присылайте. А если можете достать только на время, то берите в библиотеке и читайте. Мне будет приятно знать, что вы читаете то, что я люблю. Из русских классиков я больше всего люблю Тургенева (он у меня есть), а вовсе не Толстого, как думал раньше.
Простите, что я пишу вам о любимых писателях, когда...¹
4.IV.50
ПИСЬМО 5-е
Дорогие мои, родные мама и папа!
Что же вы обманули меня? Вместо того, чтобы отдохнуть и полечиться, опять вы много работаете? Видно, вы совсем не думаете обо мне и то, что я пишу вам, улетает на ветер, и вам нет никакого дела до моей боли и тревоги. Ради Бога, если вы хоть капельку любите меня, помните мои просьбы: берегите себя, будьте здоровы, будьте счастливы. Со мной все будет хорошо, если вы будете здоровы и добры душой. (...)
Есть у меня еще причина, из-за которой я считаю лучше отложить наше свидание до осени. Сейчас я еще не могу ничего сказать вам, как действовать и что делать на будущее. Если б два года назад мне сказали, что я на всю жизнь останусь здесь, на севере, мне было бы страшно, по-звериному страшно. А сейчас я знаю, что это, может быть, самое лучшее для меня: люди здесь простые, хорошие и чистые; воздух самый здоровый для моих легких, и жить здесь легче и проще. Как видите, я остаюсь собой, ничего не могу с этим поделать: люблю жизнь навеки.
Сейчас мой непосредственный начальник — не тот офицер, с которым говорил папа, а женщина — я очень рад этому. На здешнем безлюдье она на редкость интересна, как женщина, но долго работает на этой работе и поэтому совершенно больной человек, нервная, как я, издерганная и измученная. Любая малость раздра-
¹ Окончание письма не сохранилось.
жает ее, на всех она кричит и несколько раз плакала при мне. Она не замужем, а это тоже, конечно, действует, хотя она и говорит, что это ей не нужно. Злючка, но по-своему, справедливая. Костя¹, которому не раз доставалось от нее, смеется и говорит мне, что вот вас пара, хорошие были бы муж и жена. В самом начале у нас были столкновения, но теперь она никогда не кричит на меня, а только жалобно говорит; «опять ты меня подвел» — и для меня это самое неприятное. (...)
Из книг, которые я получил, больше всего радости мне доставили два тома Горького и «Воскресение» Толстого.
Очень прошу прислать мне стихи Тютчева и Фета: их легко достать в любой библиотеке, и книгу Паустовского — если нет новой, то ту, что была у меня. Насчет А.К. Толстого мама боится совершенно напрасно, — но бог с ней: только уж, когда приедете, привезите обязательно.
Милая, дорогая мама! Нам совсем не обязательно быть вместе или видеться так часто, для того, чтобы чувствовать и любить друг друга. Вот, если бы мы любили одно и тоже: Пастернака тебе уже трудно понять — но: Тютчев, Фет, Паустовский, Пришвин. Ты знаешь, Маяковского я до сих пор очень люблю, у меня к нему совсем другое, но он всегда искренен и благороден. Прочитала ли ты «Бурю» Эренбурга?
Крепко-крепко обнимаю и целую. Не забывайте обо мне, о том, что вы для меня, берегите себя, отдохните, полюбите радость и веселье. Мама, прочитай книгу Роллана о Бетховене. Величайшего, чистейшего, прекраснейшего героя я не знаю на земле. Знаешь ли ты его музыку? Для меня сейчас музыка еще больше, чем книги.
Еще раз крепко-крепко целую. Целую Лидуську и желаю ей радости и счастья. Пишите мне о Марлене. Передайте ей привет и дружбу. Кланяйтесь ее родным. Привет также Гале Залеской² и Володе Брезинскому.
Борис 30. V.50
ПИСЬМО 6-е
Дорогая мама!
Что это, я тоже стал как будто совсем бестолковым, во всяком случае, немного толку в моем письме. Зачем я так много пишу тебе
о Косте, о моей начальнице, о людях совсем незнакомых и неизвестных тебе? Но ведь это моя жизнь, такая, какая она есть, а люди эти занимают в ней самое большое место. Я люблю их, как люблю многое живое и неживое из того, что окружает меня. Ты знаешь, я привык к Северу, к лесам, к холодной зиме, к фантастическим белым ночам (сейчас они в самом разгаре). В феврале или в марте мы видели далекий отсвет северного сияния. Тогда я был очень болен, меня вывели из домика, и я долго смотрел на бледные переливающиеся по половине всего неба цвета сияния, стоял и благодарил судьбу, что вот: и это я увидел. Я буду рад, если мне придется провести жизнь в этом краю. Не смейся надо мной, не считай это капризом и преувеличением, мне здесь будет лучше и легче, чем там. Конечно, мне хотелось бы еще хоть немного пожить на Украине или в Закавказье: я так любил их, — но я знаю, что люди там сложнее и гаже, я буду дичиться их, буду странным и никогда не найду себе места в жизни. А здесь я буду жить в лесу, на богатой, а вовсе не скупой земле, с людьми, правда, очень грубыми, всегда отталкивающими меня своей грубостью, но с честными, нехитрыми и здоровыми. Покажи это письмо Марлене, когда будешь ехать ко мне: я буду ждать ее; если она захочет приехать ко мне, нам не будет плохо. Но за нее я боюсь и не верю, что она сможет полюбить эту простую жизнь.
Если Марлена принесет мне второй том «Форсайтов», отдай ей его: я достал и прочел здесь.
Ну, вот и все. Тороплюсь, потому что нужно отдавать письмо. Присылайте книги.
6. VI. 50
Целую, люблю.
Борис
ПИСЬМО 7-е
Дорогие, родные, любимые, мама и папа!
Вчера получил последнее мамино письмо, и вот опять во мне живут тысячи самых разных тревожных, радостных, светлых, мрачных чувств. Самое главное — это, конечно, тревога за вас. Как все-таки ужасно долго идут ко мне письма! Письмо, которое я получил вчера, мама писала еще 26-го, отправила 29-го (это я вижу по харьковскому штемпелю), с тех пор прошло две недели, а за это время — так мне кажется — могло случиться много страшного. Нет,
мне все-таки было бы тяжело без ваших посылок, не в материальном отношении, а вот именно в смысле этой тревоги за ваше благополучие. Посылки идут в два раза скорее, чем письма, и получаю их я гораздо чаще, и тогда некоторое время я спокоен, потому что знаю, по крайней мере, что вы живы и здоровы.
Мне очень бы хотелось получить несколько слов от папы. Я не поверю ни врачам, на даже маме, потому что уверен и знаю, чтобы там ни говорили врачи, о состоянии своего организма может знать только сам его хозяин. И как бы я хотел (это, воистину, самое главное и самое большое мое желание), чтоб вы внесли в свою жизнь побольше радости, веселости, улыбки. Слишком много печали и какой-то мрачности в вашей жизни, это видно и из писем, вы как будто стыдитесь веселья, гоните его прочь, и даже, когда смеются и радуются другие люди, вам это неприятно. Уныние — это большой грех, и обязательно, это духовное уродство или болезнь, надлом какой-то. Насколько я мог, я всегда справлялся с этой болезнью. Но всегда для меня было самым трудным и неприятным утешать других, чужое горе всегда вызывало у меня какое-то противоречивое чувство сожаления о нем и враждебности к нему.
Лично мне всегда помогало искусство, оно спасло мою душу от тоски и отчаяния. Другим помогает труд, любовь, семья.
Ищите такой поддержки в самих себе, вот и вся премудрость. Я же, если это только может сделать вас веселее и справедливее к жизни (которая, вовсе не так уж плоха), даю вам слово писать так часто, как только смогу, пока у меня есть эта возможность.
Не сердитесь на меня, может быть, я и не прав в тех своих выводах, которыми я поделюсь с вами. Это не от моего легкомыслия или непонимания, а единственно оттого, что я не с вами, что о том, как вы живете, я знаю только из «бестолковых» маминых писем и поэтому могу ошибаться.
Мне кажется, что ваша жизнь сейчас очень ограничена, вы добровольно и намеренно ограничили ее, замкнулись, отделились ото всех и от всего — не только дурного, но и хорошего.
Этот ваш участок я иногда ненавижу до бешенства, мне кажется, что он отнимает вас у меня и у всего хорошего, прекрасного, ценного в жизни.
Я не против огорода, я против того, что из огорода делают смысл, цель, символ жизни. Например, я сейчас мечтаю о том, что если мне разрешат остаться здесь, у меня тоже будет хотя бы самый малюсенький кусочек земли, — но я знаю, что и в огороде, и в лесу у меня будет целый мир — с книгами, с музыкой, с дружбой,
с памятью, с пальмами, с соловьями, с южным морем. В Москве мой мир был семь шагов в длину, два в ширину, а и там я не был беднее, и там у меня были друзья и любовь, мечты и книги, музыка, леса, Юг, Север, вся земля, небо, Бог. Вы скажете, что это поэзия, — ну так что ж, что поэзия? А разве можно жить без поэзии? Я и огород полюбил тогда, когда увидел в нем поэзию. В Москве я каждый день на коленках пол протирал мокрой тряпкой, и в этом была поэзия, потому что в этом мытье пола тогда очень много заключалось: твое достоинство, твоя человечность, твоя выдержка. Это в двенадцать лет можно думать, что буря на море или соловьи в саду — это поэзия, а мытье посуды или возня с пеленками — это грубая проза. Не в этом дело. Нужно только одно — чтоб не человек жил для огорода, для дома, для пеленок, для куска хлеба, а чтоб огород, дом, пеленки, хлеб, вино были для человека, для души, на радость ему и на веселье. Нужно жить для души, уметь бросить все, если видишь, что это не для души, десять раз жизнь переделать, но чтоб совесть была спокойна и душа радовалась. А у вас, мне кажется, не огород служит для чего-то высшего, а все, что есть в вас хорошего и высшего, отдано этому огороду и служит ему, и огород у вас стал Богом. Вот отчего мне больно и отчего я так ненавижу этот ваш огород. (...) Вас очень сильно потрясло то, что случилось со мной. Это потому, что никогда вы не интересовались этой жизнью (той, которой я сейчас живу), представляли ее нелепо и неправдоподобно, ничего о ней не знали. А если бы знали, вы были бы спокойны за меня. У меня была трагедия, был такой ужас, что я чуть не умер, — но это совсем другое, вы знаете, это было у вас на виду: живи я с вами, наверное, было бы тоже самое. Кроме этого, никаких трагедий и никакого ужаса не было.
Помните, в «Воскресении» Катюша говорит, что она должна Бога благодарить за то, что туда попала. Вот и я так. (...)
Мама спрашивала, что мне нужно из вещей? Кое-что нужно. У меня сейчас прибавилась забота: я уже писал вам о том, что теперь мой начальник — женщина, а это значит, что я всегда должен быть чисто и аккуратно одет. Не потому, что она — мой начальник, а потому, что по моему кодексу человеческого поведения, при женщине непременно нужно быть чисто и аккуратно одетым. В общем, сами знаете, как я в этом разбираюсь, но поймите, как нужно одеваться, чтобы не было стыдно при красивой женщине. (...)
Присылайте книги, которые я назвал в последних письмах. Третий том Горького вышел уже с месяца полтора, а мама еще 26 мая
ничего не знала. Наведите справки. Не сердитесь на меня. Пишите чаще. Крепко-крепко обнимаю и целую маму, папу, Лиду. Привет Марлене и В. Брезинскому.
Боже мой, как я беспокоюсь о вас. Получили ли вы мои письма? Крепко-крепко обнимаю и целую. Бедные, любимые мои.
11.VI.50
ПИСЬМО 8-е
Дорогая мама, папа, Марленка, Лидочка!
Пишу наспех, потому что очень много работы. Посылку с вещами получил: большое спасибо за брюки и рубашку, мне очень нравится и то и другое. Самое же главное то, что это первые брюки по моему росту: не короткие и не узкие. А туфель просто жалко: если бы мне оставалось месяца два. Я их испорчу очень быстро, потому что носить мне больше нечего: сапоги ремонтировал раза три, и сейчас они протекают неописуемо. Костя обещал достать кожемиту, и тогда их перетянут, и опять можно будет носить. Пока же в любую погоду приходится ходить в туфлях. Я их очень берегу, грязь и воду вытираю сразу же, и они еще все как новые, — но все-таки жалко. (...). А осенью когда приедете, привезите что-нибудь теплое на ноги, так как валенки уже совершенно безнадежны. Вот и все, что мне нужно из этого.
Почему не шлете тех книг, которые я назвал и которые все есть у меня или которые очень легко достать. Очень нужны стихи — даже самые любые. Не может быть, чтобы в магазинах совсем не было новых стихов наших поэтов — русских или украинских, все равно. Без стихов просто «задыхаюсь». Я просил Паустовского уже несколько раз — и тоже безрезультатно. Баратынский у меня есть, другого покамест не нужно. За Гейне спасибо, это не то, что я думал (два тома прозы Гейне — мои — остались у Марлены), но я безумно люблю этого замечательного человека и перечитывать все, что угодно, из написанного им, составляет для меня наслаждение необыкновенное. Вот таким книгам я всегда рад.
Я здоров абсолютно, но живется мне трудно. Много всяких мелких неприятностей, жаловаться на которые в письме стыдно и не нужно. Видимо, с этого места, на котором я сейчас, мне придется очень скоро уйти. Очень грустно и жалко только, что из-за меня приходится терпеть неприятности хорошему человеку, моей начальнице, а вообще всего этого следовало ожидать.
Будьте же здоровы, мои любимые! Обнимаю и целую вас, очень прошу вас быть здоровыми и бодрыми. Крепко-крепко люблю. Простите, что написалось так мало, нужно работать. Высылайте те книги, что я просил, и те, которые я люблю. Еще раз целую и обнимаю.
Борис
17. VII. 50
ПИСЬМО 9-е
Дорогие мои мама, папа, Лидуська! Вижу, что опечалил и расстроил вас своим последним письмом. Простите меня, родные мои, я не хотел огорчать вас, а у вас нет никаких оснований огорчаться, пока в моей жизни никаких серьезных перемен нет; что будет дальше, не знаю, и, сказать по правде, мне все равно, что бы там не было. Все это может задеть меня на какое-то короткое время, а пройдет — и я опять весел и счастлив.
Если со мной и случится что-нибудь нехорошее, те помочь мне никто не сможет, да я ни у кого и не попрошу помощи. Вообще, вы совершенно напрасно беспокоитесь обо мне. Самое главное то, что я жив и здоров, привычек своих не меняю, духом не падаю, живу весело и при всем этом имею хороший аппетит. (...)
Вы все-таки ничего не знаете обо мне, не знаете самого главного, оттого и беспокоитесь, и мучаетесь, и думаете, что мне плохо. Я-то знаю про себя абсолютно достоверно, как 2x2 = 4, что плохо мне быть не может — никогда и нигде в жизни. Вот вам самый недавний случай: совсем недавно я был в очень запутанном и трудном положении; мне грозила не только возможность потерять место, на котором я нахожусь, но и кое-что гораздо более страшное; я старался не думать об этом или хотя бы не подавать виду, что я попал в беду, и до известной степени мне это удавалось, а все-таки на душе скребли черные кошки и я не мог ни есть, ни читать, ни быть добрым с людьми: каждую минуту — днем и ночью — я мог ожидать самого страшного; и вот — как раз в это время — захожу я в один барак и случайно нахожу своего Пушкина (помните, маленькую книжечку, которую вы прислали мне еще в прошлом году; ее у меня украли, и я уже и думать об этом перестал, больше года прошло, как она пропала), и стоило мне взять в руки эту книжечку, как все мои неприятности из головы вылетели; со мной работает один парень, русский немец, ужасно рассеянный, бестолковый, немножко тронутый, он помогает мне, и в эти нехорошие дни ему
много доставалось от меня; он смотрит и удивляется: ушел я из дома злой, угрюмый, а вернулся такой веселый и сразу стал ему Пушкина читать; а мне трын-трава: пускай сейчас придут и скажут собираться с вещами и увезут меня хоть на край света, плевать на все, раз у меня Пушкин в кармане. Я об этом рассказал потому, что вот это ужасно в моем духе, я на самом деле такой, и вы должны это знать. Да, когда все идет хорошо и я вижу, что хуже пока быть не может, а можно сделать, чтоб было еще лучше, тогда я люблю и большую веселую компанию, и каждый день праздник, и театр, и кино, и музыку, и все двадцать пять удовольствий. Разве это плохо? Но, если придется, я могу жить на одном хлебе, спать на голом полу и притом только пять часов в сутки, обходиться обществом себя самого — и при этом мне будет также хорошо. Не думайте обо мне. Что бы ни было впереди, плохо мне не будет. Были бы вы здоровы и было бы все хорошо у вас.
Крепко-крепко целую. Жду писем, будьте здоровы.
Борис
<Конец 1950>
ПИСЬМО 10-е
Дорогие мои, родные мама, папа и Лидочка!
Ради Бога, поскорее напишите мне, что у вас все хорошо, что вы все здоровы и благополучны. Я очень тревожусь. Прошлое письмо я отправил вам сгоряча, под первым впечатлением от известия о папиной болезни, и поэтому там было много обидного и преувеличенного для вас. Простите мне мою горячку, такой уж у меня характер, с этим ничего не поделаешь.
С тех пор я получил еще одну посылку с Пришвиным. (...)
Во второй книжке Пришвина нашлось для меня кое-что новое, еще нечитанное мною, и поэтому я был попросту счастлив. Такие вещи еще могут доставить мне счастье. О Пришвине я обязательно напишу, а сейчас тороплюсь и слишком тревожно мне. Люблю я у него все, а самое любимое — «Корень жизни», «Фацелия» и еще несколько вещиц. Во второй книжке есть чудесные и трогательные «Рассказы о детях».
Больше всего я люблю себя и доволен собой тогда, когда я люблю все, всех людей и все вокруг себя. Это бывает редко, но зато тогда я счастлив по-настоящему и больше мне тогда уже ничего не нужно. Все, что будет сверх этого, для себя лично, только повредит этому счастью. И чаще всего это настроение у меня бывает от общения через книги с такими людьми, как Пришвин. Вот сбивчиво и только одна из причин, почему я так люблю его.
Удивительно близким стал мне человек¹, о котором я писал вам. Редко мы видимся, но привязались друг к другу, и если я не вижу ее долго, мне уже трудно. Мне в ней особенно дорого чувство правды, то, что во всех своих поступках она руководствуется не тем, хорошо ли, выгодно ли это будет ей, а тем, будет ли это справедливо. В этом она может ошибаться и часто ошибается — и как еще, но дорого то, что не корысть и не счастье, а совесть. Таких людей на свете очень мало, но, когда я говорю о людях, я всех остальных со счетов сбрасываю.
Теперь о самых необходимых вещах, которые мне нужны: новая змейка для моей рубашки, понадежнее, чтобы хватило до конца; общая тетрадь или просто тетрадка потолще, желательно в клеточку. Если можно рублей сто деньгами (можно совсем открыто): у меня есть небольшие долги, и в ларьке, иногда, бывают хорошие вещи. Больше до конца деньги мне не понадобятся, это я прошу в последний раз.
Ну, а из остального, пожалуйста, в каждой посылке немножко сладкого: этим я ни с кем не делюсь, а прячу в чемодан и ночью, когда читаю, кушаю. Халвы я не пробовал ужасно давно, спасибо вам! Но лучше всего был пирог с яблоками. Что хорошо получилось у мамы, то хорошо.
Из книг: я уже писал о «Студентах» Юрия Трифонова. Это совсем свежая книга, о ней много говорят и спорят. Очень прошу, постарайтесь достать: «Микола Братусь» Олеся Гончара, «Водители» Рыбакова. Это все новые книги. Из старых, по-прежнему, прошу что-нибудь Анатоля Франса, Ромена Роллана или Гюго. Достаньте где-нибудь «Жан-Кристофа» или «Очарованную душу», а?
Благодарю вас за любовь, за заботу. Не знаю, как и чем верну я вам все это. Крепко-крепко обнимаю и целую. Пишите же чаще. Успокойте меня. Еще много, много раз целую.
Ваш Борис
Не забудьте прислать тетрадь.
Привет Володе Брезинскому, Гале Залеской, всем товарищам, кто помнит обо мне, и если случится передать, Васе Тесленко² в Киеве. Привет Полушиным и Чичибабиным.
Целую, целую, люблю всех. Борис
<1950>
ПИСЬМО 11-е
Дорогие мои, родные мама, папа, Лидочка!
Знаю, что мама обиделась на меня, знаю это потому, что в последней посылке была записка только от папы, а от нее не было. Надо было бы мне объяснить ей, как это все получилось, но я очень спешу, пишу наспех. Это у меня уж в характере все преувеличивать, тревожиться, да еще на расстоянии. Простите меня, мне очень тяжело и трудно сейчас. (...)
У моего друга, о котором я писал вам, опять большие неприятности из-за меня. Боится, что уволят. Мне, наверно, придется уйти с моего места, но сейчас уж это совершенно все равно, я беспокоюсь только из-за друга. Если придется так, что уволится раньше, чем я покончу с делами, я дам ваш адрес, пусть погостит у вас. Не может быть, чтоб вы отказали в помощи человеку, который так много сделал для меня и из-за меня пострадал.
Относительно того, что пишет папа о моем новом месте, пока я могу сказать только, что у папы, мне кажется, ошибка в расстоянии: не 25, как он думает, а все 100. Но я и сам точно не знаю. Мне дают адрес в Богодухов, там меня смогут устроить на работу. В общем, скоро все это решится.
Ну вот и все. Простите мне мою горячность, несправедливость, все плохое во мне. Крепко-крепко обнимаю и целую вас, скоро уже конец нашей разлуке. Пожалуйста, напишите, сможете ли вы помочь тому человеку, если это понадобится.
Еще раз обнимаю, целую, прошу прощения.
Ваш Борис
19.03.51