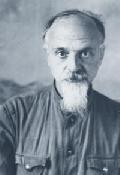Крушение поколения
Крушение поколения
Об авторе
Иосиф Бергер (Барзилай) родился в 1904 году в Кракове в еврейской религиозной семье. В 1914 году, когда Краков оказался под угрозой захвата оккупировавшей Галицию русской армии, семья переехала в Вену. Вернувшись в 1916 году в Силезию, они поселились в небольшом городе Билице (впоследствии после окончания Первой мировой войны вся эта область, прежде принадлежавшая Австро-Венгрии, стала частью нового независимого польского государства).
Иосиф (Ицхак) Бергер получил одновременно и классическое немецкое и еврейское религиозное образование. В возрасте 15 лет, во главе группы таких же молодых людей и девушек, под влиянием идей социализма и сионизма, он иммигрирует в Палестину, в то время входившую еще в Турецкую Империю, а в результате войны ставшую британской подмандатной территорией. В Палестине он работает сначала на прокладке дорог, потом переводчиком в одной из строительных компаний. В это же время он становится убежденным коммунистом, одним из основателей коммунистической партии Палестины и ее Секретарем. После принятия компартии Палестины в Коммунистический Интернационал Бергер впервые, в 1924 году, приезжает в Москву в качестве представителя этой партии на конгресс Коминтерна. В Москве он встречается со своей будущей женой Эстер фельдман и в середине следующего, 1925, года они вместе возвращаются в Палестину. В 1926 году у них родился сын.
В это время Бергер много ездит по Ближнему Востоку, участвует в организации коммунистических партий в Египте, Сирии, Ливане, Трансиордании (продолжая в то же время работать Секретарем компартии Палестины). В 1929 году он снова посещает Москву, где имеет пятичасовую личную беседу со Сталиным по палестинскому вопросу. Позднее, в результате арабского восстания 1929 года, по указаниям Коминтерна палестинская компартия подвергается реорганизации: теперь большинство в ЦК составляют арабы, но Бергер по-прежнему остается Генеральным Секретарем партии.
В 1931 году Бергера отзывают в Москву и направляют в Берлин в качестве Секретаря основанной в 1927 году в Брюсселе Антиимпериалистической лиги. Это дает ему возможность, — кроме руководителей Коминтерна, таких, например, как Георгий Димитров, — познакомиться и с такими лидерами Антиимпериалистической лиги, как Неру. Некоторое время Бергер редактирует совместно с Клеменсом Даттом официальный печатный орган Лиги. В Берлине Бергер подвергается аресту и проводит несколько месяцев в берлинских тюрьмах Моабит и Шпандау.
В 1932 году Исполнительный Комитет Коминтерна снова вызывает Иосифа Бергера в Москву, где он руководит Ближневосточным отделом Коминтерна. На этом посту Бергер остается два года. В 1933 году он получает советское гражданство и «партийное имя» — Иосиф Бергер.
К 1934 году Бергера начинают смущать некоторые аспекты политической линии, проводившейся в то время, но он все же продолжает, оставаться лояльным и убежденным коммунистом. Тем не менее, в ходе проводившейся «чистки » в феврале того же года Бергера исключают из партии (интересно, что о причинах этого исключения ему не удалось ничего узнать даже процессе реабилитации и восстановления в партии в 1956 году).
В течение нескольких месяцев после этого Бергер
работает наборщиком в одной из московских типографий. И наконец, в ночь с 27-го на 28-ое января 1935 года его арестовывают и помещают в Бутырскую тюрьму. Через десять дней после ареста его вызывают к следователю и предъявляют обвинение в контрреволюционной «троцкистской» деятельности. Оказывается, один из его знакомых, профессор, сообщил в НКВД о нескольких пренебрежительных замечаниях, касавшихся Сталина. Следствие велось два месяца, в течение которых Бергер содержался то в одиночных, то в общих камерах Бутырской тюрьмы. В то время « физические » методы воздействия еще не применялись, и на Бергера оказывалось только психологическое давление с целью заставить его «признаться». В конце концов его объявили «отказывающимся разоружиться идеологическим врагом» и приговорили заочно решением Особого совещания при НКВД СССР к пяти годам ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) за контрреволюционную троцкистскую деятельность.
В апреле того же года его отправляют в Мариинский лагерь в Западной Сибири, где в это время строится спирто-водочный завод. К концу года Бергера переводят в лагерь в Горной Шории, недалеко от Монгольской границы, на строительство железнодорожной линии к городу Таштаголу.
В апреле 1936 года его под специальным конвоем снова доставляют в Москву и помещают в тюрьму на Лубянке в качестве потенциального свидетеля на предстоящем процессе Зиновьева. Попытка использовать его в качестве свидетеля на этом процессе не увенчалась успехом, но его собственное дело пошло на пересмотр и в результате — 29 июня 1937 года тем же «Особым совещанием» срок наказания с 5 лет лагерей повышается до 8 лет тюремного заключения. В июле 1936 года Бергер отказывается от этапа в Сибирь и объявляет голодовку, требуя разрешения на свидание с женой. После сорокачетырехдневной голодовки свидание ему разрешается. В августе 1937
года его переводят во Владимирскую тюрьму строгого режима для опасных преступников, а в декабре — в такую же тюрьму на Соловках, неподалеку от финской границы.
В 1939 году заключенных с Соловецких островов на пароходе «Буденный», следовавшем за ледоколом, перевозят в порт Дудинку в устье Енисея на Таймырском полуострове, а затем — в Норильск.
В июле 1941 года Бергера арестовывают в лагере, обвиняют в попытке организации (вместе с группой других политзаключенных) восстания против Советской власти и приговаривают к расстрелу. Как Бергер узнал много позже, после реабилитации в 1956 году, это был уже второй смертный приговор; первый, вынесенный ему в 1937 году, был отменен благодаря личному вмешательству одного из следователей, знавших его. Бергер отказывается подписать собственный смертный приговор, как того требуют инструкции, и снова об'являет голодовку, продолжавшуюся на этот раз 56 дней. В результате невыполненных формальностей и ряда других обстоятельств смертный приговор, вынесенный в Норильске, не утверждается Москвой; вместо этого Бергер осуждается Таймырским окружным судом на 10 лет «с поглощением» неотбытого прежнего срока.
Этот срок Бергер отбывал в лагере в Норильске до сентября 1948 года, когда, после разрыва с Тито, наиболее «опасные» политические заключенные, в том числе и Бергер, стали направляться в тюрьму строжайшего режима — Александровский Централ, вблизи Иркутска. В Александровском Централе Бергер проводит около года, после чего его переводят в специальный лагерь («спецлаг») в Тайшете, где заключенные в то время начинают строить гидроэлектростанцию. В 1951 году, по окончании второго срока, Бергера освобождают из лагеря и одновременно осуждают на вечное поселение в Сибири.
Впервые после 15-ти лет ему разрешают свидание с женой и сыном, приехавшими к нему в село Пятково
(Казачинское) Красноярского края, где он работает ночным сторожем в колхозе.
Вскоре после этого он переезжает в более крупный населенный пункт — Маклаково, около Енисейска. Для физической работы Бергер был слишком слаб, но его поддерживает посылками жена, так как собственных средств не хватает даже на самое скромное существование. В свободное время он переводит Чехова на немецкий язык, безуспешно пытаясь опубликовать эти переводы в Москве.
В 1956 году, через три года после смерти Сталина, Бергер реабилитируется, и, после задержки в связи с отравлением (в результате чего он временно ослеп), 21 апреля этого же года возвращается в Москву. Его жена и сын, немало настрадавшиеся из-за родства с политзаключенным, настаивают на выезде из страны и на том, чтобы он использовал предоставившуюся ему возможность принятия польского подданства и переезда с семьей в Польшу.
После года в Варшаве, где Иосиф Бергер работает в Польском Институте Международных Отношений, он с женой переезжает в Израиль, куда их сын выехал несколько раньше.
Бергера считают сейчас единственным из занимавших крупные посты коммунистов, выжившим в сталинских лагерях и тюрьмах и находящимся теперь на Западе,
В настоящее время он живет в Тель-Авиве и читает лекции в университете Бар-Илан.
От автора
ОТ АВТОРА
Для краткости и для того, чтобы не повторять уже опубликованных прежде данных, я решил в моей книге не придерживаться хронологического принципа описания событий. Вместо этого мне хотелось сконцентрировать внимание на судьбах хотя бы некоторых из многих тысяч людей, с которыми меня свела судьба в тюрьмах и лагерях, и для удобства сгруппировать их соответственно их политическим или иным убеждениям. Однако мне не хотелось бы создавать впечатление, будто я пытаюсь делать обобщения — нет, я пишу об отдельных людях, стараясь оставаться, насколько могу, непредвзятым.
Предисловие
ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда берешься писать такую книгу, как эта, пожалуй, главная трудность — выбор материала. Ведь как бы ни была коротка человеческая жизнь, как бы ни была она ничтожна во Вселенной, все же и в себе самой эта жизнь кажется бесконечной и безграничной — столько в ней переплетается жизней других людей, миллионов людей, населяющих землю.
И еще одна трудность. После всего, что произошло за последние полстолетия, читатель, возможно, задастся вопросом: «А какой вывод следует из этого? Что следует из этих фактов? К каким принципиальным заключениям и обобщениям пришел автор?». Читатель начнет, пожалуй, читать с последней страницы, а не с первой. А если у него самого уже имеется та или иная точка зрения на события, то он захочет, прежде всего, определить враг ли его или союзник автор этой книги? Я должен сразу оговориться, что такой читатель будет разочарован: отчасти потому, что, несмотря на свой жизненный опыт и знания, я все же крайне осторожен в своих выводах; отчасти потому, что даже те выводы, к которым я все же пришел, я не пытаюсь дать в виде строгих формул (или формулировок) и не пытаюсь
навязать их кому-либо в качестве абсолютных и окончательных истин.
Мое глубокое желание, чтобы эту книгу не сочли политическим обвинением, направленным против кого-либо. Мне не хочется быть ни прокурором-обвинителем, ни представителем защиты. Мне кажется, что ныне мы живем в такое время, когда, прежде всего, нам необходимо знание фактов истории и непредвзятое, объективное и, по возможности, беспристрастное отношение к этим фактам. И если достаточное число людей, знающих о событиях прошлого, честно и открыто скажут обо всем, что они видели, то в конце концов соберется достаточно информации для того, чтобы прийти к правильным выводам. Но даже и тогда задача эта будет нелегкой.
Еще одна опасность, которую я ясно ощущаю: хотя отдельные факты будут верны, все же их сумма не будет отражать всей правды; тогда частичная правда будет выдаваться за общую правду.
И еще мне представляется неверным ставить в центр событий свою собственную жизнь, свою судьбу. При всей неизбежности субъективного подхода к событиям, касавшимся меня лично, все же мне казалось неверным ставить свою собственную биографию в центр книги. Гораздо важнее для меня описать то, что происходило с сотнями тысяч, даже миллионами людей, у которых была общая с моей судьба. Именно такой взгляд сложился у меня в лагерях уже в тридцатых и сороковых годах, и это послужило основой моего сопротивления угнетателям. Официальным объяснением репрессий того времени была якобы их «необходимость » для общего блага, для блага человечества в целом. И таким образом несправедливость по отношению к отдельным людям, их физические и нравственные страдания были только частными случаями. Поэтому следователи во время допросов всегда требовали от жертв репрессий, чтобы те сосредоточивались только
на своих личных обвинениях, не делая обобщений, не касаясь других лиц и положения дел в целом. Я уже тогда считал такое отношение недопустимым и неверным. Я считал, что мне следует понять причины преследований, обрушившихся не только на меня самого, но и на других, понять, почему они достигли таких громадных масштабов. Мне казалось неправильным, чтобы каждый обвиняемый говорил только от себя и о себе, отвечал только за себя лично. В этом я расходился со многими другими жертвами репрессий, добивавшимися только и исключительно того, чтобы доказать свою собственную невиновность в предъявлявшихся им обвинениях. Я отказывался подписывать любые документы, в которых говорилось обо мне, как об «исключении из правила». Перемена отношения ко мне лично не была бы для меня достаточным вознаграждением и компенсацией за репрессии прошлого.
Теперь, как и тогда, я глубоко озабочен судьбой целого поколения, поколения, которое на моих глазах уничтожалось в результате массовых репрессий. Ведь погибали тогда далеко не единицы, не группы или категории людей, не тысячи и даже не десятки тысяч отдельных людей. Нет, уничтожалось целое поколение — поколение, вынесенное историей на гребне величайшей из мировых революций, поколение, через двадцать лет после этой революции или физически уничтоженное или отброшенное в сторону вместе с уцелевшими щепами потерпевшего кораблекрушение корабля. Среди этой массы людей было не только большинство активнейших участников революции, но были миллионы людей, принявших в ней менее активное участие, менее осознавших ее значение, а также такие, которые лишь пассивно поддерживали революцию из-за своей враждебности к «отмирающим классам».
Мне самому, по возрасту, не пришлось быть свидетелем Октябрьской революции. Да я и не жил в России в те времена и по молодости не мог бы быть участни-
ком революции. Но судя по тем бесчисленным свидетельствам, которые мне приходилось слышать как от друзей, так и от врагов ее, революция эта ни в коем случае не была делом небольшой группы людей, хотя бы и в высшей степени энергичных. Нет, я убежден, что в действительности революция была делом не только одного русского народа, но и многих других народов, населявших территорию России.
В этом я расхожусь не только с тем, что было официальной точкой зрения в сталинские времена в Советском Союзе, но и с тем, что принято считать, насколько я могу судить, в некоммунистическом мире сегодня.
Мне, например, вспоминается собрание московской парторганизации в 1933 году. Вероятно, это было одно из собраний по подготовке к предстоящей «чистке» партии. Тогда один из выступавших, сообщая свою биографию, сказал: «Итак, в 1917 году, когда произошла Революция, я...». Тут его перебил председательствующий, старый член партии, подпольщик, которого считали «партийной совестью». Он ударил кулаком по столу и произнес: «Минутку! Что вы имеете в виду, говоря «революция произошла»? Товарищи, — сказал он, обращаясь к залу, — революция не «произошла». Революция была совершена Лениным и другими преданными делу революции большевиками: они ее подготовили, организовали, привели к победному концу!».
По существу, тот же взгляд, приводившийся позднее во всех советских учебниках, разделяется и многими иностранцами: а именно, что революция не была общенародным движением, а делом небольшой группы людей, сумевших захватить власть в стране.
Такой подход уже и тогда показался мне ложным. Он и теперь кажется мне неверным, после четверти века пребывания в Советском Союзе и бесчисленных встреч и разговоров с участниками революции и граж-
данской войны. Такое толкование исторических событий представляется мне в корне неправильным и, на мой взгляд, стоит в одном ряду с такими лозунгами, как «Нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики!», лозунгами, рассчитанными на поддержание духа, а не на объяснение исторического процесса.
Мне кажется, что наше представление о движущих силах Революции, как о продукте движения широких масс народа, которое существовало у нас в 20-х годах, ближе к действительности. Если даже и можно говорить о том, что Ленин и окружавшие его большевики «совершили» революцию, все же еще ближе к правде утверждение, что они сами были результатом «совершившейся» революции. Я лично убежден, что существовало движение, которое уже нельзя было ничем и никак остановить и которое, хотя его можно было бы направить по иному руслу, вынесло в первые ряды Ленина и его соратников. Я не хочу умалить значения нескольких десятилетий подготовительной работы русских революционеров, но я утверждаю, что главной причиной победы большевиков в октябре было то, что за них был народ. Здесь не место рассуждать о том, почему воля народа не выявилась в другие моменты в ходе русской революции, например, в момент созыва Учредительного Собрания или в период Гражданской войны (тут сыграли решающую роль иные факторы), но я считаю, что в октябре 1917 года, или точнее, начиная с июля, большевики во многом имели поддержку широких масс народа. Мир, раздел земли, государство Советов рабочих и крестьянских депутатов — все это, мне кажется, соответствовало чаяниям народа, и больше того — именно этими чаяниями и определялись лозунги большевистской партии. Ведь из самой большевистской партийной литературы известно, что до этого их идеи были чистой абстракцией и они приобрели конкретную форму и содержание только благодаря усилиям большевиков найти поддержку
широких масс. Поэтому большевикам и удалось добиться власти
Итак, когда я говорю о поколении, « совершившем революцию», я имею в виду целое поколение русских, которые в 1917 году были в возрасте от 15 до 30 лет, целый народ, подобный тому народу, на который опирался во Франции Робеспьер, а и Англии — Кромвель.
Это поколение и было фактически уничтожено в течение 20 лет. В том, чтобы показать, как и почему такой закат стал возможен, я и вижу свою главную цель.
Теперь несколько слов о тех, к кому обращена эта книга. Над ней я размышлял более 35 лет.
Кто же они? Кто эти люди, к которым я обращаюсь? Во-первых, это те, о которых я ни на минуту не забывал, работая над книгой, но которые никогда не увидят ее. Это те тысячи, которые шли той же дорогой, что и я. Тысячи погибших. Конечно, я не могу говорить за них, но я убежден в том, что многие из них думали и чувствовали так же, как и я. Я ощущаю их рядом со мной и не скажу ничего, что могло бы повредить их доброму имени. Им, в первую очередь, я и посвящаю эту книгу, тому, что ими сделано, и тому, что они надеялись совершить в будущем.
Во-вторых, я обращаюсь к тем в Советском Союзе, кто вступил в самостоятельную жизнь после смерти Сталина. Многое, о чем я пишу, покажется им странным и чуждым, так как время между первым революционным поколением и третьим было временем извращения исторической правды, временем фальсификаций, направленных не столько к оправданию явных преступлений, сколько к тому, чтобы сбить с юлку. Поэтому им следует теперь узнать об определенных истинах, о которых второе поколение догадывалось инстинктивно (то поколение, которое пришло на смену первому революционному поколению, но уже приняло фальсифицированную историческую версию). Сегодня молодые люди не обязаны повторять ложь, их не
заставляют верить ей, они могут смотреть правде в глаза.
И наконец, мне хотелось бы, чтобы моя книга дошла и до гораздо более многочисленной аудитории — до всех людей доброй воли, старых и молодых, где бы они ни были. К моему большому удовлетворению, по выходе на волю мне стало ясно, что множество людей, сознательно или бессознательно, преднамеренно или в силу обстоятельств, обрели жажду познать факты прошлого, беспристрастно оценить его.
По контракту с тем, что было, скажем, двадцать лет назад, теперь множество людей в разных странах, независимо от их политической принадлежности, не хотят мириться с догмами: и не только на Западе, но и в коммунистических странах и даже в самом Советском Союзе. Теперь даже стало модным для приличного человека, прежде чем он выскажет свои взгляды, заявить: «Я не хочу быть догматиком». Какими бы ни были причины такого отношения, ясно одно: догматизм себя совершенно и везде дискредитировал. Повсюду я встречаю людей, которых интересуют не тезисы и не резолюции, и не то, чтобы факты соответствовали этим резолюциям, а то, что действительно происходило или происходит, и они хотят сделать свои собственные выводы. А это внушает мне надежду, что прошлое и настоящее могут быть теперь лучше поняты.
В прошлом именно такой подход был характерным для материализма. Материалистическое мировоззрение считало своим преимуществом и своей силой принятие и анализ конкретных фактов. Однако, в течение 50 лет существования советской власти, включавших 25 лет изоляции от внешнего мира, положение изменилось. Важным и определяющим фактором стала формула: «Так сказал товарищ Сталин». Она стала критерием действительности. Важным и определяющим фактором была не самая реальность факта, а то, соответствовал ли он той или иной цитате.
В течение этого трагического 25-летия были и попытки насадить подобное же мировоззрение и на Западе. Правда, следует заметить, что нацисты и фашисты не начинали с материалистических принципов, и поэтому им не приходилось топтать эти принципы; они начали с того, что провозгласили догмы, раз и навсегда устанавливавшие, по какому пути следует идти «с чистой совестью» их народам. Теперь на Западе и в значительной мере на Востоке этот период пришел к концу. Теперь повсюду можно рассчитывать найти людей, заинтересованных в выяснении исторических фактов.
И им я посвящаю эту книгу.
ГЛАВА 1 “Бывшие люди”
ГЛАВА 1
«БЫВШИЕ ЛЮДИ»
Я переехал окончательно в Москву через 15 лет после Октябрьской революции, когда советское общество претерпело уже глубокие изменения. Люди, игравшие большую роль в прошлом, в большинстве потеряли свое политическое и общественное влияние. На смену им пришли другие с самых нижних ступеней общественной лестницы. В кругах, где мне приходилось бывать, практически имели слабое представление о том, какой была Россия до 1917 года. Это были или иностранные коммунисты, как я сам, собравшиеся в Москву с самых разных уголков земного шара, или русские — работники партийного аппарата. Мы черпали наши познания о «бывших людях», как называли принадлежавших к старой интеллигенции и привилегированным классам, из литературы или по фантастическим слухам, распространявшимся о них. Мы, молодое поколение коммунистов, рисовали их себе кровопийцами, эксплуататорами, противниками всяких социальных реформ. Время от времени, впрочем, мы сталкивались с ними, поскольку из-за отсутствия квалифицированного персонала их в то время все еще использовали в качестве «спецов», технических работников и переводчиков в Наркомате иностранных дел и в самом Коминтерне. Но кто же были эти люди в действительности?
До ареста в 1935 году я никогда не мог бы себе и вообразить, что мне придется сидеть в тюрьме с настоящими «контрреволюционерами». Это было для меня большим сюрпризом. Хотя в то время массовые аресты
еще не начались, все же большинство сидевших со мной заключенных были крестьянского или рабочего происхождения. Только очень немногие соответствовали моему представлению о «контрреволюционерах». После моего освобождения, уже в пятидесятых годах, студенты, совершенно не знавшие действительного положения вещей в прошлом, были поражены, когда я рассказывал, что в тридцатых годах тюрьмы не были набиты исключительно банкирами и дворянами. Мне даже трудно было их разубедить и объяснить им, что террор тридцатых годов был направлен не против какого-то класса, а против всего народа в целом.
Мне кажется, что поворотным пунктом была коллективизация. Тогда каждый, включая, конечно, и членов партии, должен был определить свое отношение к грубому принуждению, осуществлявшемуся по отношению к крестьянам (учитывая при этом, что даже теоретическая оппозиция была достаточным основанием для ареста).
То, что «бывших людей» оказалось мало, было неудивительно, если принять во внимание, что прежние директивы по ликвидации бывших привилегированных классов проводились в жизнь с большим рвением. Единственными, кто выжил из этих классов, были либо эмигранты, которых было много, либо скрывшие свое происхождение и слившиеся с крестьянами в деревнях или с рабочими в городах. Органы безопасности ни на час не ослабляли своей «бдительности» в отношении представителей этих классов, и ликвидация их продолжалась безжалостно и систематически из года в год.
Где бы ни приходилось мне сталкиваться с этими людьми, в лагерях и тюрьмах, меня всегда поражала их жизнеспособность, особенно замечательная, если принять во внимание, что эти люди никогда не имели навыка к тяжелому физическому труду.
Мое первое, оставившее большое и глубокое впечатление, знакомство с представителем класса «бывших
людей» произошло в Бутырской тюрьме в общей камере, вскоре после моего ареста в 1935 году. В битком набитой людьми камере мое внимание сразу же привлек своим необычно интеллигентным видом и столь же необычно бледным лицом Александр Михайлович Лорис-Меликов. Сначала он держался очень настороженно, но через два-три дня мы познакомились и разговорились. Имя Лорис-Меликова, конечно, должно было о многом сказать тем немногим из «бывших» в камере, кто были образованными людьми, ибо один из Лорис-Меликовых был известнейшим в русской истории реформатором-либералом, подготовившим, будучи министром царя Александра II, великие реформы того времени.
Александр Михайлович был родным племянником того знаменитого Лорис-Меликова. Отец его, наполовину армянин, в начале столетия был членом русской дипломатической миссии в Египте и там женился на местной аристократке. Александр Михайлович заметил как-то потом в разговоре, что особенности его характера объясняются тем, что он на одну четверть европеец и на три четверти — восточного происхождения. Отец его то ли эмигрировал, то ли погиб после революции. Мать старалась не привлекать к себе внимания, а в двадцатых годах вернулась в Египет. В эти же годы Александр Михайлович, очень одаренный математик, окончил университет и поступил на работу в одно из государственных учреждений. К 1930 году он — автор нескольких всемирно известных работ. Он принимает участие в разработке принципиально новых методов в метеорологии и становится лектором Ленинградского университета.
Вместе с тем, большевистская идеология продолжала оставаться для него чем-то вроде проклятия рода человеческого. Он не мог забыть ни своего идиллического детства в Египте, ни роскоши принадлежавшего их семье дворца в Санкт-Петербурге. Хотя и при советской
власти материальное положение его было вполне удовлетворительным благодаря относительно высокой заработной плате научных работников, он все же доказывал мне, что уровень жизни его был намного ниже, чем человека в его положении в так называемом « капиталистическом » мире.
Александр Михайлович делал все возможное, чтобы уехать заграницу, и я был ему особенно интересен как иностранец, знавший заграницу, и как человек, по его выражению, отличавшийся от тех «хамов», которые наполняли тюрьму. Его мало интересовало положение рабочих на Западе и, наоборот, глубоко интересовало положение творческой интеллигенции, на чьих плечах, как он считал, лежит бремя культурного развития. По его мнению, Октябрьская революция безнадежно снизила уровень высших слоев общества, не улучшив в то же время положения бедных. Мы договорились не ссориться по этому щекотливому вопросу, но подолгу беседовали о развитии науки и научных учреждений на Западе. Мне он представлялся типичным осколком прошлого, надеявшимся вопреки реальности на то, что «это неблаговидное предприятие», как он называл Октябрьскую революцию, в скором времени испарится. Он отказывался верить, что какое бы то ни было государство может продолжать существовать в тех условиях, в которых существовал в то время Советский Союз. Он был совершенно убежден, что революционная Россия или распадется в результате давления изнутри или падет под ударами извне — в результате «мирового Крестового похода». Отвергая мои аргументы о сомнительности таких перспектив, он утверждал, что уже в конце того же лета (тогда шел февраль 1935 года) мы станем свидетелями исчезновения советского государства.
Естественно, я спросил Александра Михайловича, каким образом он, член-корреспондент Академии Наук, награжденный рядом правительственных отличий, мог продолжать свою работу при подобных внутренних
убеждениях. На это он ответил, что ни я, ни другие заключенные по камере и понятия не имеем, что такое в действительности русский народ. Он утверждал, что советский государственный аппарат, не имеющий своей элиты, весьма слаб, обладает крайне ограниченным опытом управления. Истинные лидеры, элита, формируются, по его словам, поколениями и неизбежно становятся изолированной привилегированной кастой. Вскоре, рассуждал Лорис-Меликов, народ сам на коленях будет просить прежних властителей вернуться и снова взять на себя управление страной.
— Приходилось ли вам говорить на эти темы с вашими коллегами по работе? — спросил я его однажды.
— Нет, до такой глупости я не доходил. Я всегда добросовестно выполнял все поручавшееся мне. Я даже настолько силен в ленинизме, что мог читать в университете лекции по диамату.
— Так вы действительно знаете диалектический материализм?
— Да чего ж тут знать-то? Это же самая пустая болтовня...
По мнению Лорис-Меликова, поступавшие в университеты при советской власти были настолько малообразованы, что не играло никакой роли, чему и как их обучать. Правительство, по его словам, будет радо, если хоть один процент выпускников университетов и институтов будет в дальнейшем использован в народном хозяйстве и культуре. По его мнению, чисто технические навыки удастся привить и теперь, как удавалось и прежде. Но что касается чистой науки, абстрактного мышления, то тут советскому правительству придется рассчитывать по-прежнему на людей вроде Лориса-Меликова, нет ни малейшей надежды на то, что при советской системе удастся воспитать настоящих ученых. Лорис-Меликов уверял меня, что большинство научных сотрудников в университетах, научно-исследовательских институтах и журналистов разделяют полностью его взгляды.
Александр Михайлович утверждал, что тысячи людей, хотя и не так ясно, как он сам, отдают себе отчет в этой двойственности, и все же — как и он сам — они живут в странном и нереальном мире, поскольку не в состоянии ничего изменить. Лорис-Меликов первым сформулировал точку зрения, с которой мне так часто приходилось сталкиваться впоследствии: если человек попал в воровской притон, и его пытками и голодом заставляют высказывать те или иные взгляды, — то, делая это, он ни в коем случае никак не компрометирует себя, и совесть его чиста. Не так ли принимали мусульманство русские, попавшие в плен к туркам? Хитрость — ответ на насилие. В Советском Союзе органы безопасности играют в игру, может быть не совсем известную в Италии или в Америке. «Сами вы, как иностранный коммунист, может быть и не знаете правил, — объяснял мне Александр Михайлович, — но каждый русский их отлично знает. Поскольку мы не высказываем мыслей, которые враждебны советской власти, той приходится изыскивать другие причины и поводы для репрессий. Время от времени против «бывших людей» проводятся все новые и новые кампании с совершенно явной целью физического уничтожения определенного количества их».
Александр Михайлович был арестован за «саботаж». В 1932 году весь персонал Бюро погоды, во главе с известным ученым Вангенхеймом, был обвинен органами безопасности в умышленной фальсификации прогнозов с целью снизить урожай. Александр же Михайлович объяснял, что расхождения и ошибки в прогнозах были не больше, чем в других странах. Хотя его и не подвергали физическим пыткам, но под интенсивным психологическим нажимом и при безграничном презрении к бюрократической процедуре Александр Михайлович подписал «признание». «Пришлось подтвердить обычную в таких случаях фикцию», — сказал мне Лорис-Меликов. «Да и что было делать? Ведь вопрос об истине и лжи вовсе не
имел значения». Лорис-Меликов убеждал меня, что хотя он и был непримиримым идеологическим противником режима, к своим обязанностям он относился честно. Его присудили к десяти годам лагерей и отправили на строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).
Александр Михайлович попал в 1935 году в Бутырскую тюрьму, где мы встретились, благодаря тому, что в 1934 году органами безопасности был назначен специальный следователь Акулов, на обязанности которого лежал пересмотр ряда дел специалистов. Поэтому Лорис-Меликов был возвращен из лагеря в тюрьму, где и ожидал результатов нового следствия по своему делу. Александр Михайлович заметил саркастически, что, по-видимому, ошибок в предсказаниях погоды стало еще больше после ареста за «саботаж» старых сотрудников, и что, видимо, теперь начальство заинтересовано в его возвращении на работу. Он совершенно прямо и открыто заявил Акулову, что не желает ни амнистии, ни помилования, ни пересмотра дела, а что его единственное желание — уехать из Советского Союза, поскольку он не был чисто русским и имел родственников заграницей. «После всего того, что со мной сделали, говорил Александр Михайлович, я приложу все силы, чтобы выехать заграницу — с воли или из заключения ». На этом он твердо настаивал во время следствия, отказываясь от компенсации, от права свободно работать по специальности и публиковать свои работы. Убийство Кирова окончательно подорвало всякие надежды, даже минимальные, на возможность его выезда заграницу, т.е. какого-то компромисса с органами безопасности. Начались массовые аресты; пересмотр дел был прекращен и заключенные возвращались в свои лагеря.
Я сам все еще верил в справедливость советского правосудия и с момента ареста решил не говорить ничего, кроме чистой правды. Я никогда не отходил от своего решения, какими бы ни были вопросы. Александр Михайлович настойчиво повторял, что я сам
сокращаю свою жизнь, и рассказывал при этом, каким унижениям подвергались в лагерях находившиеся там представители «бывших классов». Он говорил, что в конце концов НКВД всегда возьмет верх. «Сопротивляйтесь им, как вы сопротивлялись бы воровской шайке — хитростью и обманом». Опыт дальнейшего показал мне, что любой из, этих методов мог оказаться роковым для меня. Тот факт, что мне удалось выжить, я только в самой малой мере отношу за счет своей тактики поведения. Всякий раз, когда на меня оказывали давление, с тем чтобы я признал себя виновным в фальсифицированных обвинениях, я объявлял голодовку. Александр Михайлович приходил в ужас от такого поведения. Он считал, что я сам помогаю своим врагам уничтожить меня. Решение следственных органов о том, что дело Александра Михайловича пересмотрено не будет, было объявлено ему как раз в тот момент, когда меня готовились переводить в изолятор за объявленную голодовку. Прощаясь со мной, он сказал, что будет продолжать свою линию, неуклонно добиваясь выезда заграницу. В случае же нового заключения — покончит жизнь самоубийством.
Только через два года после нашей встречи, в 1937 году, мне довелось узнать о трагическом конце Александра Михайловича Лорис-Меликова. В 1935 году он был отправлен в Печорский лагерь на крайнем Севере. Он так яростно сопротивлялся, что его бросили в теплушку связанного. Он продолжал сопротивляться и на первой пересылке и, дойдя почти до исступления, объявил голодовку. На пересыльных пунктах режим настолько строг, что голодовку держать там невозможно. Александра Михайловича швырнули в карцер, почти раздетого, грязного, завшивевшего, лишенного самого необходимого. Александр Михайлович заболел — медицинской помощи ему не оказали, вскоре после этого он скончался.
Советская власть считала людей, подобных Лорис-Меликову, врагами, вредителями, и ликвидация их считалась оправданной. Даже способности и знания
этих людей мало кого интересовали. Больше того, и в среде самих заключенных- люди типа Александра Михайловича Лорис-Меликова вызывали мало симпатии: ведь Александр Михайлович через 15-20 лет после установления советской власти все еще был аристократом, не порвавшим со своим происхождением. А также такие его черты, как готовность поделиться даже своим скудным пайком, не только не увеличивали к нему сочувствия других, а наоборот, делали его еще более уязвимым.
По контрасту с Лорис-Меликовым, гораздо больше симпатии и сочувствия вызывал другой представитель сословия «бывших людей» — Шафранов, которого я встретил в лагере в Норильске в 1939 году. Шафранов был не такого знатного рода, как Лорис-Меликов, но тоже был высокообразованным и интеллигентным человеком. Накануне революции он был членом партии Конституционных демократов («кадетов»), потом стал еще более левым и входил в правительство Керенского. После Октябрьской революции большевики разрешили ему некоторое время работать в Москве в качестве специалиста по вопросам транспорта. В начале 30-х годов, несмотря на старые связи, уже ничто не могло оградить его от ареста под любым предлогом — настолько подозрителен он стал для властей.
Шафранова не судили. Его попросту отправили на три года в лагерь на основании приговора Особого совещания. Через восемь лет он все еще был в лагере! Как ни странно, он сохранил представительную внешность и манеры. Шафранов был крупный человек с мягким характером. Ходил он в лагере, опираясь на палку, и поскольку ему было за шестьдесят, работал техническим специалистом в лагерной администрации. Он был старательным и исполнительным работником и за восемь лет пребывания в лагере не пропустил по болезни ни единого рабочего дня. Успешная работа технического отдела всецело зависела от его инициа-
тивы, знаний и изобретательности в осуществлении технических проектов. Даже партийное руководство данного промышленного объекта из Москвы консультировалось с ним буквально по всем вопросам.
Шафранов, хотя и был, вероятно, выдающимся специалистом и организатором, но все же он не был исключением. Почти все технические специалисты в лагерях набирались из среды самих заключенных и ни один из проектов ГУЛАГА (Государственного управления лагерями) не мог бы быть осуществлен без их участия. И до сих пор в Советском Союзе спорят об экономической целесообразности использования труда заключенных. Однако факт остается фактом: даже при наличии астрономических сумм, отпускавшихся на крупнейшие объекты, их осуществление было бы невозможно без участия «технической элиты» из среды заключенных.
Когда я вышел на свободу после смерти Сталина, мне довелось посмотреть фильм «Мост через реку Квай», и я отметил про себя, что и японцы, применяли принципы советских органов безопасности. Японцы не только использовали заключенных в качестве рабочей силы, но и использовали в чисто экономических целях ум и стойкость военнопленных. Начиная с тридцатых годов, советская власть также пользовалась трудом десятков миллионов людей, работавших в неподдающихся описанию условиях, за ничтожное вознаграждение или вообще без него. Заключенные делали невозможное. Но почему подчинились они воле державших их в заключении? Почему они не пошли на подрыв, вредительство, саботаж? Как ни странно, они были убеждены, что все это пойдет на пользу России. Их глубочайший патриотизм был даже сильнее ненависти к коммунистической системе. Кроме того, они хотели выжить, а работа приносила некоторое смягчение условий (послабление давалось государством из того чисто практического соображения, что их работа может понадобиться и дальше). Те
льготы, которые техническая элита из среды заключенных завоевала для себя, позволяли спасать от верной смерти тысячи и тысячи других заключенных. Без тех небольших привилегий, которыми эти люди пользовались, они бы без сомнения погибли, поскольку, в общем, условия были таковы, что не обеспечивали и минимального уровня существования.
Сам Шафранов не верил в возможность своего освобождения даже после отбытия второго срока в 1942 году. За два года до этого ГУЛАГ предложил освободить его формально с тем, чтобы он оставался на месте для дальнейшей работы. Комендант лагеря сказал ему, что если он вернется в Москву, то будет немедленно снова арестован. Внезапная смерть Шафранова от сердечного приступа в 1940 году решила и эту дилемму — для него и для администрации.
Александр Михайлович Лорис-Меликов умер как пария в совершенном одиночестве, похороны же Шафранова вылились в настоящую демонстрацию. Прошлое его было совершенно забыто, заслонено тем признанием, которое он заслужил в последние годы. Многие заключенные из среды рабочих и крестьян относились с симпатией к людям типа Шафранова, несмотря на его аристократическое происхождение. Они осуждали администрацию в тех случаях, когда с такими людьми поступали жестоко. С другой стороны, как мне известно, даже майор НКВД относился к нему с сочувствием и уважением. Шафранов был положительным созидательным человеком, оправдавшим не только свое собственное существование, но и существование многих своих друзей. Своей работой он не только спасал себя, но и помогал многим другим заключенным. В этом разница между Шафрановым и Лорис-Меликовым.
В 1936 году я попал в карцер московской Бутырской тюрьмы за свое решение объявить голодовку. В то время было так много голодавших, что в тюрьме не
хватало места. Поэтому в одиночных камерах было по два, а иногда и по три заключенных. Один из таких голодавших тоже был представителем класса «бывших людей». Ему на вид было не больше 18 лет. Черты лица выдавали чем-то его происхождение из «благородных». Поскольку я казался ему по крайней мере на десять лет старше, а борода придавала мне к тому же немножко респектабельности, мой коллега по камере нервозно, даже истерично обратился ко мне за помощью и советом.
«Я — Оболенский, — заявил он несколько с вызовом. — Один из тех самых Оболенских». Семья его выехала заграницу через Латвию и добивалась для него через Красный Крест и, в частности, через Екатерину Павловну Пешкову (бывшую после смерти Ленина ответственной за тот отдел Красного Креста, который занимался эмигрантами) разрешения на выезд в Лондон или в Париж.
Оболенский уже до этого просидел три года в тюрьме по обвинению в «контрреволюционной агитации». Он попал в тюрьму в 1933 году за несколько слов критики советской власти, в разговоре с другими школьниками. К счастью, возраст его, а может быть и усилия его семьи помогли ему избежать полного разложения. Он вел себя корректно и работал в лагере старательно, надеясь на то, что его выпустят заграницу после окончания срока. Но в тот самый день, когда его должны были выпустить, ему объявили, что против него возбуждено новое дело. Оболенский говорил, что представить не может, какие могут быть против него обвинения, поскольку он провел последние три года в заключении. Он не знал, что получена новая инструкция не освобождать политзаключенных до особого распоряжения. Поэтому следователи усиленно занимались изобретением новых фальсифицированных обвинительных материалов.
Оболенский просил меня посоветовать, сколь долго следует ему продолжать голодовку. Он был здоровый
молодой человек с молодым аппетитом. Приходили часы еды. Видно было, что он находится в тяжком замешательстве и ищет только предлога, чтобы прекратить голодовку.
Мы долго говорили об этом, а также и о его прошлом. Он был воспитан уже при советской власти, но, подобно Лорис-Меликову, мыслил совершенно независимо. Соглашаясь с ним в том, что касалось жестокостей лагерного режима, я, вместе с тем, сказал ему, что остаюсь сторонником идеалов Октябрьской революции, направленных ко всеобщему благу и ликвидации особых привилегий незначительного меньшинства.
Оболенский быстрым рывком поднялся с койки и начал ходить из угла в угол по карцеру, выкрикивая при этом: «Вы читали Тургенева? Помните Базарова? Человечество — это не мое дело. И, между нами, ОНИ тоже считают, что человечество и гуманизм — не их дело. Они только притворяются, прикрываются этими понятиями, чтобы скрыть то, что они на самом деле творят. Нельзя служить человечеству, не добиваясь совершенствования, не исполняя миссию Человека».
Спор наш зашел в тупик.
В противоположность Лорис-Меликову, Оболенский не ожидал скорого падения советской власти. Но он утверждал, что отказ считаться с отдельной человеческой личностью в пользу человечества в целом поведет к еще большим несчастьям и кровопролитию, чем когда бы то ни было прежде. Мысли его были заимствованы, как и многими другими, у русских классиков: у Толстого, Тургенева и, конечно, в особенности — у Достоевского. Казалось странным, что спустя полстолетия после своей смерти Достоевский все еще владел умами молодежи! В ходе наших разговоров о «Бесах», о «Братьях Карамазовых» Оболенский доказывал мне, что Достоевский предсказал и верно судил «обо всем этом». Русские увидели смысл жизни и свою «миссию» в православии. И будущее подтвердит, что так оно и есть.
Оболенский жадными глазами смортел на приносившуюся в карцер еду. Чтобы облегчить его страдания, я посоветовал ему попросить карандаш и бумагу и написать письмо Пешковой, «тете Кате», как называли ее заключенные. Если администрация согласится, то, посоветовал я Оболенскому, ему следует прекратить голодовку. Так и вышло: тюремная администрация согласилась и Оболенского перевели в другую камеру. Впоследствии мне пришлось услышать, что Оболенский находится в камере для тех, кому разрешается эмигрировать. Если ему действительно удалось уехать, то это его счастье. 1936 год был поворотным пунктом. В 1937 году было уже слишком поздно.
Я не берусь утверждать, что описанные мною три человека иллюстрируют судьбы всей дореволюционной аристократической интеллигенции, оставшейся в Советском Союзе. Мне пришлось столкнуться только с остатками этого класса, от случая к случаю использовавшегося коммунистической партией, в общем поставившей целью его полную ликвидацию. Когда этот процесс был почти закончен, была принята «сталинская» Конституция 1936 года. Хотя эта конституция формально предоставляла всем равные права, на деле она отстранила всех от какого бы то ни было участия в управлении делами государства. Конституция знаменовала окончание дискриминации по отношению к «бывшим людям» как к классу. Но не имеющее никакого практического значения возвращение им прав участия в выборах, прав занимать ответственные посты и учиться в университетах по времени совпало с началом новых преследований, направленных на сей раз не специфически против них, а против всякого, кто мог быть заподозрен в намерении выступить против режима Сталина. Характерно в этом отношении и изменение некоторых официальных «анкет», наводивших ужас на все население. Теперь там не было вопроса о собственности и владениях, зато стояли вопросы: не подвергались ли репрессиям сами за
полняющие анкеты или кто-либо из их родственников, и нет ли у них родственников заграницей. Теперь на этом именно основании выявлялись различия между социальными группами.
Уничтожение «бывших людей» заняло двадцать лет. Процесс созидания «нового человека» и нового общества — продолжается.
ГЛАВА 2 Писатели
ГЛАВА 2
ПИСАТЕЛИ
В тридцатые годы снова и снова на страницах газет, журналов и в книгах обсуждался вопрос «нового человека». Тема «нового человека», постепенно отстранив все остальное в коммунистической теории, стала доминирующей. Причину этого нетрудно было понять. Революция прошла уже свои начальные стадии, заложены были основы «нового общества» и с каждым годом углублялись социальные преобразования. И вместе с тем все яснее становилось, что само по себе создание новых отношений между людьми недостаточно, что для изменения общественных формаций необходимо в первую очередь переделать самого человека.
В начальных фазах революции от людей требовали, главным образом, жертв и борьбы с трудностями. Однако, по прошествии 15 лет руководство почувствовало, что от него ожидают указания о том, что период подготовки миновал. Тогда был выдвинут лозунг «создание нового человека». И вот в процессе «создания нового человека» понадобились специалисты, профессионалы. Ведь политики заняты были общест-
венными делами, экономисты, плановики — различными планами, цифрами, мобилизацией ресурсов для промышленного развития и т. д. Но могли ли их совместные усилия механически помочь созданию «нового человека?» Коммунистическая партия решила, что этого недостаточно и что дело это следует поручить экспертам. Назначались люди, специально ответственные за «рождение», воспитание и получение образования «нового человека».
В советских газетах появился особый раздел, посвященный решению личных и общественных вопросов, касавшихся воспитания «нового человека». В нем обсуждались и общие принципы, каким должен быть «новый человек» в социалистическом обществе. Давались предсказания, какими качествами будет обладать человек будущего, жестоко клеймились «пережитки прошлого в сознании людей», мешающие появлению «нового человека». Как известно, нелегко заинтересовать людей фактами и цифрами о промышленности или науке, а статьи, касавшиеся личных вопросов жизни, в советских условиях всегда пользовались исключительным вниманием читателя. «Очеркисты», хотя и в совершенно ином роде, чем в прессе Запада, сделались постепенно «стражами общественной морали»: они-то и стали, в конце концов, специалистами в вопросах формирования «нового человека». Статьи их приобретали особый вес и значение, потому что, с точки зрения читателя, они выполняли функции социальной критики.
Насколько можно изменить человека? То, что человека можно изменить— основное положение марксизма. Марксизм утверждает, что все люди рождаются одинаковыми и что вся разница между ними — условия существования. Разумеется, сама постановка вопроса не нова: им занимались философы на протяжении всей истории цивилизации. Теперь этот вопрос стоял уже не в философской, а в политической плоскости, и он был главной темой писателей — очеркистов, задача которых
состояла в том, чтобы увидеть в человеке «ростки нового», т. е. те изменения в людях, которые принесла и приносит новая эпоха.
Правда, еще в двадцатых и в тридцатых годах мне приходилось сталкиваться с людьми, относившимися ко всему этому как к некой софистике. Некоторые из них прямо заявляли, что существующее общество не в состоянии создать «нового человека» и никогда его не создаст. В частности, непригодны были наследники капиталистических классов и крепостников, поскольку в них сохранялись пережитки старого и несправедливого общества. К «новому обществу» стремился и Лев Толстой, но Толстой считал, что начинать следует именно с «нового человека», а не наоборот. Да и действительно: что раньше — курица или яйцо? Создает ли новое общество нового человека — или наоборот? Неудивительно, конечно, что подобные споры оканчивались ничем, заводили в тупик.
В первые годы советского государства полагали, что вопрос этот решится сам собой. И не дала ли ответа на этот вопрос сама история? Не изменилось ли радикальнейшим образом общество? Поэтому партийное руководство и пропагандисты полагали, что «новое общество» создаст автоматически «нового человека». В произведениях Ленина приводилась именно такая точка зрения. Ее разделяли и окружавшие Ленина большевики, а в известный период она получила распространение и во всем мире. Вскоре, однако, стало очевидным, что достижение такого идеала не так уж неизбежно. Отмена частной собственности ни в коем случае не отменила жажды собственности. Устранение экономического господства одного индивидуума над другими ни в коем случае не устранило жажды власти в целом, не ликвидировало связанных с этим преступлений.
Поэтому коммунистическая партия начала переносить акцент на субъективные факторы. По-видимому, именно субъективные факторы призваны были сыграть ключевую роль как в разрушении старых общественных
отношений, так и в развитии новых. Марксистская теория утверждает, что социальная эволюция подчиняется внутренним имманентным законам. Теперь же стали утверждать, что время еще не пришло отказываться от волюнтаризма. А это влекло за собой весьма далеко идущие последствия. Если «новый человек» не был автоматически продуктом «нового общества», то создать его лежало на обязанности стоявшей у власти партии — партии, построившей новое общество, и члены этой партии должны были взять на себя роль воспитателей «нового человека».
Против этого была, в большинстве своем, русская интеллигенция, сначала примирившаяся с новым советским режимом, а впоследствии вступившая с ним в острый конфликт. Если «новый человек» и должен был быть создан путем «воспитания», то почему это воспитание поручалось тем, кто лишь стремился к обладанию политической властью в стране (и средствами принуждения)? Как мы видели, их возражения ни к чему не привели.
«У нас нет нужды в самозванных учителях, — шутили партийцы. — Мы сами всем другим учителя». А это значило, что весь остальной народ автоматически обращался в «учеников». Но нашлось столько «учеников», отказавшихся признать «учителей» выше себя, что в результате все смешалось. Трудно было новоявленным учителям завоевать доверие большинства.
Впрочем, спор о том, можно ли изменить человека, вспыхнул и в самой партии. В конце концов этот спор пришлось разрешить не логическими аргументами, а, в силу политических обстоятельств, насилием. И поэтому вся концепция перевоспитания была целиком дискредитирована в глазах народа. Народ с самого начала сомневался как в самой возможности такого перевоспитания, так и в том, что партии может принадлежать в этом монополия. Наиболее честные из членов партии утверждали, что предпосылкой для перевоспитания должны быть рациональные факторы
и что иначе все это перевоспитание выродится в новую мифологию. Но, с другой стороны, образование и воспитание, основанные на здравом смысле, мало подходили к нуждам миллионов людей в России — малообразованных и привыкших подчиняться готовым указаниям сверху. Этим и хотела воспользоваться партия.
Желание монополии в воспитании масс, наряду с другими факторами, обусловило и потребность в монолитности партии.
Одним из первых моих знакомых в сибирских лагерях был человек, которого я встретил однажды утром ранней весной на работах и которого я никогда с тех пор не видел. В то утро температура была минус сорок градусов. Мы все невыносимо страдали, потому что одеты были в лохмотья. Мой новый знакомый страдал так же, как и все остальные. Он был крайне изможден. Вид его вполне соответствовал моему представлению о том, как должны выглядеть люди в трудовых лагерях. Я думал, что там находятся исключительно преступники и контрреволюционеры. Этот человек сказал мне, что он толстовец и что в лагерях вокруг нас находятся тысячи других толстовцев. Свои убеждения он высказал по-деловому, спокойно, но после этого начал горячиться и стал очень возбужденным. Он понимал, что вновь прибывающие в лагеря, подобно мне, были коммунистами, арестованными другими такими же коммунистами, чтобы самим удержаться у власти. Его больше всего занимала именно коммунистическая идеология, и он, по-видимому, обсуждал этот вопрос бесконечно как наедине с самим собой, так и в разговорах с другими.
— А, так вы — коммунист. — Мой собеседник явно торжествовал. — Ну что ж, скажу вам о том, чего вы еще не знаете, но скоро узнаете: Толстой был прав. «Новое общество» нельзя построить с человеком, каков он сейчас. Сначала нужно переделать душу человека.
Человек подмигнул, пожал мне руку и исчез. Хотя я больше никогда в жизни не видел его, я бесчисленное
количество раз слышал от других такую точку зрения. И чем больше усилий прилагает государство, чтобы создать «нового человека», идеального члена «нового общества», тем больше возникает сомнений в осуществимости этой идеи.
В то время репрессии продолжали усиливаться. Официальной политикой партии было создание «нового человека». На практике это значило создание огромной сети трудовых лагерей. В лагерях миллионы заключенных были вырваны из привычных им условий существования, а их наставниками были тысячи обученных методам «перевоспитания» начальников. Что касается советского общества в целом, то оно проходило через период тяжких сомнений. Люди задавались вопросом: «Почему перевоспитание не только не смогло устранить прежних «пороков», но, наоборот, порождает новые? И не следует ли начать все с самого начала, применив совершенно другие средства и методы?».
Официальный курс был недостаточно ясен и даже противоречив. Снова и снова поднимались вопросы об отношении к наказанию, о характере советского правосудия, вопросы, на которые, казалось, уже был дан однажды исчерпывающий ответ. Не говорилось ли прежде, что понятие «неисправимый преступник» — не отвечает марксистской теории? И не говорилось ли о том, что советское общество может исправить каждого? Ведь прежде полагали, что даже наиболее злостные преступники могут стать «сознательными и полезными» членами общества. И вот, как ни странно, чем больше становилось полезных и сознательных, тем больше росло число лагерей и количество «подходящего материала» для них. Поэтому единственное средство остановить хаос и разброд в сознании состояло в том, чтобы задушить оппозицию и, таким образом, приостановить все и всякие споры.
В лагерях мне пришлось наблюдать, что как только разговор доходил до фундаментальных проблем, тотчас предельно накалялись страсти. Единственное, однако,
с чем соглашались все, было то, что «официальная» доктрина лжива. Какими бы ни казались перспективы закладки новых моральных основ общества, ясно было, что текущий момент с его глубочайшими противоречиями — самое неподходящее для этого время.
Государство же ограничивалось паллиативными мерами. В тот или иной момент выявлялись те или иные «недостатки», проводилась кампания по борьбе с ними. Часто эти недостатки об'являлись «пережитками прошлого». Соответственно этому проводились и кампании пропаганды « новых черт » коммунистического общества. Но даже и в этом ограниченном аспекте «основы новой нравственности» наталкивались на серьезные противоречия. Убийство оставалось убийством. Если жертвой убийства оказывались отец или мать убийцы, то преступление, естественно, отягчалось еще больше. Однако, с другой стороны, сын, донесший по наущению воспитателей на отца или мать, в результате чего родителей расстреливали, считался «героем» и примером для подражания. Так, среди пионеров культивировалась легенда о Павлике Морозове, выдавшем своего отца «кулака» и посему достойном подражания. Таким образом, те действия, которые всеми считались порочными и преступными, получали положительную оценку. Многочисленные статьи прославляли детей, доносивших на «антисоциальных» родителей, не выполнявших госпоставки зерна, либо на тех, кто ходил в церковь или вообще не хотел порывать с прежними нравственными оценками и устоями. В то же время детей учили быть послушными своим родителям, уважать их, а убийство родителей оставалось тягчайшим преступлением. Как же разобраться в том, что можно и чего нельзя? И по сей день многие в Советском Союзе не могут до конца понять этого.
Разумеется, из собственного опыта каждый живущий в Советском Союзе знает, за что хвалят, а за что наказывают. И все же, отделить дозволенное от недозволенного — не так просто. Исключений сколько
угодно. Поэтому приобрели такое значение и авторитет публицисты-очеркисты, занимавшиеся разбором такого рода ситуаций. Такие очеркисты были до известной степени нравственными арбитрами в советском обществе. Поэтому мне особенно любопытно было лично встретиться с кем-нибудь из них. «Что это за люди?» — спрашивал я себя. Ведь от их характера, от их нравственных устоев зависело многое, если учесть отсутствие твердо установленных и определенных норм морали. Да и хватало ли людей, обладавших необходимой интуицией в этих вопросах?
Подобно многим другим советским и зарубежным коммунистам, я полагал, что и тут нужны арбитры общественной морали, увлекающие других силой примера.
Таковой считалась «официальная линия». Было объявлено, что подобные люди действительно существуют. И, разумеется, искать их следовало, согласно официальной доктрине, в рядах членов партии. Но с другой стороны, и сама партия, к сожалению, претерпевала постоянные перемены. Миллионы членов партии, пребывавших на хорошем счету, неожиданно становились недостойными членства в ней. И поэтому сама концепция «настоящего» коммуниста оказалась относительной. Если уж и коммунисты в своей массе оказывались ненадежными, то от этого еще больше возрастала роль публицистов-очеркистов, на которых партия возложила обязанность быть нравственными наставниками советского общества.
Аграновский, бывший в течение многих лет сотрудником «Правды», являлся типичным их представителем. Мне довелось встретиться с ним в 1939 году в Норильске. Я уже от других знал, что Аграновский был в числе заключенных в этом же лагере. Сразу же мелькнули две мысли. Во-первых, что ЦК не нашло лучшего вознаграждения для нравственного арбитра советского общества, чем отправить его в лагерь. И во-
вторых, что очень интересно было бы с ним познакомиться и поговорить, узнать в чем его обвинили, как он сам относится к этому обвинению, к партии, к советскому обществу в целом. Какое-то представление о нем у меня сложилось по его статьям в советской печати. И вот теперь — возможность лично выяснить, что кроется за официальным фасадом. Возможность узнать, как он изменился, если он вообще изменился.
Я знал, что в свое время партия в результате тщательных поисков остановила свой выбор на Аграновском, наиболее подходящем для такой работы человеке. Среди конкурентов были такие известные партийные публицисты, как старый большевик Л. Сосновский, старый член партии, блестящий и проницательнейший публицист А. Зорич, журналисты включившиеся позже, такие, как Рыклин, Заславский, Михаил Кольцов. В то время я еще не знал, что М. Кольцов, брат известного художника-каррикатуриста Бориса Ефимова, был арестован в связи с событиями гражданской войны в Испании. Корреспонденции Кольцова из Испании были написаны с большой искренностью. Читатели «Правды», где они печатались, конечно, заметили исчезновение популярного журналиста. Но они не знали, что он исчез в застенках НКВД. Мы в лагере узнали об этом некоторое время спустя, узнали и о том, что с Михаилом Кольцовым исчезли и многие другие, кто принимал участие в гражданской войне в Испании. Большинство, в том числе награжденные за эту войну и особо там отличившиеся, было арестовано немедленно по возвращении из Испании; многие расстреляны, другие посажены в тюрьмы или в лагеря. Когда все это дошло до нас, Кольцова уже не было в живых. Его реабилитировали лишь через 20 лет, а книги писателя переиздали.
Первое впечатление от знакомства с Аграновским было вполне благоприятным. Он держался скромно. По поводу обсуждавшихся проблем давал тщательно продуманные и взвешенные ответы, старался охватить
тот или иной вопрос с разных сторон. Все же от советского нравственного арбитра я ожидал несколько большей глубины в суждениях. Аграновский рассказал мне, что в 1938 году его обвинили в «заговоре журналистов». Знакомый с моей биографией, Аграновский отлично понимал, что готовые формулы я и сам прекрасно знаю, но что я пытаюсь проникнуть глубже за внешний фасад. Однако, когда мы в разговоре затрагивали проблемы принципиального характера, Аграновский становился уклончив, уходил в свою «скорлупу» старого и многоопытного партийного теоретика. Я понимал его осторожность: ведь даже спустя годы после приговора над каждым заключенным висела опасность новых обвинений и нового срока. Откровенный разговор легко мог привести к обвинению в антисоветской пропаганде. Аграновский хотел бы, вероятно, вообще избежать всякого контакта с другими заключенными, но в лагерных условиях полная изоляция была невозможной. Аграновский вскоре стал центром своего рода дискуссионного кружка, участники которого прекрасно понимали опасность и нежелательность перехода «по ту сторону» официальных партийных установок. Я тоже считал само собой разумеющимся не касаться всего того, что могло быть превратно истолковано.
Аграновский получил медицинское образование. После окончания института работал некоторое время в Министерстве здравоохранения (из-за недостатка в то время надежных партийных кадров). Поскольку Аграновский, естественно, в лагере писать не мог, он вернулся к своей старой специальности и стал санитарным инспектором лагеря. Об этом он был готов разговаривать сколько угодно, хотя каждый врач в лагере неизбежно сталкивается с глубокими дилеммами моральною порядка.
Аграновский утверждал, что работа его в качестве лагерного врача-санинспектора имеет и нравственный аспект, что его задача и тут состоит в том, чтобы
повышать сознательность окружающих его заключенных. Подход его, однако, был, мягко выражаясь, странным. В то время как он ревностно помогал лагерной администрации в выполнении всех местных правил, Аграновский постоянно отказывался выступать в поддержку и защиту тех заключенных, которые просили об улучшении условий в лагере. Хотя старые члены партии в среде заключенных с уважением относились к нему за его статьи и очерки в «Правде», большинство заключенных его возненавидело, поскольку они ожидали от него, как от врача, помощи в облегчении их участи. Несмотря на то, что сам Аграновский был приговорен к 20 годам лагерей, заключенные считали его не жертвой, а скорее послушным орудием лагерной администрации.
Аграновский не признал себя виновным в предъявлявшихся ему обвинениях. Он и ряд других журналистов были обвинены в период Ежова. Не все были сразу же схвачены. Арестовывали их группами, причем «признания » одной группы служили для ареста и следствия другой группы.
Во второй половине 1938 года положение Ежова уже пошатнулось, и с целью удержаться он развернул террор еще шире. Тех, чьи «дела» были закончены, немедленно присуждали к суровому наказанию.
Вскоре, однако, Сталин решил устранить самого Ежова и заодно дискредитировать некоторые из приписываемых ему методов ареста и следствия. Вместе с ним были устранены и многие начальники отделов, в том числе и один из сотрудников Ежова, ответственный за так называемый «заговор журналистов». Уход Ежова спас, между прочим, от ареста некоторых из более известных журналистов, таких, например, как Заславский (в «Правде») и многих членов редколлегии «Известий» и связанных с ними журналов.
Известие об устранении Ежова Аграновский получил от семьи, все еще усиленно хлопотавшей о пересмотре его дела. Когда Аграновский заявил нам
«Теперь мое дело пересмотрят», мы не могли не посмеяться над его, как нам казалось, наивностью. Однако последним смеялся Аграновский. Перемены на верхах НКВД, связанные, в частности, с устранением Ежова, спасли по всему Советскому Союзу, вероятно, не менее 50 тысяч человек. Когда на завод назначают нового директора, он иногда приостанавливает выпуск продукции с того или иного конвейера, отменяя при этом заказы на определенные виды сырья. Так были приостановлены и прекращены тысячи «дел».
Аграновский лучше нас знал закулисные механизмы работы НКВД. Он немедленно принялся писать заявления. Причем заявления не Сталину или Вышинскому как делали тысячи других, а оставшимся на воле друзьям, имевшим «доступ». Через 18 месяцев Аграновский был освобожден и дело его прекращено. Причина была в том, что сменивший Ежова Берия должен был или арестовать всех значившихся в ежовских списках или объявить, что «заговор журналистов» был ошибкой и освободить всех находившихся по этому делу в лагерях и тюрьмах.
Аграновский был освобожден в январе 1941 года, его реабилитировали и вернули партбилет. Но сам он не вернулся в Москву, а остался в Сибири. В июне 1941 года началась война и вместе с ней — массовая эвакуация из Москвы на Восток. Аграновский стал корреспондентом одной из сибирских газет, и, хотя здоровье его было подорвано, продолжал писать статьи о советской жизни и нравственности. Через несколько лет он умер, и «Правда» поместила некролог в связи с его смертью. Аграновского похоронили за счет государства со всеми полагающимися почестями, но нигде ни словом не упомянули, что смерть его в возрасте 54 лет была ускорена арестом, допросами и заключением в тюрьме и в лагере.
Дело Аграновского — наглядная иллюстрация того, сколь практически невелика ценность дискуссий о советской этике. Аграновский на основании решений
«на верхах» был возведен в ранг высшей советской иерархии. И после этого он был арестован, подвергнут пыткам и приговорен к 20 годам заключения на основании совершенно смехотворных обвинений. Затем его освободили, оправдали, и это только потому, что произошли известные сдвиги в головке НКВД. В результате перенесенных лишений Аграновский через несколько лет умер. Судьба его, как и судьбы многих других, подчеркивает бесполезность тех дискуссий философского порядка, которые шли в 20-х годах, в период второй Мировой войны и которые возобновились после смерти Сталина.
В 1936 году во время моего пребывания в Бутырской тюрьме я встретил очень любопытного человека, фамилия его — Парфенов.
— Не путайте меня, — сразу же предупредил Парфенов, — со свиньей и лизоблюдом Федором Панферовым.
Он был среднего роста, крепкого сложения, с типично русской внешностью. Он происходил из крестьянского казачьего рода, но вырос в Сибири. К Парфенову относились с большим уважением. Вскоре я узнал, что он — поэт, старый член партии, командовал партизанским отрядом в Сибири. Его отряд сражался против Колчака, потом — против японцев. Парфенов был связным между командованием сибирских партизан и Центром. После окончания гражданской войны он стал писателем; писал романы, рассказы и популярные песни, причем писал для этих песен и слова и музыку. В 1935 году был опубликован его роман «Общественное и личное», в котором он описывал судьбы героев гражданской войны, те трудности, с которыми им пришлось столкнуться в советской действительности. Роман вызвал восторженные похвалы и резкую критику. В конце концов Парфенов был арестован по обвинению в правом уклоне.
Когда мы впервые встретились в камере Бутырской тюрьмы, следствие по его делу велось уже девять месяцев. Заключенные в камере очень любили его как за рассказы из гражданской войны, так и за его песни, хотя пел он их только вполголоса: шум в камерах запрещался начальством.
У Парфенова была особая причина популяризировать» свои песни: по его словам, многие из сочиненных им песен были присвоены Лебедевым-Кумачом и другими поэтами-песенниками, менявшими, как он говорил, два-три слова его текста. Парфенов часто рассказывал о своей партизанской песне «По долинам и по взгорьям». Его особенно возмущал плагиат, совершенный в отношении этой его песни. И, конечно, его можно было понять: автора не только лишили славы, но вместе с тем и огромных гонораров, которые выплачивались поэтам-песенникам. И хотя финансовая сторона была в общем для него второстепенной, и он никогда о ней не говорил, все же и она, без сомнения, увеличивала в нем чувство негодования.
Парфенов в прошлом был упрямым, неуживчивым. Он рассказывал нам, что у него часто возникали ссоры с Союзом писателей, а также с издательствами. Он неоднократно посылал в газеты письма, защищая свое авторство, и, несмотря на это, многие из его песен и стихов продолжали приписывать другим авторам. Он был антисемитом и считал, что евреи заправляют в официальных советских литературных кругах и что арест его — следствие интриг литературной клики, задавшейся целью лишить его литературной славы и вообще раз и навсегда заткнуть ему рот.
Парфенов был лично знаком с множеством наиболее известных русских и советских писателей. Был другом Есенина. В период пребывания на Дальнем Востоке знал Фадеева. Одно время ему помогал Горький. Из дореволюционных русских писателей он особенно ценил Лескова. Он так восторгался Лесковым, что под его влиянием и я достал в тюремной библиотеке Леско-
ва и тоже стал поклонником этого писателя: не за его идеи, а за красоту и богатство его стиля.
Парфенов был членом правления Московского отделения Союза писателей. От него я многое узнал о писательских чаяниях, а также и о раздорах в их среде. Из рассказов Парфенова вытекало, что его и группу других писателей преследовали за их верность русским национальным традициям. Когда в 1934 году с докладом на Первом съезде писателей выступил Бухарин, у них сложилось впечатление, что их взгляды получили официальное признание.
С момента основания Союза советских писателей эта группа требовала создания особого Союза русских писателей в рамках организации. На этом особенно настаивали ленинградская и ростовская делегации. По их мнению, поскольку существовали Союзы узбекских, киргизских, украинских писателей, русские писатели тоже имели право на особую организацию — чтобы не раствориться в общем Союзе советских писателей. Предложение этой группы было отвергнуто и расценено как шовинистское. Взгляды самого Парфенова по этому вопросу были для меня не совсем ясны, поскольку он, скажем, считал, что пишущий по-русски украинец должен принадлежать к русской секции Союза писателей, тогда как он предлагал исключить из нее Эренбурга, потому что Эренбург писал по-французски. Мои возражения, что Эренбург писал не только по-французски, но и по-русски, не изменили его взгляда.
Во время допросов Парфенов не мог удержаться от критики по адресу Сталина, считая, что методы Сталина не соответствуют русскому характеру и духу. В качестве курьеза замечу, что он очень высоко ценил Троцкого, с которым познакомился во время Гражданской войны. Он критиковал политические взгляды Троцкого, но был высокого мнения о личных его качествах.
Что касается остальных членов партийного руко-
водства, Парфенов особенно выделял из их среды Кирова, поскольку Киров отстаивал русскую культурную традицию, в ряде случаев непосредственно поддерживал Парфенова и его друзей, окружал себя близкими к литературе людьми, во всем помогал этим людям. Еще одной заслугой Кирова, согласно взглядам Парфенова, была нелюбовь Кирова к Кагановичу. Парфенов считал Кагановича злым демоном ЦК и называл его мелким, тщеславным, пробивавшимся за счет других, жестоким не только потому, что он исполнял директивы Сталина, но и жестоким по натуре. Парфенов утверждал, что Каганович не только не знает по-настоящему русского языка, не только совершенно не знаком с русской литературой и культурным наследием, но и чужд культурным традициям самой Революции и психологии русской интеллигенции. Парфенов считал, что Каганович обязан своим положением той роли, которую он сыграл в ходе коллективизации, которой он лично руководил от имени ЦК партии.
Парфенов говорил мне, что во время допросов он высказывал свое мнение о Кагановиче в глаза следователю, который заверил его в том, что эти заявления не будут использованы следствием. В то время была абсолютно исключена любая критика по адресу Сталина. Что же касается остальных руководящих деятелей, то критика по их адресу никому не возбранялась.
На свое несчастье Парфенов позволил себе критиковать и самого главного тирана. В то же самое время он считал себя преданным членом партии, надеялся получить поддержку тех, кто сочувствовал националистически настроенным русским писателям, и полагал, что в конце концов его все же освободят из заключения. В ожидании этого дня он продолжал сочинять стихи и мелодии и, так как письменных принадлежностей в камере не полагалось, Парфенов, подобно средневековому барду, декламировал свои произведения другим заключенным.
Оптимистический взгляд Парфенова на будущее
оказался необоснованным. В результате нажима, оказывавшегося на него в ходе допросов, он заболел и был переведен в тюремную больницу. Я слышал, что его долго еще переводили из больницы в больницу, после чего решили использовать на процессе Бухарина. Вскоре после этого Парфенов погиб. Возможно, что он был расстрелян.
В 1962 году, просматривая «Литературную газету», я увидел довольно странную заметку. В ней говорилось, что авторские права на партизанскую песню «По долинам и по взгорьям» возвращены ее действительному автору. И я понял, что Парфенов, хоть и посмертно, добился все-таки справедливости. Каково должно было быть удивление читателей «Литературной газеты», когда через сорок лет они узнали об авторе популярнейшей песни, известной не только в СССР, но и за его рубежами. (Эта песня приписывалась Сергею Алымову). Не исключено, что в этом деле какую-то роль сыграл Михаил Шолохов, сам казак. Шолохов мог помочь посмертному восстановлению истины, так как сам Парфенов не раз говорил мне о критическом отношении Шолохова к «верхам».
Если верить Парфенову, он был далеко не единственной жертвой литературного плагиата. Даже наиболее видные литераторы не гнушались этим. Причину тому нетрудно отыскать, если вспомнить баснословные доходы, которые приносили и приносят их авторам популярные песни, а вместе с ними и огромную известность.
Следует учесть, что в те времена в СССР общедоступная культура пользовалась прямой поддержкой Сталина. Сталин несомненно был под влиянием малокультурных людей, окружавших его, но нет сомнения, что он старался угодить и вкусам народа. Главным критерием творческого труда была его доступность широким массам. Этим объясняется глубокая враждебность Сталина к различным экспериментам в искусстве, доступном лишь очень немногим. Сталин
требовал, чтобы все написанное было понятно и доступно каждому и чтобы в нем прославлялся советский строй.
До известной степени Сталину удавалось получать от писателей-прозаиков желательные произведения. Меньшего успеха добивались в драматическом искусстве, поскольку ложь на сцене не приносит желаемого эффекта, а пьесы, совершенно не отражающие действительности, не привлекают публику.
Песни, написанные Парфеновым до заключения, были сущим даром для советского режима: они пользовались большой популярностью и, кроме того, прославляли героев гражданской войны. Песни, написанные им в тюрьме, были иными. Я не могу привести их здесь, но помню, что в них была злая сатира на жизнь в Бутырках, на допросы и на следователей.
Сохранились ли они? Парфенову, как он говорил, только однажды удалось записать кое-что, но листок, на котором он писал, был тотчас же отобран охраной. Может быть, все это до сих пор хранится где-нибудь в его «деле» и со временем будет найдено как документ эпохи.
Среди тех писателей, с которыми мне довелось встретиться в тюрьме в 1936 году, были и такие, которые писали в строго партийном духе, которые прилагали все свои силы и энергию, чтобы сказать то, что полагалось говорить, и еще большие усилия, — чтобы не сказать то, чего не полагалось говорить. Как же получилось, что и они оказались за решеткой? Очевидно, инструкции, дававшиеся органам безопасности, требовали арестов той или иной группы писателей не поименно, а согласно спущенным цифрам. Это стало мне совершенно ясно не только из бесед с самими заключенными, но и из беседы с человеком, работавшим в органах НКВД и ответственным за «работу» в кругах научных сотрудников, академиков и крупных литераторов.
Здесь не место вдаваться в подробности моей встречи с этим человеком. Скажу только, что он был высокообразованным человеком, окончил философский и литературный факультеты, обладал известным литературным вкусом и не питал никаких предубеждений к интеллигентам, как к таковым. В его обязанности не входило вмешательство ни в творческую работу писателей, ни в их личную жизнь. Их нравственность его тоже не касалась, как не касалось его их материальное положение. В его задачу входило только осуществлять контроль за ними с точки зрения предупреждения и выявления антисоветских настроений. Мне довелось разговаривать с этим человеком не только в тридцатые, но и в пятидесятые годы, т.е. в то время, когда мы могли говорить о событиях, уже ушедших в прошлое, могли, при желании, обвинять Берия, Меркулова, Ежова, органы безопасности в целом. Мой собеседник мог позволить себе быть объективным, потому что у него было алиби. Но даже и в этих разговорах постфактум он утверждал, что в целях защиты государственной безопасности ему иногда приходилось сажать за решетку некоторых с чисто юридической точки зрения «безупречных» писателей. Ведь если бы писатели на основании долгого опыта не были уверены в том, что за малейшее «отклонение» им угрожают жесточайшие репрессии, то он не мог бы гарантировать государству того «единодушия» и «правильности мышления», какого удавалось добиться в тридцатых и сороковых годах. Мой собеседник утверждал, что для абсолютной государственной безопасности требуется единодушие в мыслях. А этого можно было добиться только путем той всеобщей и абсолютной неуверенности, которая внушалась тотальным террором того времени.
— Добиться этого было не так просто, — подчеркивал мой собеседник, приводя случай Киршона. — Если бы Киршона арестовали за те или иные конкретно написанные им слова, то цели не удалось бы добиться;
об этом узнали бы другие писатели, и их вывод был бы только таков: следует быть осторожнее.
Для того же, чтобы навести действительно «страх Божий», нужно было, чтобы исчезали такие писатели, и, в частности, крупные писатели, за которыми не было бы совершенно никакой вины. Потом, впрочем, объявлялось, что они были шпионами, диверсантами и т.п. Именно элемент непостижимости, иррационализма, тот факт, что наказание могло постигнуть кого угодно, в любом месте, безо всякого повода — именно это и помогало создавать ту атмосферу всеобщего страха и растерянности, которая оказывалась намного более действенной мерой устрашения, чем какое-нибудь конкретное обвинение. Встречи мои и разговоры с арестованными писателями окончательно убедили меня в этом. И тот факт, что все они без исключения были реабилитированы после смерти Сталина теми же органами безопасности, которые, подвергли их репрессиям, служит этому дополнительным подтверждением. Следствие и репрессии проводились « ад-хоминем », а не « ад-рем », т. е. относились к личностям, а не к их поступкам: нужно было в определенный момент изолировать определенное число людей, удалить их из той или иной социальной среды. Такие операции проводились во всех слоях общества. Среди писателей обычно выбирались люди, могущие потенциально оказать моральное влияние на своих коллег.
Следует оговориться, что были среди арестованных и такие, которые действительно допускали «уклоны». Но к подобным случаям подходили сравнительно либерально: могли осудить на три года, а потом освободить. Наглядный пример — киносценарист Эрдман. «Преступление» Эрдмана было вполне реальным. Он действительно рассказал какой-то довольно рискованный анекдот. Но Эрдмана освободили после всего нескольких лет заключения. Вместе с тем несравнимо трагичнее была судьба тех, кого арестовали «для примера и устрашения», т.е. с той целью, чтобы их участь стала
достоянием всех. Такими были судьбы Бабеля, Пильняка, а также Киршона, Тарасова-Родинова и многих других, имевших хорошую репутацию в партии и тем не менее приговоренных к длительным срокам заключения в лагерях или расстрелянных. Число более или менее известных писателей, избежавших репрессий, очень невелико, может быть, два-три десятка.
В игривом настроении сотрудники «органов» называли свою задачу «вакцинацией» или «иммунизацией»: человек-де, не понюхавший московской Лубянки или ленинградских Крестов не иммунизирован, не имеет должного страха. Очевидно было, что самый факт арестов, а не повод для них, должен был немедленно стать известным семьям и друзьям арестованных. Цель — создание мифа о всемогуществе, вездесущности НКВД, и кроме того, как я полагаю, — мифа о неисповедимости путей НКВД, мотивировок деятельности этой организации. Странный парадокс: в течение 20 лет старательно выкорчевывалось всякое суеверие, всякая вера в сверхъестественные силы, управляющие человеческими судьбами. Теперь же это суеверие снова насаждалось, но уже не в абстрактной, а в конкретной форме. Как в старину люди говорили: «Все под Богом ходим», так теперь стали говорить: «Все под НКВД ходим». Таким то образом и возникал всеобщий страх перед «неведомыми путями», страх того, что «это» может поразить любого и каждого. Именно к этому привели в 30-х годах те методы, с которыми большинство писателей примирилось добровольно в двадцатых годах.
Насколько труден был процесс адаптации к новым условиям, я хорошо понял из своих бесчисленных встреч, за 20 с лишним лет моих скитаний. Причем наиболее важная и существенная часть узнанного мною была не результатом бесед с другими заключенными, а результатом тех разговоров, при которых мне довелось присутствовать. В этих разговорах люди не объясняли что-то человеку со стороны, а не посредственно общались Друг с другом. Причем обстоятельства были таковы,
что у людей, с которыми я встречался, не было друг от друга секретов. Жизнь вся была на глазах и иногда требовалось больше усилий, чтобы не знать, что на уме и сердце у твоих друзей, чем знать об этом.
Чтобы проиллюстрировать тот кризис и те изменения, какие происходили в образе мышления писателей, упомяну о двух из них, которых я встретил впервые в тюрьме в 1936 году. Они были в тюрьме в результате «облавы» на писателей всех «сортов и оттенков», партийных и беспартийных.
Одним из них был человек, которого я буду называть «Николай Иванович», участник Первой мировой войны, Гражданской войны, член партии с 1917 года. Старый член партии, он пользовался на первых порах своей писательской деятельности поддержкой и советами Серафимовича, Сейфуллиной, Фадеева. В двадцатых годах он сотрудничал в нескольких газетах и был уже автором ряда книг. Должен признаться, что прежде я не читал его и познакомился с ним в ходе наших разговоров. Мне сразу же стало ясно, что он — человек строгих принципов. Я даже несколько усомнился в правильности избранной им карьеры — настолько мало были развиты в нем чувство юмора и скепсиса. Он с полным доверием относился ко всему, что говорили ему авторитетные, по его мнению, люди и сам желал быть авторитетом для окружающих.
Другой писатель, «Петр Григорьевич», начал свою писательскую карьеру более сложными путями и, хотя он ничего не сказал мне о своем происхождении, ясно было, что он не происходил ни из рабочих, ни из крестьян. Может быть, его родители в дореволюционные времена принадлежали к интеллигенции или государственным служащим. Так или иначе, он получил очень хорошее образование и, в частности, прекрасно знал литературу. Исходным пунктом для его собственного творчества был золотой век русской литературы, т.е. 19 век. Он, впрочем, отлично знал и интересовался также и позднейшими периодами — символизмом
и акмеизмом и в особенности такими писателями как Блок и Брюсов. Несмотря на разницу в происхождении и образовании, в 20-х годах оба названных выше человека были в одинаковом положении. Петр Григорьевич был, впрочем, более утонченным и чувствительным человеком. Николай же Иванович придавал большое значение идеологии и считал, что литература должна быть понятна широким массам и поэтому изящность отделки литературных произведений не имеет особого значения.
— Важно — рассуждал он, — чтобы читатель понял мою точку зрения, важно убедить его...
— В таком случае, — парировал Петр Григорьевич, — задача писателя нисколько не отличается от задачи пропагандиста.
Николай Иванович подумал с минуту и сказал:
— Нет, это не одно и то же. Все же, если пропагандист хороший журналист, то он вполне может стать и хорошим писателем. Писатель—это и есть журналист, добившийся максимальной доступности своих произведений для широких масс.
На это Петр Григорьевич возразил, что все как раз наоборот: писатель, у которого нет таланта, может легко стать журналистом и пропагандистом, а талант писателя — нечто совершенно иного порядка.
Этот разговор был характерным для противоречий и конфликтов того времени. Хотя оба, и Николай Иванович и Петр Григорьевич, были убежденными коммунистами, их разделяло совершенно разное отношение к литературе: для Николая Ивановича литература была только средством воздействия на массы, для Петра Григорьевича — средством самовыражения, предполагалавшим наличие стиля и красоты.
Интересно, что каждый из них утверждал, что именно его взгляд отражает официальную точку зрения. И действительно, оба они, вплоть до ареста, широко издавались, пользовались признанием как в официальных кругах, так, видимо, и у читателей.
Как писатель-партиец, Николай Иванович не мог, конечно, остаться в стороне от тех споров по литературным вопросам, которые шли в течение 20-х годов. В 1925 году он был в Ленинграде, и когда возник конфликт между партией и так называемой «зиновьевской оппозицией», он выступал в защиту взглядов оппозиции. Это, впрочем, не оказало никакого влияния на содержание его произведений, потому что разногласия внутри партии не могли получить отражения в литературе: всё, выходившее из рамок генеральной линии партии, подлежало изъятию и цензурированию (писатели об этом, конечно, хорошо знали). Когда борьба с оппозицией достигла наибольшей остроты, Николаю Ивановичу грозило исключение из партии. Этого, однако он избежал, уехав в провинцию. Когда через некоторое время он вернулся, ему, как и многим другим, разрешили продолжать работу.
Несмотря на это, именно участие в ленинградской оппозиции послужило основанием выдвинутых против него обвинений через десять-одиннадцать лет, когда я впервые познакомился с ним. Николай Иванович утверждал, что в течение предыдущих десяти лет (до ареста) он ни разу не нарушил партийной дисциплины, ни разу «не уклонился» от генеральной линии партии в своих опубликованных и даже неопубликованных произведениях. Ответ «органов» на это был: «А вы только попробуйте» и он означал, что примерное поведение писателя воспринимается как само собой разумеющееся и еще ничего не доказывает. После этого, на следствии, Николаю Ивановичу был зачитан длинный список его друзей и знакомых — бывших, настоящих, а то и мнимых, которые были объявлены участниками разного рода подпольных и террористических организаций. На этом основании его и судили — совершенно безотносительно к его собственным поступкам. Сам он продолжал считать себя проводником партийной линии в литературе — и это несмотря на тот факт, что партия осудила его и объявила опасным врагом.
Петр Григорьевич вступил в партию около 1920 года. У него, таким образом, был меньший партийный стаж и опыт, да еще «изъян» в социальном происхождении. Поэтому он не принимал участия в прениях внутри партии. Человек с соответствующей марксистской подготовкой мог бы и сам ориентироваться в вопросах партийной тактики. Петру же Григорьевичу необходимы были постоянные инструкции и указания, которые он старался как можно лучше запомнить. Он старался в нужное время и в нужном месте процитировать нужное место из газет. Хотя он был намного более образованным и знающим человеком, чем Николай Иванович, все же, чувствуя свою недостаточную подкованность в марксистской теории, старался избегать вмешиваться в партийные споры. Беда его была в том, что он слишком активно включился в прения по чисто литературным вопросам. И не то, чтобы он сомневался в праве партии на руководство литературой и литераторами. Нет, к 1934 году такое сомнение казалось огромному большинству уже совершенно немыслимым. Петр Григорьевич принимал активное участие в работе редколлегии журнала «Красная новь», имевшего большое влияние на литературу того времени в целом. А в редколлегии, разумеется, в то время не потерпели бы ни малейшего отклонения, ни сомнений в партийных принципах литературы.
Но среди писателей существовали известные разногласия. Одно из них о советской литературной традиции и о том, каких писателей следует признать основоположниками и образцами. Даже и после Первого съезда писателей, когда было выработано единое кредо-минимум для всех литераторов, все еще остался широкий простор для споров и несогласий.
Великой Хартией Вольностей назвали литераторы на Первом съезде писателей речь Максима Горького. В своей речи — «Хартии» Горький сказал, что писателям не только можно, но и должно расходиться по самым разным вопросам творческого и практического характера. В
этой области Горький действительно был очень либерален, и 20 лет горьковские слова о свободе литературных дискуссий снова и снова повторялись в подтверждение тезиса о свободе взглядов в ходе творческих споров.
Горький, однако, сделал одну существенную оговорку, заключавшуюся в том, что мерилом «допустимости» того или иного мнения и взгляда за его взгляды, если он не является противником советского строя. Такой должно оставаться отношение писателя к советскому строю. Мысль Горького сводилась к следующему: «Можно спорить о чем угодно. Мы этому мешать не намерены и не будем. Мы не будем преследовать и наказывать человека человек может говорить что угодно и о чем угодно».
Слова Горького получили широчайшее хождение среди писателей. Истолковывали их по-разному (на что, вероятно, рассчитывал сам Горький).
Горький, видимо, с одной стороны, действительно рассчитывал обеспечить советское государство обильным запасом творческих литературных сил. И только несколько позднее, в 1935-36 годах, магическая формула Горького, оказавшись далеко не столь простой, как это могло показаться, стала проявляться с совершенно другой ее стороны. Трудность состояла в определении того, что значит «не быть противником советского строя». Тут ведь не имелось определенного критерия. Не было возможности объективно выявить, в чем именно могла заключаться «преданность» или, наоборот, «враждебность» к советскому строю.
Творчество того или иного писателя могло служить интересам советского государства. Писатель ни разу не написал и не высказал ни одной критической по отношению к советскому строю мысли. И все же — это еще не суть объективного доказательства его верности и преданности. Теоретически даже и сам писатель не знает, достаточно ли он верен и предан государству. Таким образом, горьковская формула свободы обсуждения творческих вопросов была скрытой западней
— ведь в любой момент личная верность и преданность литераторов могли быть поставлены под сомнение органами безопасности. Так рассуждали десятки писателей, которых я встречал в 30-х годах. Некоторые из Них, в особенности молодые, даже полагали, что Горький знал все это — иначе он дал бы какие-то иные критерии преданности. Другие утверждали, что не Горький сознательно поставил писателям западню, а наоборот, сам в нее попал. Эти последние считали, что из своих бесед, может быть и с самим Сталиным, Горький вынес убеждение, что его формула не будет искажаться, и что такие искажения возникли позднее, помимо воли и желаний самого Горького.
Как бы то ни было, факт, что на бесчисленных допросах литераторы, пытаясь безуспешно сослаться на формулу Горького, получали такой, примерно, ответ: «Это вы думаете, что вы не враги. Мы думаем иначе», или: «У нас есть свидетельство обратного», или даже: «Вы сами поможете нам доказать, что именно вы являетесь врагом». И конечно, за «доказательствами» и предлогами для таких обвинений дело не стояло.
Вопрос об отношении писателей к советскому строю привел непосредственно к дискуссиям в тридцатых годах между «западниками» и «славянофилами». Именно такие дискуссии, начавшиеся, как известно, в середине прошлого века, снова оказались весьма злободневными, причем в 1936 году мне стало совершенно ясно, что на верхах намечается все более сильная тенденция солидаризироваться с идеями славянофилов.
На первый взгляд старый спор между «западниками» и «славянофилами» должен был иметь не больше значения для наших современников, чем спор между двумя школами, скажем, в археологии. На деле это было не так. Петр Григорьевич не отдавал себе в этом отчета, что приводило в изумление Николая Ивановича, не понимавшего, как можно быть и по рождению и по воспитанию русским, партийным и в то же время
совершенно не понимать смысла происходящего вокруг. Петр Григорьевич был в состоянии видеть только текст, а не подтекст официальных заявлений, и он совершенно искренне считал, что его взгляды как до Первого съезда писателей, так и после него были, с партийной точки зрения, безукоризненно правильными.
Даже мне к тому времени стало ясно, что нарастает тенденция одобрять именно славянофильство. «Западнические» тенденции рассматривались как «буржуазные», как противоречащие «народным» элементам в искусстве. Поэтому славянофилы и могли утверждать, что они, с одной стороны, ближе к народу, а с другой — более устойчивы против влияний буржуазного Запада. Впрочем, этот вопрос не решен еще и по сей день.
Все же в начале тридцатых годов литераторы полагали еще, что вопрос об их «славянофильстве» или «западничестве» не имеет ничего общего с враждебностью к советскому строю что, отдавая предпочтение Тургеневу перед Аксаковым, они не покушаются на социальные или государственные устои советского общества. То, что это было далеко не так, доказывал случай Петра Григорьевича, а также случаи многих и многих других. На этом «вопросе» сложили головы немало советских писателей того времени.
Порой следователи прибегали к чистой софистике:
— Правильно, вы описывали Запад таким, каким он был в прошлом веке, — говорил такой следователь. — Но мы прекрасно знаем, что на самом деле вы имели в виду сегодняшний Запад. Вы писали о Западной Европе 60-х годов прошлого века, а на деле — защищали агентов наших врагов.
Таким вот образом, несмотря на все клятвы и уверения, несмотря на поддержку всех без исключения партийных резолюций, несмотря на совершенную ортодоксальность его взглядов в книгах и публицистике, Петр Григорьевич был в 1936 году арестован за свое уважение к европейской культуре 19-го столетия.
Итак, вместе со мною в камере были два человека, происходившие из совершенно разных социальных слоев. Один — старый партиец, знавший, казалось бы, все тонкости и скрытые пружины власти. Другой — с гораздо меньшими партийными связями, смутно представлявший себе суть происходившего. Причины их одновременного ареста были совершенно различны, а результат — один.
В спорах своих они распределяли роли таким образом: Николай Иванович был партийным пропагандистом, а его коллега и оппонент — партийцем с недостаточной «сознательностью», недостаточно подкованный и поэтому во многом, с точки зрения Николая Ивановича, ошибавшийся.
Споры шли у них бесконечно. В том числе и по такому фундаментальному вопросу, который далеко не решен и теперь: достаточно ли для писателя только обладание искусством изображения действительности? Оба они соглашались в том, что правда обязательна, что она — первое и необходимое условие, без которого искусство будет не только бесполезным и бесплодным, но и постыдным занятием. Споры же начинались тогда, когда требовалось определить, что именно составляет правду в изображении событий, в освещении идей. Тут их беседа начинала приобретать, с моей точки зрения, все более туманный и отвлеченный характер. Каждый говорил о своем; по сути дела, это был спор двух глухих.
И вот, после долгих часов таких споров они снова и снова возвращались все к тому же роковому вопросу:
«Да говорим ли мы об одной и той же правде? Или, может, есть не одна, а несколько правд?» Тут Николай Иванович твердо выступал в защиту того, что он называл «партийной правдой». И волей-неволей Петру Григорьевичу приходилось с ним соглашаться. Николай Иванович считал, что в Советском Союзе партийный писатель несет в массы факел просвещения и культуры. И поэтому — единственная правда, которая
имеет право на существование, это партийная правда. Петр Григорьевич все-таки возражал, что «правде» не нужны определяющие ее прилагательные. Разве нет абсолютной правды? А Николай Иванович приводил в пример различные партийные резолюции и документы, приводил в качестве иллюстраций художественные произведения, в том числе и самого Петра Григорьевича, выводя из всего этого «узость» и «неадекватность» понятия «абсолютной правды», понятия, которыми пользуются «наши враги» в их попытках подорвать самую основу партии.
И тем не менее, когда Петр Григорьевич вынужден был, наконец, согласиться с тем, что «партийная правда» — это единственная и окончательная правда, высочайшая правда, «истина истин», ни Николаю Ивановичу, ни ему самому все же не удалось дать положительное определение этой правды и чем она отличается от «правды, как таковой». Николай Иванович только высказал убеждение, что при любой конфронтации великой «партийной правды» и «правды, как таковой» последняя будет отброшена в сторону или раздавлена. И хотя Петр Григорьевич согласился, что именно «партийную правду» следует защищать и отстаивать, все же он пытался отчаянно цепляться и за остатки « правды, как таковой».
Здесь я позволю себе небольшое отступление. Споры о правде и истине в лагерях и тюрьмах шли бесконечно. Так как русский не мой родной язык, я сначала не мог понять разницы. Потом мне объяснил ее один филолог.
Истина — это выражение факта объективной реальности, тогда как правда — чисто русское понятие, включающее в себя элемент более высокого, чем объективная истина, порядка. Правда — истина, возведенная в разряд идеи и этимологически связанная с правом и правосудием. Русский, который стоит за правду, стоит за такую истину, которой следует еще добиться, за правду, включающую в себя и жизненный идеал,
правду, в которой поступки отдельного человека находятся в соответствии с требованиями атики. Все это раздваивает понятие правды, а такой разрыв в тридцатых годах создавал глубокую пропасть.
В кабинетах НКВД, на партсобраниях, истина была ничем, она была относительна, ее можно было менять по усмотрению. И только правда была абсолютна. Сначала мне, как и многим другим, не прошедшим такой школы, трудно было уловить, каким образом такая, казалось бы, «филологическая тонкость», могла оказывать влияние, роковое влияние на судьбы и жизни тысяч и тысяч людей. На практике же из этого филологического нюанса возникла тирания правды над истиной. Он-то, этот нюанс, и оказался тем рычагом, с помощью которого белое обращалось в черное. Такой диалектики не изобретала даже инквизиция.
В 1936 году от одного из моих самых незаурядных следователей мне удалось наконец добиться ответа на долго мучивший меня вопрос: « Неужели же вас совсем не интересует, как на самом деле обстоит дело? Неужели вас интересует только отпрепарированная вами же истина, которую вы называете правдой?» На это следователь ответил мне: «Правда для нас есть то, что сегодня написано в передовой «Правды». Все, чего там нет — для нас, объективно, не правда. Так, мелкие истины...». И тут последовала так часто повторявшаяся в тюрьмах и лагерях искаженная пушкинская цитата: «Тьмы мелких истин мне дороже (Нас возвышающая правда)». В стихотворении Пушкина «Герой» посвященном Наполеону и снабженном эпиграфом «Что есть истина?» говорится: «Тьмы низких истин мне дороже (Нас возвышающий обман)».
Нет, не «тьма истин» интересовала тогда следователей, а то, чтобы в «правду» превратить тьму нужной им лжи. Для тех, кто сам этого не испытал, такое суждение может звучать как некий схоластический трюк. Но ведь за подобными «абстракциями» стоял гигантский государственный аппарат. И оказываемое им
психологическое давление на людей было вполне реальным и ощутимым — до такой степени, что сопротивляться ему у людей не было сил и возможности. Вопрос о правде и истине, в течение истекших десятилетий мучивший советскую интеллигенцию, я полагаю, далеко еще не решен ни в СССР, ни за его пределами. А ведь, быть может, разговоры об идеологических расхождениях между Россией и Западом именно к этому вопросу и сводятся? Существует ли в действительности тот апелляционный суд, который способен отличить «правду» от «истины», который уполномочен сделать окончательный выбор? В России считают, что вопрос этот требует серьезного и пристального внимания. Но развалины, оставленные в наследство, столь огромны, что работа по восстановлению после хаоса соответственно трудна. А могут ли дать ответ на этот вопрос вне России, я не знаю.
Николай Иванович и Петр Григорьевич постоянно заходили в тупик, пытаясь разрешить вопрос о правде и истине. И все же у Николая Ивановича было явное преимущество. Сначала казалось, что Петр Григорьевич стоит на более твердой почве фактов, тогда как Николай Иванович исходил исключительно из партийных принципов. Николай Иванович давал псевдонаучный анализ общественных явлений, в то время как Петр Григорьевич настойчиво доказывал, что день есть день, а ночь есть ночь. Но к концу их споров становилось ясно, что дело далеко не так просто. Петру Григорьевичу пришлось признать, что, вступив пятнадцать лет назад в партию, он, по существу, уже тогда перешел на позицию Николая Ивановича. И поэтому, хотя Петр Григорьевич и настаивал на своем реализме, на «истинности» того, что он видел и слышал, на самом деле не было у него на это права. И Николай Иванович все же загнал своего противника в угол, заставив его признать, что во многих случаях он поступал не в соответствии с истиной, а в соответствии с правдой, как и надлежало члену партии. Николаю Ивановичу
нетрудно было доказать это, сославшись на цитаты из работ самого Петра Григорьевича и многих других авторов, главной целью которых было, оставив в стороне «тьму мелких истин», убедить читателя в «правде», т.е. в «партийной истине».
Но даже и тогда, когда Петр Григорьевич вынужден был соглашаться с Николаем Ивановичем, что «истина», или соответствие с объективными фактами, не имела никакого значения по сравнению с « правдой », даже и тогда им трудно было договориться о том, что же такое на самом деле « правда» в каждом отдельном случае и каковы действительные отношения между правдой и истиной. По мнению Николая Ивановича, правду не только следовало предпочесть истине, но и в тех случаях, когда они противоречили друг другу, следовало решительно отбрасывать в сторону именно истину. Петр Григорьевич все же постоянно пытался сохранить и соблюсти хоть какую-нибудь видимость истины: ему хотелось либо избежать прямого столкновения правды с истиной, либо протащить истину хотя бы, так сказать, с черного хода.
Разумеется, в ходе этих бесконечных споров ни одному из них не удалось решить никаких конкретных проблем. Позднее выяснилось, что ни Николай Иванович, безупречный партийный пропагандист, ни Петр Григорьевич, бывший член редколлегии «Красной нови», не смогли избежать уготованной им судьбы: обоих заставили подписать предъявленные им сфабрикованные обвинения и обоих увезли в лагеря. Не знаю, что именно из обвинений они «признали», а что отрицали: в 1936 году на это обращали мало внимания. Я рассказал об этих людях в качестве иллюстрации общего отношения к писателям в целом. Если решено было устранить того или иного литератора, то судьба его была уже предрешенной, каким бы ни был его индивидуальный случай. Делалось это для того, чтобы другие литераторы извлекли для себя необходимые уроки.
Добавлю к этому, что ни истина, ни правда, заключавшиеся в обвинении против советских литераторов, в том числе и против Николая Ивановича и Петра Григорьевича, не стали достоянием гласности. Когда через 20 лет дела их были пересмотрены, то обвинения против них оказались, разумеется, ни на чем не основанными. Однако в то время, когда их осудили, решения по их делам считались окончательными, а каждое такое решение — «кирпичом» для сооружения здания советского правосудия.
Наличие таких «кирпичей» наложило свой отпечаток на советскую литературу и на советский образ мысли, хотя, как теперь выяснилось, «кирпичи» были полыми и маловесными.
ГЛАВА 3 Коммунисты
ГЛАВА 3
КОММУНИСТЫ
Естественная реакция коммунистов, которые арестовывались без всякого повода органами НКВД, сводилась к следующему: произошла, само собой разумеется, какая-то ошибка, и ошибка эта рано или поздно разъяснится. Мы все еще полагали, что в советских тюрьмах и лагерях в подавляющем большинстве сидят классовые враги и контрреволюционеры. Поэтому перспектива оказаться в таком обществе делала арест еще более ужасным.
После того, как я был осужден на пять лет лагерей, меня в теплушке повезли на Восток, в Сибирь. Теплушка была разделена перегородками на «купе», в каждом из которых находилось по восемь заключенных. Отдельное «купе» было для охраны. Нашим составом командовал некий полковник Аракчеев, несмотря на свое пугающее имя оказавшийся довольно неплохим челове-
ком. Поэтому, когда один из заключенных соседней теплушки попросил разрешения пересесть, чтобы поговорить с «иностранным товарищем», Аракчеев согласился.
Заключенный этот был высок, широк в плечах, с обветренным лицом, седобородый и с детскими голубыми глазами. На нем была косоворотка, кепка, брюки, заправленные в сапоги, фамилия и имя его показались мне сначала незнакомыми: Емельянов Николай. Со мной ему хотелось поговорить потому, что свое большевистское воспитание он получил в ту эпоху, когда рабочее революционное движение в России было самым тесным образом связано с международным социалистическим движением. Емельянов рассказал о себе следующее:
Он был тем самым рабочим, который укрыл Ленина в Разливе летом 1917 года. В социал-демократическую партию он вступил в 1890 годах, был одним из первых членов партии. В 1905 году Емельянов, работая на одном из заводов около Петербурга, принимал участие в революционных выступлениях и всеобщей стачке. Он был активным участником февральской революции 1917 года. Летом 1917 года возглавлявшееся тогда Керенским Временное Правительство, под угрозой массовых выступлений пробольшевистски настроенных рабочих и солдат, решило принять более энергичные меры против большевиков. 20-го июля 1917 года Временным Правительством был выдан ордер на арест наиболее видных большевистских руководителей, включая Ленина и Зиновьева. Емельянову, как опытному подпольщику, было дано задание обеспечить их побег и укрытие.
Емельянов скрыл Ленина в Разливе, в шалаше на берегу озера, вблизи своего дома. Емельянову помогала вся его семья: жена Надежда, тоже член партии, и старшие сыновья (всего сыновей было у него семь). В пору сенокоса, когда возникла угроза, что Ленина и Зиновьева могут обнаружить, Емельянов организовал
их побег в Финляндию. Ленину пришлось сбрить бороду. Емельянов договорился с машинистом следовавшего в Финляндию ночного поезда, который переправил Ленина и «кочегара» Зиновьева в Финляндию. Тем же путем они вернулись в Петербург непосредственно накануне Октябрьской Революции.
За это Ленин был до конца своей жизни глубоко благодарен Емельянову. В семье Ленина к Емельянову относились, как к родному. У Емельянова был постоянный пропуск в Кремль, и если случалось, что он подолгу не давал о себе знать, то Ленин или Крупская посылали узнать в чем дело. В таких же близких отношениях были с Емельяновым и члены семьи Зиновьева. После смерти Ленина сыновья Емельянова, уже взрослые, поддерживали оппозиционную группу Зиновьева, но их связь с этой группой была непродолжительной. Они вскоре изменили свои взгляды и стали поддерживать сталинское руководство. Сам Емельянов отошел от активного участия в политической жизни. Дом Емельянова и шалаш, где скрывался Ленин, стали филиалом Музея Революции, сам Емельянов назначен был хранителем этого памятного места. Время от времени он выступал с лекциями по истории начального периода большевистского движения. Аудитория часто состояла из молодых членов партии, в том числе — сотрудников ГПУ. Но времена менялись, и Емельянова стали считать все менее и менее подходящим для должности лектора, в частности потому, что многие из упоминавшихся им старых членов партии попали в опалу. Неблагонадежным он считался и потому (а это было особенно серьезно), что его подозревали в хранении экземпляра «завещания Ленина», в котором Ленин подвергал критике многих членов Политбюро, в том числе и Сталина, и который поэтому решено было изъять.
В 1935 году Емельянов вместе со всеми своими сыновьями был арестован и осужден на обычные в то время пять лет заключения в лагере. Во время допро-
сов Емельянова подвергали пыткам, но он ни в чем не признался.
Через четыре дня мы приехали в Мариинск, город между Новосибирском и Красноярском. Стоял апрель, но тайга была вся в снегу, а реки еще не тронулись. Нас не так пугала глушь, как то, что в лагерях скопилось огромное количество заключенных, и они все продолжали прибывать каждым этапом с запада.
Мариинский лагерь был разделен на транзитный, в котором тысячи заключенных ожидали пересылки в другие лагеря, и особый лагпункт, где находилось примерно 250 человек, осужденных за КРТД и КРЗД (контрреволюционную троцкистскую деятельность и контрреволюционную зиновьевскую деятельность).
В этот лагерь нас с Емельяновым и направили. Разместили нас в бывших закутах для скота. Скот угнали, но кроме этого ничего не сделали для того, чтобы обратить закут в жилище для людей. Полов не было, нары стояли на утоптанном снегу.
Нас будили в шесть часов утра и выгоняли на работу в семь, с обычным наставлением: «Шаг вправо, шаг влево — стреляем без предупреждения!».
Мы работали на строительной площадке, где намечалось сооружение спиртоводочного завода. Мы корчевали деревья, прокладывали дороги, копали ямы под фундаменты. Возвращались в наши «жилища» вечером, ужинали и ложились спать в десять часов. Нас разбили на бригады по 25 человек в каждой, выбрали бригадиров. Бригадиром нашей бригады, после ожесточенных споров между разными политическими «фракциями», стал Емельянов. Емельянову полагалась более крупная пайка хлеба, и ему дозволялось работать меньше других. Однако он решил работать, как и все, чтобы облегчить нам труд.
У меня была дополнительная нагрузка культурника, т.е. я должен был сортировать и разносить почту и посылки. Поэтому моя койка стояла возле Емельяновской; нас разделяла исключительная по тем временам
роскошь — тумбочка. Мы очень подружились. Однажды Емельянов показал мне свое простенькое стихотворение: «Таинственный шалаш». Оно было, конечно, о шалаше в Разливе, где скрывался Ленин. Емельянов много говорил о своем прошлом, старался предсказать, что ждет нас в будущем. То, что мы увидели на пересылке, дало нам первое, но ясное представление о великом множестве заключенных и о колоссальном количестве лагерей, разбросанных по всей Сибири. Теперь мы уже не могли тешить себя иллюзией, что за редким исключением все это были «враги народа».
Как-то ночью Емельянов разбудил меня и спросил, что скажет мировой пролетариат, когда узнает о происходящем. Сквозь сон я пробормотал, что все это — недоразумение, которое скоро разъяснится. Такой была линия заключённых-партийцев.
— Мне вы этого не говорите, — сказал Емельянов, — Мы-то с вами знаем, что происходит!
Через несколько месяцев в лагерь прибыла из Москвы комиссия ответственных работников органов НКВД во главе с одним из руководителей ГУЛАГА (Государственного Управления лагерями), Беленьким.
Некоторые из нас знали членов комиссии — ведь среди нас были партийные работники, не так давно занимавшие должности, равные тем, какие занимали члены комиссии. Мы обменялись несколькими словами. Когда члены комиссии выходили из барака, дорогу им преградил Емельянов.
— Хочу задать вам один вопрос, — сказал он им.
— Пожалуйста, в чем дело?
— Почему я тут?
Члены комиссии переминались с ноги на ногу, в замешательстве переговаривались о чем-то между собой. Все они, конечно, знали, кто такой Емельянов.
— А вы не знаете? — спросил наконец один из них.
— Не знаю, — ответил Емельянов. Голос его дрожал. — Не знаю и до часу своего смертного не узнаю, за что меня сюда посадили.
Члены комиссии оттолкнули его и вышли из барака.
После инспекции условия в лагере немного улучшились. Некоторые стали получать посылки. Емельянову приходили посылки и письма от Крупской и от сестры Ленина, Марии Ульяновой. В одном из своих писем Крупская писала: «Хотелось бы сделать для вас больше! Но мы не можем».
Летом Емельянов заболел. Лагерное начальство, относившееся к нему с уважением, хотело освободить его от работы, но он отказался.
Через несколько месяцев меня перевели из Мариин-ского лагеря, и я на долгое время потерял Емельянова из виду. Только в 1954 году пришлось мне снова услышать о нем. Емельянов был освобожден и реабилитирован раньше других; уже летом того же года в газетах сообщалось о награждении его орденом Ленина. Я тогда все еще был в ссылке в Сибири. Я написал ему, и в ответ получил очень теплое письмо, написанное его сыном Александром, единственным пережившим террор. Александр писал, что отец его болен, но он хорошо помнит меня и надеется вскоре повидаться. Я был освобожден в 1956 году, но за то короткое время после освобождения, которое я провел в Москве до своего отъезда в Польшу, мне так и не удалось увидеться с Емельяновым.
К тому времени и Беленький и все остальные члены той комиссии, которая инспектировала лагеря в 1935 году, исчезли в результате сталинских чисток.
Коммунисты привыкли мыслить крупными масштабами. Мы много слышали в лагере о фантастических планах развития природных богатств Сибири, о том, как будут сооружаться гигантские новостройки. Мариин-ский спиртоводочный комбинат по плану должен был давать Советскому Союзу больше водки, чем любое другое предприятие в стране. Сырьем должны были служить огромные количества картофеля, выращиваемого в этом отдаленном районе. Все это было хорошо
и правильно, но наша работа от этого не становилась легче. В тяжелых условиях нас подгоняли в работе, будто речь шла o сооружении срочно необходимой плотины для гидроэлектростанции.
В Мариинском лагере я провел восемь месяцев. Нашу бригаду перебрасывали за это время с места на место на разные участки строительства. В июле в течение десяти очень жарких дней нам пришлось подносить цемент на верхний этаж почти достроенного здания. Цемент носили по двое, причем напарников тщательно подбирали по росту, по силе и ловкости. Моим напарником оказался Василий Юркин. Он был идеальным напарником: тоже небольшого роста и столь же непривычный к физическому труду. Он, впрочем, прежде был несколько более крепкого сложения, но пробыл в заключении дольше моего и теперь казался таким же тщедушным. Десяти дням, которые мы проработали на подаче цемента, я обязан дружбой, которая, можно сказать, явилась поворотным пунктом в моей жизни.
Идеологические дискуссии были запрещены в лагерях. Но так было не всегда. Хотя в первые годы Революции идеологических противников, как например, меньшевиков и эсеров, тоже сажали в тюрьмы, цель тогда была не уничтожить их физически, не положить конец их интеллектуальной жизни, а только изолировать их, оградить население от их влияния. Однако из опыта царской России, а также и из опыта таких реакционных режимов, как режим Пилсудского в Польше, ясно было, что, когда политзаключенных коммунистов и социалистов собирали помногу в одном месте, где они имели возможность обмениваться взглядами и даже писать, то они фактически устраивали нечто вроде университета для нелояльных. Сталин сделал из этого необходимые выводы и когда, в конце 20-х годов, начали строить новые «исправительно-трудовые» лагеря, и когда они стали наполняться коммунистами, подозреваемыми в оппозиции к режиму
в самой партии, то лагерной администрации были даны совершенно другие инструкции. Были отменены все те традиционные привилегии, которыми всегда и везде пользовались политзаключенные. Для оправдания этого нам разъяснили (я тогда еще работал в Коминтерне), что новые политзаключенные, по сути дела, не идеологические противники, а особо опасные «уголовники-двурушники», маскировавшиеся под званием коммунистов: никакое обращение с ними не может быть слишком суровым.
Согласно новым инструкциям, политзаключенные в лагерях каторжного труда назначались на такую же изматывающую физическую работу, как и уголовные преступники. Им запретили обмениваться мнениями по политическим вопросам. А чтобы обеспечить выполнение таких инструкций, была создана широкая система слежки и доносов.
Заключенные, обычно, говорили о еде, о своих семьях, о надежде получить письмо или посылку из дому. Но иногда доверявшие друг другу люди переходили к обсуждению отвлеченных и политических вопросов.
Говорили больше намеками, цитатами, афоризмами, шептались в бараках по ночам, перебрасывались замечаниями во время редких перекуров в течение десятичасового рабочего дня, во время часового марша «домой», в «зону», после работы. Если бы у Юркина и у меня было больше опыта лагерной жизни, если бы мы больше сознавали ту степень опасности, которой подвергаем себя, быть может мы и не говорили бы так много. Как только нам стало ясно, сколь близки наши взгляды, мы стали пользоваться каждой минутой, каждой возможностью поговорить. Так было в течение всех тех долгих месяцев, которые мы провели бок о бок на работе и в бараке. То увлечение, с которым мы предавались нашим диалогам, помогало нам выносить все тяготы — нужду, лишения, непривычную работу, насмешки товарищей по работе за слабость и
неумелость. Я даже помню, как с нетерпением ждал каждого следующего дня, как мысленно намечал те темы, которые буду обсуждать со своим старшим товарищем, какие буду задавать ему вопросы, чтобы облегчить невыносимо тяжелое умственное бремя.
Мы говорили между погрузкой и разгрузкой цемента, говорили на перекурах, говорили по пути домой и в редкие выходные дни.
Юркин был в партии с 1914 года. Он учился в Московском университете и еще до Первой мировой войны принимал участие в студенческих революционных выступлениях. Хотя Юркин был против войны, был левым интернационалистом, он все же пошел на фронт, где был представлен к награде. В армии он вел подпольную работу, а во время Гражданской войны был несколько раз ранен, работал пропагандистом. После Гражданской войны Юркин вернулся в университет, окончил его и был бы оставлен при кафедре философского факультета, если б его не перевели на работу в Наркомпрос, где ощущался острый недостаток в партийных кадрах с высшим образованием. Работу его высоко ценили. Он, в частности, был весьма близок по работе к наркому просвещения Луначарскому.
К концу 20 годов атмосфера в Наркомпросе изменилась, как, впрочем, и повсюду. Луначарский был отстранен от работы и на его место назначен Бубнов, бывший начполитуправления РККА, взявший, разумеется, на работу своих людей. Юркин после этого вернулся в университет. Там он читал лекции по философии Гегеля и написал несколько книг. Он посещал партсобрания, но новый политический курс оказался ему не по душе, он попал под подозрение. Его постепенно отстранили от всех должностей, а затем, неожиданно арестовали по расплывчато сформулированному обвинению. Попыток дискредитации его как ученого не было. В лагерь он прибыл под специальной охраной, как «опасный преступник».
Старый большевик, философ и настоящий русский
человек, Юркин был для меня очень интересен. Мы с ним оказались в совершенно одинаковом положении. Оба оставались убежденными коммунистами. Ведь изменились не мы — изменилась партия. Мы были уверены, что и другие коммунисты в лагере настолько же озадачены всем этим, как и мы. Нас просто было слишком много, чтобы можно было утверждать, будто все эти аресты — «ошибка». Мы с Юркиным знали Друг Друга достаточно хорошо, и поэтому могли заходить далеко в наших разговорах. Особенно же помог и облегчил наше сближение один случай в начале нашей дружбы.
Однажды нас вернули с работы в лагерь раньше обычного. Нас выстроили в зоне. Говорил сам комендант лагеря.
В то утро, еще до побудки, мы услышали два ружейных выстрела. Вскоре распространился слух, что охраной убит один из заключенных, Конрад. Мы видели его труп, уходя на работу. Его оставили до прибытия следственной комиссии.
Убитый был простой крестьянин из Республики немцев Поволжья, он только что прибыл к нам в лагерь. Шок от бессмысленного, беспричинного ареста, внезапная разлука с семьей, покинутый дом и хозяйство — все это, по-видимому, помутило его рассудок. Мы видели, как он бродил по территории лагеря, бормоча молитвы, доказывая кому-то свою невиновность. Ночью ему не спалось, и он часто выходил из барака. Нам не разрешалось приближаться к ограждению, которым был обнесен лагерь. Той ночью Конрад подошел ближе дозволенного, и охранник, окликнув его, дал предупредительный выстрел. Конрад, видимо, не обратил внимания, и вохровец застрелил его. Утром весь лагерь волновался из-за ночного происшествия, но нас погнали на работу, сказав, что разъяснения будут даны позже, если это сочтут необходимым.
Потому нас и построили. Комиссия установила, что Конрад был убит при попытке к бегству. Комендант
предупредил нас, что всякое нарушение советского закона будет караться столь же сурово. Затем нас погнали обратно на работу. В этот вечер мы с Юркиным ни о чем не говорили. Мы, конечно, прекрасно сознавали, что расследование было фарсом, поскольку этот человек не мог и помышлять о бегстве. Он вообще был в состоянии такого психического расстройства, что наверняка не отдавал себе отчета в своих поступках. Нескольких слов вохровца было бы достаточно, чтобы он послушно вернулся в барак. Но у охраны был приказ «пуль не жалеть», и даже были мечты о повышении за такого рода действия, которые в данном случае и получили полное одобрение Комиссии.
Мы хорошо понимали что в любой момент каждому из нас грозила участь этого человека. Знали мы и то, что ни в нашем лагере, ни в любом другом из бесчисленных лагерей, в которых подобные трагедии случались ежедневно, не поднимется ни одного голоса протеста, ни даже робкой попытки обратиться с просьбой о новом расследовании обстоятельств дела. Время протестов давно прошло. Не только в лагерях, но и по всей стране царили полная пассивность, оцепенение. Тогда, в 1935 году, весь народ был в таком состоянии, что ни у кого не могло возникнуть и мысли не только о сопротивлении, но и о протесте, что бы ни проделывали с народом органы безопасности. Юркин был потрясен происшедшим с заключенным немцем. Он заговорил со мной на другой день. До сих пор вижу, как спросил он меня, яростно дымя папиросой:
— Можете представить себе, чтобы такое случилось в 1917 году?
Мне пришлось напомнить ему, что в то время меня не было в России, но что и тогда немало людей расстреливалось без суда и часто по ошибке.
— Тогда мы боролись с классовым врагом! Тогда мы расстреливали царских офицеров, помещиков, банкиров. Но чтобы убить простого крестьянина... так вот, хладнокровно... нет, такого не было, не могло быть...
Ведь ради таких простых людей мы избавлялись от угнетателей... Раз и навсегда.
Я подтвердил, что именно так коммунисты заграницей и воспринимали террор. Мы содрогались от его жестокости, но были убеждены, что иначе нельзя.
— Иначе и было нельзя, — сказал Юркин, — но то, что творится теперь, привело бы Ленина в ужас.
Говоря о Ленине, Юркин преображался. Ленина он видел несколько раз, знал Крупскую по Наркомпросу. Он часто и много рассказывал о них. И не столько о фактах из жизни Ленина, сколько о взглядах Ленина, совершенно извращенных, как он считал, после его смерти. Юркин говорил, что взгляды Ленина были уже через несколько лет после его смерти искажены до неузнаваемости.
Действительно, на первый взгляд казалось, что ничего не изменилось. То же государство, те же органы безопасности с их тюрьмами — все это существовало и при Ленине. И все же, самое содержание понятия Государства изменилось. Коренным образом изменились отношения между партруководством и рядовыми членами партии, между партией и народом, между рабочим классом и крестьянством. Ленин был за коллективное руководство. В тех случаях, когда его собственные взгляды расходились с мнением других, он никогда не приказывал. Партия действительно шла в авангарде народа: никогда бы ей не удалось совершить Октябрьского переворота, если бы народ ее не поддерживал. Был один только враг, общий для партии и для народа. Этим врагом была буржуазия.
Раза два Юркин признал, что корни зла, возможно, уходят глубже, к самому первому периоду после захвата власти большевиками.
Для Юркина, как, впрочем, почти для каждого старого большевика, с которым мне довелось разговаривать как до, так и после моего ареста, первые годы советской власти были чем-то вроде Золотого века. Каким же образом все переменилось? Каким образом
Революция обратилась против самой себя, каким образом стала она орудием собственного уничтожения в руках человека, поставленного во главе партии самими же большевиками-революционерами?
Однажды я спросил Юркина, случалось ли большевикам думать о возможности такой опасности в тот ранний период революции.
— Никогда, — ответил мне Юркин, — мы были совершенно поглощены теми опасностями, которые существовали вокруг нас... Они были обычными для всякого революционного движения в прошлом.
В 1917 году, объяснял Юркин, большевистское руководство не пренебрегало уроками истории. Тогда считали, что в прошлом революционные движения разбивались о две скалы: во-первых, отсутствие единства в самом руководстве и, во-вторых, недостаточная решимость прибегнуть ко всем имеющимся в их распоряжении средствам для подавления сопротивления врага. В результате победа доставалась в конце концов врагу, восстанавливался старый порядок и снова оказывалось необходимым предпринимать дорого обходящиеся попытки свергнуть его. Каждая из многочисленных попыток вооруженного восстания в России, вплоть до революции 1905 года, носила черты, по определению Пушкина, «бессмысленного русского бунта». На сей раз, решили большевики в 1917 году, революция должна была привести к цели. Революционные вожди учли уроки прошлого. Жертвы не должны были быть напрасными. Именно этот опыт прошлого укреплял волю большевиков перед лицом любой опасности извне, помогал преодолевать желание пойти на компромисс, уступить хоть в какой-то мере завоеванные позиции.
— Нам и в голову не приходила мысль, — говорил Юркин, — о возможности удара в спину.
А ведь именно это и являлось реальной и грозной опасностью. Как же все это началось? Откуда пошло? С каких пор?
— Слишком, слишком поздно спохватились, — часто сокрушался Юркин.
Я слушал его с жадным и неослабным вниманием. Мне не давали покоя мои собственные сомнения в правильности «генеральной линии». Значили ли они, что я есть и всегда был плохим, ненастоящим коммунистом? Но обратиться с таким вопросом к Юркину казалось мне совершенно немыслимым. Ведь Юркин был одним из тех, кто «сделал революцию», одним из тех, чьи дела стали для нас, коммунистов, легендой. Он знал вождей революции, их мысли, их планы и намерения. Он не был рядовым партийцем типа Емельянова, принимавшего решения партии на веру: нет, он был высокообразованным человеком, идеологически прекрасно подкованным.
Выходные дни были в лагере большой редкостью. Официально нам полагалось три выходных в месяц, но на деле, особенно в летние месяцы, мы радовались, когда выдавался один выходной день в шесть недель. Одним таким выходным днем мы были обязаны проливному дождю, сделавшему невозможной нашу работу. Был вечер. Одни чинили одежду, другие играли в карты (карты были, впрочем, официально запрещены). Люди спали, писали письма или, насколько можно было судить, сочиняли стихи. Юркин, растянувшись на койке, курил, и мы, как обычно, беседовали. К нам подошел другой заключенный, Белоусов, коренастый седой человек, с мозолистыми рабочими руками. Говорил он медленно, с расстановкой.
Я и прежде замечал его, особенно при раздаче писем. Некоторые заключенные были ветеранами в лагере; они установили переписку со своими семьями и друзьями. Прибытие почты всегда было огромным событием. Люди толкали друг друга, кричали и, вырвав свое письмо, уходили читать и перечитывать его. Потом читали свои письма другим, обсуждали их содержание, пытаясь между строчек прочитать подразумеваемое,
недосказанное, уяснить себе, что же происходит на воле. Белоусов был одним из немногих, кого все это, казалось, совершенно не касается.
— А вы разве не ждете писем? — спросил его как-то другой заключенный.
— Нет, — хмуро.ответил Белоусов.
— Нет семьи?
— Нет.
— Друзей?
— Я запретил им писать мне...
Белоусов, видимо, порвал все связи с внешним миром.
И несмотря на это, он был, в общем, приветливым и спокойным человеком. Работал он не в нашей, а в другой бригаде — в бригаде плотников, но иногда мы замечали, что ему хочется поговорить с нами, познакомиться поближе. Однажды, тяжело опустившись на койку Юркина, он сказал:
— Я вот слышу вы тут все разговариваете, товарищи. Люди вы образованные. Хотелось мне спросить вас кое-что, чего я не могу сам додумать. Может, и я скажу вам что-нибудь путное. Вы вот больше говорите о теории, а могу сообщить вам факты, которых вы не знаете, может быть.
Мы, конечно, сказали, что будем рады, и, как это было заведено, Белоусов сразу же начал со своей биографии.
Тот вечер, так же как и последовавшие за ним вечера глубоко запали мне в память. Помогли ли мы ему — не знаю. Но он, несомненно, помог нам многое лучше понять и осмыслить.
Белоусов был крестьянином из деревни возле Калинина (тогдашней Твери). Жить в деревне в те времена было тяжело, и он, как только подрос, перебрался, как и многие другие деревенские парни, в Петербург. Свои заработки он посылал в деревню, где семья его жила в крайней нужде.
В Петербурге ему тоже, конечно, сначала пришлось
нелегко. Но он был предприимчив, жаждал учиться, а потребности были очень небольшими. Постепенно он стал квалифицированным рабочим-металлистом. А уже в начале 90-х годов прошлого столетия он примкнул к одной из петербургских социал-демократических рабочих групп. Вскоре выявились у него и хорошие организаторские способности. Узнав о готовящемся аресте, Белоусов переехал в Москву, а в 1905 году стал одним из основателей профессионального союза рабочих-металлистов и активно участвовал в революционном движении. Профсоюз рабочих-металлистов сохранился и в годы реакции (1906-1909), но Белоусов, его основатель, попал в тюрьму.
— Так что вы хлебнули тюремной баланды уж лет 30 назад! — заметил Юркин.
— Я всю свою жизнь — то в тюрьме, то на воле. Забавно, когда меня посадили в этом году, я попал в ту же камеру в Бутырках, где сидел в 1906 году. Но тогда это оказалось ненадолго. Посадили же меня за организацию стачки и распространение прокламаций, а единственные показания против меня давали шпики и провокаторы. Тогда этого было маловато. В тюрьме же и началось мое образование. В камере было с кем поговорить — много интересных людей. Крепко подружились мы с Михаилом Ивановичем Калининым.
— Такая дружба теперь кое-чего стоит, — сказал кто-то из нас. — А вы пробовали писать ему?
Белоусов на это замечание только пожал плечами:
— Много с тех пор воды утекло...
В Первую мировую войну Белоусова освободили от армии как опытного рабочего-металлиста. Работая на одном из военных заводов, он стал там участником подпольной революционной группы. В 1916 году шла упорная борьба за власть в профсоюзе рабочих-металлистов между большевиками и меньшевиками. Белоусов всегда был большевиком, партийным организатором и пропагандистом. Когда заговорили о Первой мировой войне, мне пришлось «подгонять» Белоусова: Юркин
и он, два ветерана этой войны, могли говорить о ней бесконечно. Мне же хотелось узнать о настроениях рабочих уже после победы в Гражданской войне.
— Говоря по правде, — ответил Белоусов, — еще и до окончания Гражданской войны случалось такое, что вызывало у нас тревогу.
По-видимому, рабочих, вроде Белоусова, тревожило то обстоятельство, что революция не принесла достаточно радикальных социальных перемен. Такие вопросы задавались, в частности, на митингах рабочих, на что революционные вожди отвечали: «Подождите! Прежде всего надо разбить врага!». В то время такого ответа было достаточно. Но после окончания Гражданской войны вопрос уже стоял более остро.
— Итак, мы победили, — говорил Белоусов. — Нам говорили и доказывали, да и мы сами понимали, что теперь мы живем в рабочем государстве и что теперь — все наше. Но на деле, какая у нас была власть? Мы затруднялись понять все это. Мы были простыми необразованными людьми, поднявшимися наверх с самых низов. Мы задавали вопросы, но ответы получали обычно чисто теоретические, штампованные. Хотя Калинин был исключением, — добавил Белоусов и усмехнулся при этом.
Белоусов продолжал поддерживать связь с Калининым.
— В те дни, — подчеркнул он, — доступ к Калинину был свободный.
Калинин поощрял рабочих выступать откровенно на митингах. Иногда приглашал своих старых товарищей к чаю. В последний раз Белоусов виделся с Калининым за чашкой чая в ранний период НЭПа.
— Калинин был хороший человек,— сказал задумчиво Белоусов, — думаю, и у него были свои сомнения… Как он их решил — я не знаю. Конечно, не с помощью теории. В теории он разбирался ненамного лучше нашего.
Во время той последней встречи за чашкой чая
у Калинина разговор, как обычно, зашел о Гражданской войне. Как и другие вожди, Калинин, конечно, ездил по фронтам, говорил с красноармейцами. Усталые, раздетые и разутые, они часто бывали несдержанными. Калинин никогда заранее не готовил своих выступлений, но всегда находил нужные слова, чтобы ободрить людей.
Белоусов вспомнил одно такое столкновение. Красноармеец показал на новые начищенные сапоги Калинина и спросил:
— Вот вы в новых сапогах, а у нас ноги опухшие и обмороженные!
Красноармейца поддержали другие. Калинин всех их выслушал и попросил разрешения ответить. После этого он влез на броневик, снял сапоги, сначала один, потом другой, и бросил их красноармейцам:
— Вот вам мои сапоги, носите их на здоровье. А я вернусь и скажу там: «Выбрали люди себе всенародного старосту, а сапоги ему носить не велят».
Шутка Калинина спасла положение. Она всем понравилась. Красноармейцы смеялись и кричали: «Ура Калинину!».
Белоусов рассказал еще об одном случае. Калинин принимал ходоков-крестьян. Крестьяне жаловались ему, что хотя теперь земля — их собственность и нет помещиков, все же живется им по-прежнему тяжело. Как обычно, Калинин старался шутить и не противоречить крестьянам. Тогда заговорил один из крестьян; он был родом из той же деревни, что и сам Калинин, и знал его с детства:
— Ты шуточки да прибауточки эти брось! Глянь, как ты обут — в кожаные ботинки, а мы вот все в лаптях... Ты что, думаешь, правильно это? За это ли мы боролись?
Калинин тотчас же изменил тон.
— Да, — сказал он, — правильно. Революцию мы сделали, а дорога вперед — она длинная-предлинная. Много у нас березы, а кожи не хватает. Нам нужно проводить индустриализацию страны. Тогда и будем
выпускать кожаные ботинки миллионами. У всех тогда будет. А пока что: мне — кожаные ботинки, а вам— лапти. Можете так и передать в нашей деревне.
Рассказав это, Белоусов задумчиво поглядел в окно барака. Шел дождь.
— Правильно, вы думаете, ответил Калинин? — спросил его Юркин.
— И правильно, и неправильно... Я никогда к нему больше не ходил... В том именно, как он сказал, было что-то нехорошее. Он смотрел строго на нас, будто то же самое и к нам относилось. Но мы-то были его старыми друзьями, не выступал же он на собрании оппозиционеров. Ушли мы в подавленном состоянии. У меня самого настроение было еще хуже, чем у других. Мы тогда ясно поняли, что бесполезно обращаться к друзьям детства за помощью, а тем более, если они стали важными персонами. Просто ни к чему. И мне следовало знать об этом заранее. Собственно, знать-то я знал кое-что. Ведь я был старый большевик, знал что такое политика. Знал, что пока на всех не хватает, Революция или не Революция; в первую очередь получат те, кто на ответственных постах. Их следует оградить от нужды. А сам Калинин — человек хороший. Пострадал за народ. Но сколько же таких, как он? И надолго ли их хватит, чтобы сдерживать тех, других, которые исчислялись уже многими тысячами и которые поставили себя превыше народа, злоупотребляли своими привилегиями за счет народа? Конечно, Калининские башмаки меня не смущали сами по себе. Вопрос стоял иначе. Ведь если Калинин считает лапти явлением допустимым, то что уж говорить об остальных? А именно это бросалось мне больше всего в глаза. Партия не была уже партией равных, товарищей. Между нами и руководством лежала теперь пропасть непроходимая, так же как и между нами, т.е. членами партии, и рабочей массой.
— К каким же вы тогда пришли выводам? — спросил его нервно Юркин. — Что решили делать?
— В том то и беда... Ничего не решили... Говоря с друзьями своими, я убедился, что мыслят они так же, как и я... Но мы-то были люди простые, без образования. Такие, как вы, товарищи, должны были повести нас за собой.
— Но ведь вы были зрелым, опытным большевиком, - говорил Юркин, — вы работали в Москве. Вы знали, что вы не одиноки. Вероятно, слышали, что были такие группы в партии: Шляпникова, Сапронова, Смирнова. Ведь то, о чем вы сейчас говорите, они подвергали критике: и отсутствие равноправия, и растущую власть партаппарата, и то, что не слышно стало голоса простых рабочих, и что перестали прислушиваться к их мнению.
Белоусов покачал только головой.
— Вы сами не рабочий, но вы должны понимать психологию рабочего. Мы бы примкнули к любому — к Шляпникову, Сапронову, даже к самому Троцкому, если бы только видели, что они ведут к тому, чего хотели рабочие. Мы считали, что нужно изменить самое отношение к рабочим, а не только сменять людей на верхушке партии. Какая бы группа ни взяла верх, мало что изменилось бы. И еще одно. Тогда, а в особенности после смерти Ленина, все эти попытки были уже безнадежными. Новый порядок установился твердо. Партия была уже не той, какой мы знали ее прежде. Не было у нас к ней и того доверия, что прежде. И все же не могли мы совсем не верить партии. Партия была нашей жизнью. Партия все еще оставалась Партией.
— Но что она была такое — абстракция?
— Что значит — абстракция?
— Ну, слово, идея. Вы могли вложить в нее любое содержание.
— Да, если хотите... Партия была предметом веры нашей... Каждому, кто выступал от имени Центрального Комитета, мы верили наперед. Верили, что так или иначе, в будущем, мучившие нас вопросы будут решены.
Трудно это объяснить вообще, а особенно иностранному товарищу, но так оно и было. Мы были партией и государством, и в то же время партия и государство были уже где-то вне нас. Они были нашей верой, нашей религией, но они не были уже нами самими.
— Минутку, минутку. Это же было до того, как началась борьба против оппозиции. Вы что, и тогда уже рассматривали партию и Центральный Комитет раздельно друг от друга? Вы считали что думать должен ЦК, а партия — повиноваться ему?
— Да... Впрочем, у нас, разумеется, имелись и свои соображения. Но только мысли, сформулированные ЦК партии, становились для нас законом, их мы старались понять и проводить в жизнь. ЦК партии вырабатывал Генеральную линию, и линия эта была для всех обязательной. Мы, конечно, понимали, что происходят перемены в стиле руководства. По крайней мере те из нас, кто знал положение вещей до Революции и сразу после нее. Это-то и смущало нас.
— Ну, и к каким же вы пришли выводам? Что делать решили? — снова повторил свой вопрос Юркин.
—Да, в общем-то — ничего... Конечно, мы и подумать не могли, чтобы перейти на другую сторону. Гражданская война разделила страну, разделила народ. Разделила города, деревни, разделила семьи, людей. Мы и помыслить не могли перейти эту линию — бросить партию, созданную нами, бросить советское государство, быть с теми, кто пытается восстановить старое. Это означало бы отказаться от своей жизни. Можно было приходить к разным решениям в личном плане. Один выход был — идти по линии наименьшего сопротивления, т. е. перестать задумываться о социальной справедливости, о политике, делать то, что прикажут, одобрять все безоговорочно, думать о себе. Люди занялись улучшением быта, заботились о пище, одежде, квартире. Некоторые, по выражению партии, «дегенерировали»: стали пить, устраивать кутежи, перенимали замашки прежнего высшего общества. Для них, после
смерти Ленина, вопрос заключался только в том, чтобы найти нового вождя партии. И когда на это место стал претендовать Сталин, они и не задумались, подходит ли он для этого или нет. Подчиняться ему и Центральному Комитету — было единственное, в чем состояли, с их точки зрения, обязанности члена партии. Была и другая группа, представлявшая собой противоположную крайность: они открыто протестовали, примкнули к оппозиции. Иные сомневались, пытались разобраться в том, что происходит. Были и такие, что сразу же впали в отчаяние. Среди них были лучшие. Самоубийств было куда больше, чем многие предполагают...
— Не думали ли вы и сами о таком выходе? — спросил Юркин.
— Нет, мне такой выход казался малодушием, недостойной большевика трусостью. Тут мне пригодились годы подполья. Большевики никогда не отчаивались, всегда смотрели вперед. Было у меня в то время и несчастье личного порядка. Подруга Надя. Были мы знакомы с 1917 года. Замечательная была девушка. Очень я ее любил. В Гражданскую войну попала она в плен к гайдамакам. Ее пытали, и только чудом удалось ей спастись. Приехала в Москву. Жила скромно. В одной из комнатушек в квартире, отнятой у купца. Училась в Институте имени Свердлова. Когда началась вся эта заваруха в партии, Надя, я заметил, стала чураться меня. Мы реже виделись — думал, какое недоразумение произошло между нами. Однажды прихожу к Наде - дверь изнутри закрыта на ключ. Стучусь - не открывает. Спросил соседей — оказывается, она не выходила уже два дня. Взломали дверь и видим: застрелилась Надя. Прошлой ночью, из нагана, который хранился у нее с Гражданской войны. В комнате — книги, записи ее. Увидел я в этих записях следы внутренней борьбы, происходившей в связи с событиями в партии, которым она пыталась, но не могла найти оправдания.
Потеря Нади так и не изгладилась из памяти Бе-
лоусова. С тех пор он избегал завязывать близкие отношения с кем бы то ни было.
Внешне у него, впрочем, все обстояло, до известной поры, благополучно. В 1926 году его даже выдвинули по партийной линии, в то время как многих членов партии отстраняли за участие в троцкистской и зиновьевской оппозиции. Дали ему и хорошую квартиру. Он решил примириться с положением. Если все то, что он читал в газетах, и противоречило его личному идеализированному образу партии, он в то же время понимал, что сопротивление абсолютно бессмысленно и опасно. Все, чего добивался ЦК партии, исполнялось. Оставалось только надеяться, что намерения и планы ЦК направлены на благо страны.
— Разве вам совсем уж не с кем было посоветоваться? — спрашивал Юркин, — Разве не было у вас, кроме Калинина, старых партийных товарищей, у которых был более ясный подход к тому, что происходило тогда?
— Было, конечно, Общество старых большевиков. Вроде клуба. Общество нам во многом помогало. Например, выдавало спецпайки. В случае болезни направляло в особые клиники. ЦК старался показать, что разрыва нет, что к прошлому относятся уважительно.
— Вы, значит, формально принадлежали к «старой гвардии!».
— Да. Было у меня свое место, свои обязанности. Это помогало мне сознавать, что не следует выходить за определенные рамки. И все же, знаете, по мере того, как шли годы, мы стали замечать в себе перемены... Трудно это объяснить... Можете поверить, что когда в 1935 году меня взяли, я даже почувствовал какое-то облегчение! Ведь мы, старые большевики, создавшие своими руками наше государство, нашу советскую власть, мы жили в состоянии такого страха, такого ужаса, подобно которым не было и в царские времена.
— Вы, старый большевик, основатель Союза рабочих-металлистов! Неужели вы действительно считали, что это хуже царизма?
- Да, признаюсь вам в этом, как признавался тогда только самому себе. И в то же время я сознавал, что моя вина не меньше вины государства. У меня было такое чувство, что каждое мое сомнение, каждая моя мысль становятся известными. Мне казалось, что невидимая сила следит за мной откуда-то из темноты, направляет меня, ждет меня... И когда наконец она вышла из мрака на свет, когда пришли за мной из НКВД, я понял, что именно этого ожидал все время. По крайней мере это был выход.
Мы замолчали, глубоко пораженные его признанием. Это было первое такое признание, но далеко не последнее. После этого в лагерях и тюрьмах мне неоднократно приходилось слышать подобное от старых коммунистов-большевиков. И еще одно обстоятельство поразило меня. Большинство из тех, кто и до ареста находился в состоянии как бы предсмертной психической агонии, были простые люди. Именно они чувствовали себя наиболее уязвимыми, беззащитными. Те партийцы, у которых не было солидного партстажа, надеялись после ареста на разъяснение «недоразумения », хлопотали, писали. Такие же, как Белоусов, старые большевики-партийцы, участники революции, Гражданской войны, не имели и проблеска надежды. Как бы ни были они невинны, какими бы ни были верными сынами партии, эти люди не удивлялись тому, что с ними обращаются, как с уголовными преступниками, не рассчитывали на снисхождение и знали, что их ждут долгие годы заключения в тюрьмах и лагерях или даже расстрел. Не удивлялись они и жестоким репрессиям против их безвинных семей, друзей, знакомых. Подсознательно они были убеждены, что созданный их руками строй опасен, и опасен в первую очередь для тех, кто его создал.
Белоусов досказал нам свою биографию на следующий день. Рассказывать, собственно, оставалось немного. Однажды, в 1934 году, незадолго до съезда Партии он был в гостях у своего старого друга Тимофея, члена партии с 1902 года.
К тому времени Сталин уже окончательно расправился с крестьянством. Невообразимой ценой была проведена сплошная коллективизация. Намечались некоторые признаки увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции. Но уровень жизни рабочих продолжал снижаться. Дисциплина на производстве поддерживалась лютыми драконовскими мерами. Полным ходом шла индустриализация — и снова ценность человеческой жизни во внимание не принималась.
Хотя к тому времени были разгромлены как левая, так и правая оппозиции, известные признаки недовольства и сопротивления, как мы теперь знаем, проявлялись со стороны более «умеренных» из окружения Сталина: они полагали, что пришло время дать народу передышку, заключить с ним мир. По-видимому, эти люди отдавали себе отчет в том, что Сталин задумал и готовит новую волну террора, на этот раз против самой партии.
После чая в семейном кругу Тимофей позвал Белоусова к себе в кабинет и завел разговор о политике Белоусов отвечал уклончиво. В конце концов Тимофей, потеряв терпение, спросил Белоусова в упор, за кого он будет голосовать на съезде и не время ли сменить на посту секретаря — Сталина? Белоусов в ужасе посмотрел на него, схватил пальто и кепку и ушел. После этого, всякий раз встречая Тимофея в Обществе старых большевиков, он отворачивался в сторону.
Белоусова взяли в феврале 1935 года. Обвинение — контрреволюционная деятельность. Он рассказал нам, что следователь его, в отличие от большинства своих коллег, был человеком интеллигентным, образованным и опытным. Белоусова не пытали, к нему не применялись никакие меры физического воздействия. Ему только сказали, что бессмысленно отрицать предъявленные обвинения. Сказали, что имеются прямые и неоспоримые улики, и вместо игры в кошки-мышки следователь сразу же вызвал на очную ставку главного свидетеля.
Ввели Тимофея. Белоусов едва узнал его. Ясно было, что его обрабатывали иначе, чем Белоусова. Ясно было и то, что он капитулировал. Страдая от горького стыда, он в точности описал встречу с Белоусовым накануне партсъезда.
Сперва Белоусов подумал было, что рассказ Тимофея лишь доказывает его невиновность. Ведь именно Тимофей, и только Тимофей, высказал тогда свои взгляды. А Белоусов не только сразу же ушел от него, но и в дальнейшем, как чумы, избегал встреч с ним. Следователь посмотрел на него с сожалением:
- Подумайте, в какие времена мы живем! — сказал он. — Только что убили Кирова. Необходимо проверить и самых высокопоставленных в нашем государстве людей. Выполним ли мы свой долг, если оставим на свободе наших тайных врагов?
Как только Белоусову стало ясно, куда клонит Тимофей, — продолжал следователь, — он должен был поспешить к ближайшему телефону, набрать номер НКВД и сообщить о происшедшем. Но он так не поступил, и это только доказывает, что он и сам в глубине души тоже оппозиционер.
После нескольких месяцев в Бутырках Белоусова приговорили к пяти годам и отправили в лагерь. В чем же все-таки провинился Тимофей? Тимофей критиковал одного из партийных руководителей и предложил, чтобы съезд партии воспользовался своим законным правом сместить его с должности. В более ранние годы существования партии это, разумеется, не сочли бы преступлением. Каждый коммунист должен был подчиняться решению партии в том случае, если это решение принято. Теперь же разница состояла в том, что понятие лояльности по отношению к партии было подменено понятием лояльности по отношению к существующему ее руководству, т.е. практически — к Сталину. На деле, начиная с 1937 года, съезды партии проводились все реже и реже, и сам Сталин призна-
вался в своем ближайшем окружении, что сместить его невозможно, кроме как силой оружия.
А что же с Белоусовым? С точки зрения следователя, тот факт, что он не донес на своего друга, «пролил свет» на его собственные взгляды. Из всего того, что рассказал нам Белоусов, ясно следовало: все эти годы он просто старался не думать о том, что происходит вокруг него, чтобы не возбуждать в себе сомнений в правильности политики руководства. Сомнения эти сделали его «скрытым преступником», не менее опасным, потому что свои «преступления» он скрыл частично даже и от себя самого. Конечно, прежде такая логика была бы признана абсурдной, каковой она и была на самом деле. В те времена сомнения, трудности простого коммуниста, верой и правдой служившего на благо партии и советского строя встревожили бы и его друзей, которые помогли бы ему разобраться в них. Теперь же он не мог поделиться сомнениями ни с кем из своих друзей: этим он подставил бы под удар не только себя, но и их. Сомнениями его занималось теперь НКВД. Не было более яркой иллюстрации перерождения партии. Именно эта перемена вызывала особую тревогу у Юркина и у меня.
Было поздно. Все уже давно разошлись по местам. Мы тепло поблагодарили Белоусова за то, что он так искренне рассказал о себе. Мне хотелось подумать обо всем этом наедине. Но Юркин не давал мне покоя и поучал как школьный учитель:
- Видите, к чему мы теперь пришли? Запомните этот рассказ старого большевика. Нынешнюю партию нельзя путать с той партией, какая была прежде. Если вы впадете в эту ошибку, вы — не марксист.
Наконец Юркин натянул на себя одеяло и пожелал мне спокойной ночи. Но я не мог заснуть. Едва я начинал дремать, мне виделись страшные сны. У снов этих была одна общая тема: старые мои друзья набрасывались на меня, рвали на куски, кусали и царапали. В промежутках между этими кошмарами я лежал
с открытыми глазами, уставясь во тьму. Я спорил сам с собой, что-то пытался доказать. К чему же мы действительно пришли? Юркин прав. Следует смотреть правде в глаза. Как все это отразилось на советском рабочем классе? Каковы будут последствия для мирового пролетарского движения?
Незадолго до рассвета я услышал какой-то шум за перегородкой: там находился Белоусов и размещалось большинство людей его плотницкой бригады. То тут, то там поднимались люди, бормотали что-то и снова укладывались — дорожили каждой минутой сна.
Я прокрался на цыпочках к двери и выглянул наружу. Охрана растолкала кое-кого из заключенных, те двигались быстро, переговариваясь шепотом. Я догадался, в чем дело: собирали этап для отправки в другой лагерь. Делалось это обычно тайно, ночью, чтобы уезжающие не имели возможности попрощаться, а может быть и передать привет кому-то. Часто человек, просыпаясь утром, обнаруживал, что увезли его лучшего друга, узнавал, что друг этот далеко и он никогда больше с ним не увидится.
Офицер вызывал людей по списку. Дошел до Белоусова. К койке Белоусова подошли два вохровца, стали его расталкивать. Усталый от разговоров накануне, Белоусов спал как убитый, и вохровец наконец так ущипнул его, что он вскочил с койки с криком.
— Тшш... Тихо! Собирай вещи и пошли! Белоусов смотрел на него, не понимая, что происходит. Вохровец выругался.
— Простите, простите, ваше благородие... Иду, господин надзиратель...
— Что? Как ты меня назвал?... Белоусов, наконец, опомнился.
— Простите... господин... товарищ, значит... Видел во сне Бутырскую тюрьму... 1905 год...
Вохровцы пошли к выходу, и я поспешил прочь. Больше я ничего не видел. Слышал только стариковское кряхтение, да тяжелые шаги уходившего Белоусова.
Утром я рассказал Юркину о событиях минувшей ночи. После двух вечеров знакомства с Белоусовым нам казалось, что мы потеряли близкого друга. Юркин улыбнулся грустно:
— Так-то, дружище. Был товарищ Белоусов — нет товарища Белоусова. Пора на работу!
Вскоре после того, как увезли Белоусова, настроение в нашем лагере резко упало. Погода стояла плохая. Распространился слух, что нас переведут в другие лагеря. Тяжелая работа изнуряла нас все больше, в особенности тех, кто был послабее. Начальство требовало все большей и большей выработки. Строительство спиртоперегонного комбината подходило к концу. Начальство старалось сдать его в установленные 1 сроки.
Увозили нас в декабре. Стоял тридцатипятиградусный мороз, и с каждым днем температура падала все ниже. После одного особо изнурительного наряда начальство распорядилось выдать нам «за ударную работу». Даже мы с Юркиным получили по пятерке (остальным тоже досталось — кому столько же, кому больше). Мы бы, конечно, предпочли один-два выходных дня. В течение нескольких недель у нас не было даже времени переговорить. А вопросов накопилось множество.
Наконец, в одно раннее утро, оставив нескольких работников для завершения стройки, нас повезли на станцию. Там ждал нас обычный состав из теплушек. Станция была забита заключенными из пересыльного лагеря, а также и из нашего. Нам с Юркиным хотелось быть вместе, но нас разъединили.
Поездка была сплошным кошмаром. Теплушки, отличавшиеся от простых товарных вагонов только решетками на окнах, были до невозможности переполнены. Духота. Все мы были крайне истощены и до этапа, а многие — больны. Больным во время этапа не
оказывали никакой медицинской помощи. Вохровцы отказывали им даже в глотке воды.
Прибыли мы на новое место хмурым утром, выкатились на мороз из вонючих вагонов. Мороз ударил нас в грудь, будто тупым орудием. Люди теряли сознание, потом приходили в себя, становились в ряды. Я разыскал в толпе Юркина. Его трудно было узнать. Лицо зеленое. Не мог поднять даже своего узла с вещами. Я пристроился рядом с ним.
Станцию назначения, как водится, держали от нас в секрете. Теперь нас окружали горы. Когда мы пришли в себя и огляделись, нас поразила необычайная красота окружающего ландшафта. Дорога вилась между горами в снежной долине. Горы были сплошь покрыты хвойными лесами. Пейзаж напомнил мне знакомые места в Швейцарии. Позднее мы разузнали, что ведут нас в лагерь в Горной Шории, одном из живописнейших районов в Алтайских горах, неподалеку от сибирско-монгольской границы.
Этап растянулся на километра полтора. Впереди, по сторонам и в хвосте шла охрана с ружьями, некоторые с собаками-овчарками. Если кто-нибудь из заключенных попытался бы бежать, его тотчас бы пристрелили. Но если бы мы все вместе набросились на охрану, даже безоружные, мы легко бы с ней справились. Нечего и говорить, что никто не помышлял о подобном.
Так прошли мы несколько километров, после чего была дана команда остановиться и перекурить. Юркин порылся в карманах, извлек оттуда немного махорки, скрутил козью ножку и с жадностью затянулся.
— О чем задумались? — спросил он меня с улыбкой.
— Так, ни о чем. Просто дышу свежим горным воздухом.
— Удивляетесь, что так мало охраны?
— Не особенно. Они знают, что мы не попытаемся бежать.
Юркин закашлялся, сплюнул, но глаза его загорелись интересом.
— В том-то и дело. И я думал об этом. У меня на этот счет есть своя теория.
Звучало, как продолжение старого, прерванного разговора. Мозг его снова заработал. Я приготовился слушать, сидя на обочине промерзшего тракта.
— Вы хорошо изучили нас, русских. Хорошо для иностранца. Но вы не знаете, как было в революцию и до революции. Конечно, мы все те же в основе. Но кое-что в нас изменилось. Столетиями мы, русские, оставались покорными, безропотно принимали установленный порядок, подчинялись властям. Время от времени вспыхивали бунты, но неудача их только убеждала нас в том, что бунтовать не следует. Потом пришла революция. Величайшая в истории. Началась в 1905 году. Достигла зенита в 1917. Мир видел не русских бунтарей, а русских революционеров - русских, которые не желают больше покоряться, которые готовы теперь разрушать, уничтожать и выкорчевывать все, что преграждает им путь. Партия Ленина, сам Ленин, были воплощением революционных порывов и устремлений, веками таившихся в народе. Борьба шла многие годы. А потом вдруг пришла усталость. Это совпало со смертью Ленина. Настало время остановиться, оглядеться, сравнить: куда мы пришли? Народ пресытился хаосом и разрушением. Хотелось строить жизнь на новых устоях, в новых общественных условиях. Людям надоело разрушать, им хотелось строить. Но строить на новом социальном фундаменте. Итак, было построено новое государство, создан новый общественный строй. Один год того времени равнялся десятилетиям. Характер нового строя определили два обстоятельства. Во-первых, исчезли старые кадры. Их смыла волна, поднимавшаяся с низов. Во-вторых, революционная энергия народа иссякла. Люди перестали бунтовать, они послушно лезли назад в ярмо, снова беспрекословно подчинялись власть имущим. А взгляните на нас сейчас. Несколько человек умерло в дороге. А кто из нас сопротивлялся, протестовал, требовал глотка воды для больного, свежего
воздуха, чтобы помочь человеку выжить? Никто. А всего несколько лет назад такое казалось бы немыслимым. В этом суть дела, основа нового порядка.
— И все это именем Революции и Ленина! Юркин засмеялся.
— Ну, не думаете же вы, что следовало делать это именем Церкви или Царя? Старый строй ушел навсегда в прошлое. Он не может вернуться, потому что те люди, те классы, на которые он опирался, больше не существуют. Это каждому ясно. Поэтому новый строй не может оперировать старыми понятиями, даже если бы он того пожелал. Но из этого не следует, разумеется, что у нового строя нет ничего общего со старым. Есть общее, и даже немало. Однако Революция была великим, монументальным, бесповоротным событием. Но с тех пор миновало 20 лет. И то, что сменило царизм, исчезло своим чередом. Только этого люди еще не поняли. С нынешним строем мы не можем бороться именем Октября, ибо он сам правит этим именем. Он пользуется лозунгами Октября для того, чтобы заставить людей подчиняться и работать. Всегда, при всяком политическом режиме легче управлять, не порывая связей с прошлым, создавая иллюзию последовательности и преемственности власти. И люди действительно работают. Люди творят чудеса. И если теперь занимаются ликвидацией наследия Октября, то следует, по крайней мере, смотреть на это реалистически, взглянуть в глаза правде.
— Как вы можете утверждать такое? — с возмущением спросил я своего собеседника. — Что же, по-вашему, это диалектика? Вы беретесь утверждать, что история — не больше, чем карусель? После всех огромных жертв снова оказаться там откуда начали? Снова столкнуться с произволом, может быть, еще хуже царского? Зачем было «делать революцию» в таком случае? Почему не послушались Плеханова, утверждавшего, что даже в случае победы революция в России окажется бесполезной? Вы считаете, что Плеханов был прав?
Юркин пожал плечами.
— Может быть, он и был прав, с точки зрения чистой абстракции, с точки зрения, так сказать, сверхчеловеческой. Но мы-то живем в истории, имеем дело с фактами, а не с разными теориями. А факты были таковы, что революция оказалась неизбежной. Революцию совершил народ. Когда большевики взяли власть в 1917 году, они исполнили волю народа. Они не могли поступить иначе. Да и сам народ был бессилен перед лицом законов истории — он тоже не мог бы помешать тому, что произошло. Называйте это, если хотите, фатализмом. А я называю это законом исторической необходимости.
— Значит, историческая необходимость диктует нам пассивно наблюдать за тем, что творится сегодня?
Но тут дали команду идти дальше. Юркин нехотя поднялся.
— А что мы можем сделать? Нас тут осталось так мало. Мы слишком измотаны. Пошли!
Мы прошли в тот день 25 километров. Нас, как обычно, обманывали, — говорили, что идти всего километров десять. Едва волоча ноги, добрались мы до лагеря к вечеру. Его огни светились сквозь темень леса. Нас остановили на холме против ряда полуразрушенных бараков. Пока людей распределяли по баракам, мы с Юркиным заглянули в один из них. Вдоль стен в три ряда тянулись нары. Помещение было до отказа забито потными полуголыми истощенными «зеками». Лица их показались нам какими-то озверелыми. Мы в страхе отшатнулись. Хотелось надеяться, что нас поместят в другой барак. Но вышло так, что именно этот барак стал нашим новым домом.
Юркин нагнулся и с трудом поднял свой узел. Он увидел мое искаженное ужасом лицо и усмехнулся.
— Думаешь, пришел твой конец, браток? Может, и так. А я — русский. Мне не привыкать!
ГЛАВА 4 Троцкисты
ГЛАВА 4
ТРОЦКИСТЫ
Весной 1936 года меня привезли в Москву из Горной Шории под специальным конвоем, состоявшем из начальника и нескольких вохровцев. На Лубянке меня поместили сначала в одну камеру с человеком, убежденным анархистом, сидевшим в тюрьмах почти все время, начиная с Революции. Вскоре мы уже откровенничали с ним о массовых репрессиях, о тысячах арестованных за «троцкизм». Анархист полагал, что главная причина всех обрушившихся на Россию несчастий — в так называемой «диктатуре пролетариата». По мнению этого человека, все, что произошло впоследствии, явилось прямым результатом большевистского захвата власти в 1917 году. Он утверждал, что репрессии против членов партии — прямое и логическое продолжение «разгула насилия», лежавшего, по его мнению, в основе всех бед.
— Вот вы, коммунисты, жалуетесь на репрессии, — говорил он, — а на деле вы только получили по заслугам. Однопартийную систему установили Ленин и Троцкий, она-то и послужила основой издевательств над людьми вообще, а над принципиальными людьми в особенности.
Хотя он резко критиковал Троцкого как человека, ответственного за многое, он называл его все же «выдающимся революционером» и отдавал ему предпочтение перед Сталиным.
Тот факт, что у Троцкого было много последователей среди молодежи, являлся уже сам по себе подтверждением личных качеств Троцкого. Если бы Сталин и Троцкий поменялись ролями, то есть, если бы к власти пришел не Сталин, а Троцкий, то у Сталина, вероятно, последователей не оказалось бы вовсе.
В тридцатых годах троцкизм вполне очевидно, стад совершенно иным, чем в двадцатых. Высылка из СССР Троцкого была не только актом мести Сталина, но и средством полного подавления оппозиции. Она давала, кроме того, возможность совершенно исказить само понятие «троцкизм», заменить его изобретенным Сталиным (с помощью аппарата НКВД и других специалистов в области провокаций) пугалом «троцкизм».
Популярность Троцкого в партии и его личный авторитет вплоть до 1929 года были такими, что высылка из СССР была самой крайней допустимой мерой по отношению к нему. Вместе с тем Сталин отдавал себе отчет в том, что Троцкий — единственный из его противников, который никогда и ни за что не пойдет на капитуляцию. Сталин знал Троцкого лучше, чем его знали ближайшие друзья и сторонники. Он прекрасно понимал, что пока Троцкий находится в СССР, к нему, как к политическому центру притяжения, будет тянуться оппозиция. Даже среди окружения Сталина были такие, кто полагал, что Сталину придется рано или поздно считаться с такой возможностью. Потом я встречал людей, активно помогавших ликвидации троцкизма. Но возможность ликвидации Троцкого или даже суда над ним не могла тогда прийти им в голову. Даже и высылку Троцкого многие не одобряли. Но если бы Троцкого оставили в ссылке в провинции, к нему, несомненно, продолжали бы стягиваться его сторонники, в том числе члены ЦК и Политбюро. Даже Бухарин, возглавивший идеологическую кампанию против Троцкого, относился к нему с большим уважением и не мог представить себе партию без Троцкого. Поэтому, прежде чем физически ликвидировать Троцкого, Сталин решил уничтожить его политическую базу. А пока что Троцкий как бы существовал и не существовал. Следовало в первую очередь, с точки зрения Сталина, дискредитировать троцкизм.
Как же добиться этого? Прецедентом была высылка Лениным меньшевиков. Даже и после того, как мень-
шевики утратили политическое влияние в стране, Ленин счел нужным выслать их лидеров из СССР. Ленин лично на этом настаивал: ведь держать их в тюрьме значило сохранять в стране центры политической оппозиции. Расстрелять их казалось Ленину немыслимым и непрактичным: он был слишком тесно с ними связан, а кроме того, не находилось подходящего повода, и расстрелянные меньшевики стали бы мучениками в глазах их последователей. Но как только они оказались заграницей и начали писать в «Социалистическом Вестнике»¹, они как бы умерли идеологически и политически. Сталин и последовал этому примеру Ленина. Ведь что бы Троцкий ни говорил и ни делал заграницей, Сталину легко было исказить все, лишив его поддержки внутри страны. Высылка Троцкого была гениальным решением.
Уже в 1925 году в Советском Союзе сосуществование Сталина и Троцкого стало невозможным. Известно, что Ленин часто прибегал ко лжи. Сталин же не только постоянно говорил прямо противоположное тому, что делал, но и всю партию заставлял клясться в том, что было заведомой ложью. Сталину удалось добиться не только того, чтобы партийцы лгали вслух, но даже самим себе, мысленно. Это было личным триумфом Сталина. А этого не удалось бы добиться, если бы Троцкий оставался в СССР. Когда же Троцкий оказался заграницей, Сталин приступил к планомерной ликвидации его сторонников, многие из которых были людьми мыслящими, не желавшими принимать на веру и выполнять решения только потому, что они исходили «сверху». Многие из троцкистов вступили в партию еще до революции, пользовались авторитетом в партии, репутацией старых революционеров. Некоторые занимали ответственные посты в партаппарате.
¹ Газета, основанная меньшевиками-эмигрантами в Берлине в начале 20-х годов.
Все те, кто сомневался в том, подходит ли Сталин для роли вождя партии, кто знал о завещании Ленина и о «троцкистской» программе оппозиции, те, кто мог судить о Сталине с позиций такого опыта и осведомленности, были автоматически сами по себе опасны с точки зрения Сталина и, кроме того, могли распространить эту опасность внутри партии.
Одним из таких людей был Карл Радек. С Радеком я познакомился в 1925 году, когда впервые приехал в Москву. Радек был начитанным, образованным интеллигентом. Меня поразило одно обстоятельство: в его интерпретации все самое избитое и политически правоверное звучало необычно. Меня даже предупреждали, что от Радека я услышу «партийную правду», но в «версии Радека». Радек был другом Ленина. Он утверждал, что взгляды его всегда совпадали со взглядами Ленина, но, тем не менее, настаивал на своем праве выражать их по-своему. После смерти Ленина положение Радека заметно пошатнулось. Радек возглавлял Восточный отдел Коминтерна, но в то же время не принимал активного участия в выработке общей политической линии Коминтерна. Он не входил в политическое руководство, а был скорее блестящим интерпретатором решений руководства. В этом, а также в его знании международной жизни состояла, по мнению Сталина, основная ценность Радека. Поэтому Сталин разрешал ему больше свободы слова, чем кому бы то ни было другому. Радек позволял себе смеяться и над врагами, и над друзьями. Долго все это сходило ему с рук.
Наш с ним разговор касался сложной политической проблемы. Германское правительство того времени пришло к власти в результате подавления восстания 1923 года. Каким должно быть наше отношение к нему? К моему наивному изумлению, Радек заявил, что нам следует поддерживать это правительство и, хотя немецкий генеральный штаб реакционнейший из всех, тем не менее следует прийти к соглашению с ним по
вопросу о поставках оружия, о подготовке военных специалистов и даже о координации военного планирования.
— Советский Союз совершенно изолирован, — подчеркивал Радек. — Германские реакционеры долго еще не смогут оправиться от поражения. Сект и Гаммерштейн подавили коммунистическое движение в Германии, но вместе с тем они недовольны Версальским договором и поэтому враждебны к Англии и Франции. Нужно пользоваться разладом в капиталистическом лагере, углублять раскол в нем. Это в интересах мировой революции.
Радек старался заверить меня, молодого иностранного коммуниста, в том, что тут все делается по-честному. Ему удалось убедить меня в своей искренности, поскольку он говорил о подлинной мировой революции, а не об узконациональных интересах Советского Союза.
Его теория «углубления раскола» стала поистине навязчивой идеей, в частности, после того, как на Женевской конференции Литвинов впервые предложил план всеобщего разоружения. Радек был тогда членом советской делегации в Женеве. Его включили в нее отчасти потому, что он был тонким знатоком международной политики, а отчасти — как личного друга британского делегата Гендерсона, в то время члена правительства Великобритании, которого Радек знал по совместной работе во II Интернационале накануне Первой мировой войны.
На этой конференции Радеку бросились в глаза две вещи. Во-первых, тот факт, что Америка не согласилась с требованием Японии изменить соотношение между японскими и американскими военными корабля ми, — которое, согласно договору 1922 года, составляло три к пяти. Радек спросил американского делегата, что произойдет, если Япония не уступит. Американец ответил, что в этом случае договор будет расторгнут, и Америка, как более сильная с экономической точки зрения страна, еще больше увеличит превосходство
своего военно-морского флота над японским. Поэтому в своем отчете о конференции Радек подчеркивал то обстоятельство, что в международных отношениях главная роль принадлежит не дипломатии, не договорам, а экономической силе, на которую они опираются.
Радек имел также неофициальные беседы с Гендерсоном. Гендерсон советовал делегации СССР соглашаться на все условия Англии и Франции, поскольку основное, что требовалось Советскому Союзу, по его мнению, это — выиграть время. Гендерсон объяснял Радеку, что делегация СССР и представить себе не может, как люто ненавидят Советский Союз во всем мире, как готовы воспользоваться любой возможностью, чтобы уничтожить его. На Радека этот разговор произвел такое впечатление, что он немедленно не только сообщил о нем Сталину, но и настоял на принятии специальной директивы, направленной затем Коминтерном всем зарубежным компартиям. Если, мол, Гендерсон, этот «архиоппортунист» счел необходимым сделать такое предупреждение, то какова же была в действительности опасность!
В течение последующих десяти лет партию преследовал призрак «капиталистического окружения», из чего вытекала срочная необходимость в индустриализации страны до того, как настанет момент неизбежного столкновения. Надо было выиграть время любой ценой. Наибольшие шансы встать во главе партии и страны могли быть у того, кому удастся осуществить индустриализацию. В этом, прежде всего, заключалась сила Сталина.
Я снова встретился с Радеком в 1931 году. Товарищи предупредили меня, что Радек сильно изменился. Много событий произошло со времени нашей первой встречи. Радек был в оппозиции; потом, как огромное большинство ее членов, капитулировал после высылки заграницу Троцкого. И снова мне показались убедительными его доводы. Когда-то он верил в свободные дискуссии в партии и примкнул в этих дискуссиях
к Троцкому, «затравленному льву». Теперь же, в 1931 году, Радек был убежден в необходимости монолитного единства партии, считая, что «вождь» нужен хотя бы для того, чтобы партия выжила. Радек печатал панегирики Сталину. Но это был уже не тот Радек, которого я знал в 1925 году; с тех пор я стал избегать его.
Позже, в тюрьме, я читал статьи Радека в связи с арестом Зиновьева и Каменева. Он восхвалял органы безопасности за меры, принятые после убийства Кирова, выражал удовлетворение, что за оппозицией «захлопнулись двери тюрьмы», призывал к еще большему единству и сплочению вокруг Сталина. Некоторые из моих товарищей-заключенных приходили в бешенство: ведь именно Радек призывал их прежде примкнуть к оппозиции! Они были убеждены, что Радек пишет все это из чистой трусости и заискивание перед Сталиным его шкуры не спасет.
И действительно, Сталин стал подозревать и самого Радека. В отличие от Вышинского и Заславского, бывших меньшевиков, политическая карьера которых была закончена и которые даже помышлять не смели об ее возобновлении, Радек был блестящим журналистом и имел своих последователей в партии. Так же обстояло и с Бухариным. Оба они были в то время редакторами «Известий». Как троцкист, Радек был уже не опасен, но он мог послужить связным между «левыми» и «правыми», то есть между бывшими сторонниками Троцкого и сторонниками Бухарина (Бухарин был личным другом Радека). Радек, охваченный безумным страхом, видимо, готов был пойти на абсолютное самоуничижение и на безграничное восхваление Сталина за все, что тот делал или собирался сделать.
31-го августа 1936 года было объявлено одновременно о приговоре и о расстреле Зиновьева и Каменева. Радек комментировал это сообщение по радио для заграницы в своем еженедельном обзоре событий. В тот вечер он говорил три часа. Он цитировал слова Вышинского «Собаке собачья смерть!», предавал анафеме
«изменников» и «международных фашистов». Вскоре после этого и сам Радек был арестован.
Поведение его на суде хорошо известно. В течение трех месяцев он боролся за свою жизнь, доказывая следствию свою невиновность. Он отрицал за собой какую бы то ни было вину. В то же время он давал показания по существу против всех остальных коммунистов, обвиняя их в заговоре: один был «на 50% троцкистом», другой — «на 25% », третий — «на 10% ». Радека приговорили к десяти годам.
Долгое время после этого ходили слухи, что его содержат «в тихом месте» и что он работает по-прежнему в области пропаганды: мог ли Сталин обойтись без Радека? Снова и снова узнавали его стиль то в одной, то в другой газетной статье.
Мне удалось установить истину в 1938 году при встрече с человеком, сидевшим в одной тюрьме с Радеком; их дела вел один и тот же следователь. Вскоре после суда якобы обнаружили, что Радек, «признавшийся» во всем, о чем его спрашивали и чего не спрашивали, и не сделавший ни малейшей попытки выгородить кого бы то ни было, «скрыл» какую-то информацию, касавшуюся Тухачевского. За это Радека приговорили к расстрелу, хотя и не расстреляли сразу. Согласно официальному советскому источнику 1962 года, Радек умер в 1939 году. В 1939 году, в процессе подготовки к финской войне, в лагерях производилось массовое уничтожение руководящих партийных кадров — это был первый указ Берия, возглавившего НКВД после устранения Ежова. Каким же образом человек, обладавший такими способностями, дошел до столь жалкой роли на суде? Для этого использовались такие методы следствия, после которых человек переставал быть самим собой. При этом я имею в виду не только пытки и медицинские препараты. Читая «Тьму в полночь» Артура Кестлера, я был поражен, как хорошо понял автор силу и значение, казалось бы, примитивных психологических методов воздействия, а также
непрерывных допросов и направленного на заключенного ослепляющего света. В какой-то момент допрашиваемый теряет контроль над собой, после чего он совершенно растерян, и его можно заставить говорить и думать все, что угодно. Такого результата следствие добивалось у 70-80% обвиняемых. Некоторым удавалось вовремя покончить самоубийством. Другие умирали от истощения или сходили с ума. Некоторые же все-таки держались до конца. Или, вернее сказать, — первыми «раскалывались» сами следователи, которые решали прекратить следствие, как безнадежное. В таких случаях обвиняемого или расстреливали тут же на месте, или приговаривали к расстрелу, но оставляли в тюрьме, а потом уже расстреливали.
Г. Л. Пятаков был заместителем наркома тяжелой промышленности. Ему во многом принадлежит заслуга выполнения планов первых пятилеток, но Пятаков был слишком умным человеком, чтобы считать выполнение этих планов победой дела социализма. Социализм, считал Пятаков, нельзя отделить от улучшения материальных условий жизни рабочих, от движения к бесклассовому обществу, от определенных культурных, моральных и политических норм. С большим Огорчением замечал он явные признаки упадка. Когда на 17-ом съезде Молотов говорил о «морально-политическом единстве», это было нечто совершенно иное. Пятаков усматривал в этом «единстве» утрату тех моральных ценностей, которыми он больше всего дорожил.
Мне редко приходилось встречать Пятакова, но об его взглядах и настроениях частенько слышал от нашего общего друга Вилли Мюнценберга. Было это вскоре после моего окончательного переезда в Москву в 1932 году. Мюнценберг помогал мне тогда разбираться в том, что происходило кругом, помогал знакомиться с жизнью в СССР. Я замечал, что условия жизни становились с каждым моим приездом в Москву все
хуже и хуже. В частности, бросалась в глаза инфляция, напоминавшая положение в Германии. Так, например, на 180 рублей, которые я оставил товарищу в 1926 году, он мог прожить три-четыре месяца. А когда он вернул мне эти деньги в 1931 году, то стоимость их была равна примерно стольким же копейкам. От Мюнценберга я узнал, что жизненный уровень рабочих снизился наполовину по сравнению с уровнем до 1914 года, что в стране происходят крестьянские бунты и что миллионы крестьян погибают от голода. Таковы были результаты сталинской насильственной коллективизации сельского хозяйства.
Все коммунисты верили в коллективизацию, но в 20-х годах считалось само собой разумеющимся, что это — медленный и постепенный процесс, когда успех и процветание одного кооператива будут служить примером и стимулом для организации другого. Троцкисты, впрочем, уже в 20-х годах требовали усилить нажим на богатых крестьян, были недовольны благоприятной для зажиточных крестьян Новой Экономической Политикой. Их называли тогда экстремистами. Но даже они в своих самых необузданных фантазиях не заходили так далеко, чтобы требовать физической ликвидации пяти миллионов «кулаков» и «социализации» сельского хозяйства ценой полного паралича сельскохозяйственной продукции. Еще до Первой мировой войны существовал немецкий социал-демократический тезис «Бауэрннот ист Арбайтертод», т.е. «Крестьянская нужда — смерть для рабочих». И тезис этот, конечно, был знаком троцкистам. Поэтому, хотя их главная задача была улучшить условия жизни рабочего класса, и они готовы были проводить индустриализацию в известной мере за счет крестьянства, они, по крайней мере, предвидели и предсказывали, как отразится на обоих классах, то есть на крестьянах и на рабочих, та дань, которой обложил колхозное крестьянство Сталин. Это ужаснуло их, так же как и Бухарина, в котором крестьяне видели своего друга.
Была и другая сторона жизни в Советском Союзе, которая уже давно тяготила таких людей, как Пятаков. Это было все растущее неравенство.
В первые годы советской власти сохранялась еще аскетическая традиция старых революционеров. Одним из проявлений ее был так называемый «партмаксимум» — потолок зарплаты членов партии. Сначала этот потолок был действительно очень низким. Партработники получали почти столько же, сколько рабочие, хотя уже в то время на ответственных постах партийцы имели известные привилегии. Тон задавал сам Ленин, отказавшийся, как известно, от лишней копейки и от лишнего куска хлеба. Потом потолок несколько повысили. Выделялось больше денег на побочные расходы, связанные с работой. Разрешили получать особое вознаграждение за журналистскую работу. Некоторые скатывались к буржуазному образу жизни, но на это смотрели как на признак «перерождения». Ударом по этой традиции было введение НЭП'а. Все-таки до смерти Ленина традицию эту старались соблюдать хотя бы формально. В то время партиец уже мог зарабатывать до 120 рублей в месяц, пользуясь при этом специальными закрытыми распределителями и ресторанами для привилегированных. Но он все же не был совершенно отрезан от рядовых членов партии и от масс. Радикальная перемена произошла только при Сталине, когда его сторонники стали получать щедрые материальные вознаграждения по его указаниям. Накануне решительной схватки с оппозицией руководство партии совершенно отказалось от всякой борьбы с привилегиями.
Последний шаг в этом направлении был идеологического порядка. Прежние идеалы равенства были объявлены «буржуазными» и к 1932 году в обществе появились совершенно новые критерии. Так, например, у человека было больше шансов получить хорошую работу, если он, несмотря на общий недостаток, был хорошо одет, не был изможден от голода, пытался дать приличное образование своим детям. Предполагалось,
что если человек сумел хорошо позаботиться о себе, то он лучше обеспечит и своих подчиненных, будет лучшим хозяйственником. С другой стороны, стали с глубоким недоверием подходить к таким качествам, как скромность в быту, аскетизм, сочувствие судьбе других и желание разделить эту судьбу. Это было одной из причин роспуска Общества старых большевиков, многие члены которого обладали именно подобными качествами.
В 1932 году вспыхнули забастовки на текстильных фабриках в Иваново-Вознесенске. Забастовки были вызваны голодом и низкой заработной платой. Расправами — еще более жестокими, чем обычно, — с участниками забастовок руководил Каганович, причем репрессиям подвергли не только бастовавших рабочих, но и довольно высокопоставленных руководителей местных парторганизаций. О причинах этого я узнал непосредственно от одного из таких репрессированных местных партийных деятелей. Некоторые партийные руководители, не довольствуясь попытками сигнализировать в Москву о создавшемся материальном положении рабочих делили с последними их участь. Так, они сами и их жены бойкотировали свои особые распределители, одевались как рабочие и вместе с рабочими стояли в очередях за продуктами. Именно за это их больше всего и наказали. Как разъяснял Каганович, закрытые распределители являлись частью партийной политики — их бойкотирование было равносильно выступлению против генеральной линии партии. А попытки подделываться под рабочих, по мнению Кагановича, были опасным антипартийным уклоном. Как руководители, так и руководимые должны были соблюдать установленные порядки, не смели переступать барьер неравенства.
И большинство действительно его не переступали. Материальная нищета вела к моральной деградации. Рабочих в промышленности стало больше, но не было у них уже той силы духа и воли, какие были у по-
коления рабочих, совершивших Октябрьскую революцию. И только немногие партийцы-руководители избежали разлагающего влияния власти и материального благополучия в море нищеты и голода.
Неравенство и было одним из тех вопросов, которые поднимали Троцкий и его сторонники. Но большинство партийных руководителей, которое вело себя «примерно», настолько разложилось, что поднимать этот вопрос было бесполезно (хотя многие из них считали свою совесть чистой).
В то время в людях этих партийных кругов появилось что-то дикое. На пресловутых вечеринках, где водка лилась рекой, очень популярной была песенка, вроде цыганской:
Мы все пропьем — баян оставим
И всяких сук плясать заставим.
Этот «баян», видимо, и был остатком их внутренней свободы и честности, их тайной идейной «сердцевиной». Это было компенсацией за хвалебные гимны Сталину, за отказ от идеалов Октября, которые, как многие из них сознавали, они сами же помогали « всяким сукам хоронить». На таких вечеринках будто и не замечали, что каждый десятый был осведомителем, обязанным немедленно донести о таких разговорах.
Пятаков оставался верным своим принципам, но, как и многие другие, стал пить. Именно потому что он был прямым, упорным, проницательным человеком, он не сумел перейти определенную черту своей совести. Пятаков знал, что будущего у него нет. Рассказывали, что в течение последнего года работы в Наркомтяжпроме он часто являлся на работу пьяным, напивался до белой горячки и жаждал смерти. Все это на его суде обошли молчанием.
«Суки» все же обладали кое-какими остатками пристойности. Человека могли обвинить в самых фантастических преступлениях, совершить которые он никак не мог, могли расстрелять из-за него родственников, только за то, что они родственники, но его
личные слабости и пороки (хотя ими широко пользовались следователи для получения нужных им показаний) не предавались гласности. Следователи не только знали фактическую сторону жизни обвиняемых — один бывший сотрудник органов безопасности рассказывал мне, что из этих фактов они старались вывести правильную формулу характера того или иного подследственного. Насколько фантастическими бывали предъявляемые обвинения, настолько точным и соответствующим действительности был параграф, содержавший описание личных качеств заключенного, его наклонностей и слабостей.
Незадолго до окончания второй пятилетки Пятакову дали орден Ленина, вынесли горячую благодарность от имени ЦК партии и... арестовали. У него имелся некоторый юридический опыт. В 1922 году он был членом трибунала, судившего эс-эров. Подсудимых тогда приговорили к десяти годам, но выпустили на свободу через два года. С Пятаковым же поступили совершенно иначе.
На суде Пятаков признавался во всем подряд. Следователи, безусловно, его ни в чем не убедили. Но он слишком много знал и понимал, как делаются такие дела. На суде звучала только одна диссонирующая нота. Некоторые из небылиц, которые он рассказывал на суде, слишком легко оказалось проверить и опровергнуть. Так оно и случилось позже, когда его показания были опубликованы и проверены во Франции. Там он якобы встречался с «участниками заговора», в несуществующих местах или в такое время, когда было известно, что они находятся в совершенно другом месте. Может быть, он позволил себе такую шутку напоследок. Это на него было похоже. А может, пошел на все из страха перед пытками, но он все же оставил после себя небольшой постскриптум, который и расшифровали историки.
Человеком совершенно другого склада был Иван Смирнов, руководитель одной из троцкистских групп. По происхождению рабочий, он был в большевистском подполье, во время Гражданской войны командовал партизанским отрядом. Он занимал довольно высокий пост в Наркомате связи, но не порывал тесной связи с рабочими. Во время безработицы он лишился работы, но не стал прибегать к помощи высокопоставленных друзей, а натянул кепку и встал в очередь вместе с другими безработными на бирже труда.
Глубоко подавленный все растущей властью бюрократии и считая, что партия и правительство все дальше и дальше отходят от коммунизма в том смысле слова, как он сам понимал его, Смирнов примкнул к троцкистской оппозиции с момента ее возникновения. Он участвовал в организации оппозиции, подписывал все ее декларации, голосовал за нее и уже с 1923 года с ним постоянно случались всякие неприятности. Позднее он был связным между различными разобщенными троцкистскими группами и продолжал участвовать в троцкистском движении даже и после высылки Троцкого. В конце концов, хотя и позже других, и он покаялся. Его просьба о прощении, обращенная к Сталину, не спасла его от ареста. Он тоже «признался» на процессе, хотя и с известными существенными оговорками.
Он признал свои троцкистские настроения и заявил, что для людей, разделяющих подобные убеждения, естественно было бы перейти к антисоветской «контрреволюционной» деятельности. Но он отрицал существование «центра» и «заговора» и не отступался от своих слов, несмотря на давление Вышинского. По-видимому, ему удалось кое-что скрыть от следователей. Или же следователи были настолько заинтересованы в том, чтобы он фигурировал на показательном процессе, что ему удалось добиться компромисса. Гибель Смирно-
ва была тяжелой утратой для троцкистского движения, но его «капитуляция» принесла им меньше вреда, чем капитуляция многих других.
Были и такие, однако, которые не капитулировали до конца.
Сына Троцкого, Сергея, я встретил в 1937 году. Оба мы ожидали допроса в одной из камер предварительного заключения на Лубянке. Камера эта — маленькая клетушка, которую заключенные называли «конурой». Обычно в такую «конуру» помещали только одного заключенного, но, поскольку Лубянка была переполнена, то нас поместили вдвоем. Так что нам пришлось провести вместе несколько часов однажды ночью в феврале 1937 года.
Это была памятная для меня встреча. Сергея только что привезли в Москву из лагеря в Воркуте. Дело его было назначено на переследствие, и он весьма мрачно смотрел на свое будущее. Мои перспективы были не многим лучше. И действительно, вскоре после этого я был приговорен к смерти. Но Сергей почему-то был убежден, что мне удастся выжить. И он просил меня передать несколько слов его родителям, если мне приведется с ними встретиться.
Ему было тогда около 28 лет. Небольшого роста, худощавый, круглолицый, с усами. В отличие от своего брата, Сергей никогда не проявлял ни малейшего интереса к политике и отказался даже вступить в комсомол. Он был страстным книгочеем, а его другим пристрастием был цирк. Ребенком он даже однажды убежал из дому и пристал к бродячему цирку.
Родители, конечно, не одобряли его поведения и объясняли ему, что оно может повредить отцу. Однако он оставался неисправимым. Когда его отец оказался в оппозиции, Сергей усмотрел в этом подтверждение своим аполитичным взглядам. Учился он хорошо, но долго не мог решить, какую выбрать специальность. В конце концов он окончил архитектурный институт.
Когда Троцкий в 1929 году был выслан заграницу,
Сталин в одну из своих редких минут великодушия разрешил Троцкому взять с собой семью и свои архивы. Сергей узнал об этом в провинциальном городе, где он тогда работал. Родители настойчиво уговаривали его уехать с ними. Троцкий отчетливо предвидел судьбу связанных с ним людей, оставшихся в СССР.
— Представьте себе самое ужасное и помножьте его на десять, — сказал он друзьям, провожавшим его в Одесском порту.
Сергей же в это время был влюблен и не захотел оставить свою подругу. Он отказался уехать.
Некоторое время все шло как будто благополучно и страхи отца казались преувеличенными. Ему не только удалось избежать репрессий начала 30-х годов, но друзья сумели даже устроить его на работу. И лишь в 1935 году, после убийства Кирова, его вызвали и потребовали публичного отречения от отца. Ему внушали, что от него требуют только правды: т. е. чтобы он сказал, что никогда не разделял взглядов отца и не пожелал уехать с ним заграницу. К этому следовало лишь добавить, что он считает своих родителей «врагами народа». Сергей отказался подписать это на том основании, что не имеет никакого отношения к политике, и заявил, что хотя его аполитичность была причиной расхождений с отцом, он ни в коем случае не хочет принимать участия в публичной травле отца. Его уволили с работы, а еще через несколько месяцев арестовали.
Немедленно по прибытии в Москву осенью 1936 года он объявил в тюрьме голодовку. Следствие по его делу было закончено в течение десяти дней. Его приговорили к пяти годам лагерей. В декабре того же года он прибыл в Воркуту и там впервые столкнулся лицом к лицу с убежденными последователями его отца. Он проникся глубоким уважением к этим людям.
Хотя огромное большинство троцкистов к этому времени капитулировало, все еще оставалось, главным образом, конечно, в тюрьмах и лагерях, ядро убежден-
ных и бескомпромиссных. Арестованные троцкисты и их семьи были собраны большей частью в трех крупных лагерных системах: на Колыме, в Воркуте и в районе Норильска. О троцкистах Воркуты я впервые узнал от самого Сергея.
Меня не удивило, что бывшие участники оппозиции произвели на него такое сильное впечатление. Я сам столкнулся в заключении с некоторыми из них. В основном это были интеллигенты, которым взгляды Троцкого, менее ограниченные и сухие, чем ленинские, импонировали с самого начала. Большинство из них были в прошлом профессиональными революционерами, участниками Гражданской войны, примкнувшими в начале 20-х годов к оппозиции. Среди троцкистов представители национальных меньшинств занимали больший удельный вес, чем в других оппозиционных группах. Все они были убежденными интернационалистами, и идея местного советского национализма была им глубоко чуждой. Если бы в то время существовал термин «безродные космополиты», то его определенно применили бы к троцкистам.
Они были пуристами, больше всего на свете боявшимися осквернить свою доктрину. Это являлось главным препятствием к их объединению с другими группами. Даже в лагере они держались обособленно. Это они унаследовали от самого Троцкого. Ленин бывал жестким или податливым, в зависимости от обстоятельств. Троцкий же даже в ссылке, когда перед ним захлопывались чуть ли не все двери, находил все же время и тратил свой блестящий талант полемиста на яростные теоретические споры с западными социалистическими лидерами. Когда я обвинил троцкистов в сектантстве, они ответили, что единственное и главное для них — « сохранить в чистоте знамя ».
Их фанатизм отталкивал большинство заключенных. Но даже и тех, кто им сочувствовал, они не всегда принимали в свою среду. С другой стороны, их мрачное мужество служило противоядием от угроз и искушений.
Запомнился мне бывший руководитель комсомола Армении. Его сначала приговорили к трем годам и срок его истекал в 1937 году. Каждый заключенный носил с собой удостоверение личности, на котором стояла и дата его освобождения. И вот однажды, к нашему изумлению и ужасу, этот человек, спокойно улыбаясь, переправил свой срок в удостоверении с 1937 на 1987. Нам он объяснил, что, конечно же, не надеется дожить до 1987 года. Но поскольку он останется троцкистом всю жизнь, то, естественно, ему суждено оставаться всю жизнь в тюрьме. Сталин был по-своему прав, не выпуская из заключения троцкистов. Что же до них самих, то они были преисполнены решимости страдать и умереть за правду.
Когда я говорил этим людям, что, как политики, они сами себя «исключают из истории», они отвечали, что то же самое слышат от всех «оппортунистов». Сергею условия в лагере показались ужасающими. Но в честь отца ему был оказан такой теплый прием, что он приободрился. С другой стороны, и его присутствие придало новые силы заключенным оппозиционерам. Сергея по-прежнему мало интересовали их политические и экономические взгляды, но огромное впечатление на него произвели их духовная независимость, преданность и верность взглядам отца. Сергей с полным правом сказал потом, что недели, проведенные им в Воркуте среди последователей и идейных друзей отца, были самыми счастливыми в его жизни. Сергею очень хотелось сообщить родителям об их друзьях, а также и о своих изменившихся взглядах. А особенно ему хотелось попросить прощения у матери за то беспокойство и горе, которые он ей причинил. Еще Сергей просил передать, что он с достоинством встретит смерть. Через несколько недель Сергея расстреляли.
Когда меня освободили, мать Сергея была еще жива. Я написал ей письмо. К сожалению, встретиться нам не удалось: я приехал в Париж в 1962 году, но она уже умерла.
Еще я слышал о Сергее от одного из его друзей (их дела вел тот же следователь). Когда этот друг спросил у следователя о Сергее, тот ответил: «Если отец пошлет за него вагон золота, мы, может быть, его отпустим». Но это была просто жестокая шутка. Никаких подобных предложений Троцкому никто никогда не делал. А судьба Сергея все равно была предрешена.
Много лет прошло, прежде чем мир узнал о последних днях и героической гибели этих людей в лесах Севера. Основные факты были опубликованы в Нью-Йорке в «Социалистическом Вестнике» (в номере 10/11 за 1961 год). Добавлю к этому только детали, какие мне удалось узнать из разговоров с Сергеем и с несколькими заключенными, которых я встретил гораздо позже, физическое уничтожение оппозиционеров-троцкистов было запланировано и тщательно подготовлено в Москве. Это подтверждается тем, что произошло оно одновременно в трех лагерных системах, где содержались бывшие оппозиционеры. Но больше всего мне известно о том, что произошло именно в Воркуте. Здесь осенью 1936 года бывшие участники оппозиции обратились к лагерной администрации с требованием улучшить условия в лагере: в частности, отделить их от уголовников и разрешить жить с семьями. При этом они замечали, что условия в лагерях были более бесчеловечными, чем в любой из капиталистических стран. Лагерная администрация отказалась выполнить эти требования, угрожая дальнейшими репрессиями. Тогда в октябре 1936 года заключенные оппозиционеры, вместе с женами и детьми, объявили коллективную голодовку. С приходом зимы и в условиях, намеренно рассчитанных на то, чтобы сломить их сопротивление, голодовка требовала поистине сверхчеловеческой силы духа. К ним присоединилось несколько сочувствующих. Большинство же заключенных, подкупленных лишней пайкой хлеба, или под угрозой разделить судьбу оппозиционеров,
или «из убеждений» (я встречал и таких) поддержало администрацию. И это было, пожалуй, страшнее всего. Лагерная администрация начала по местному радио передавать выступления бывших политических деятелей, а ныне — политических заключенных, речи, которые, как это ни странно, повторяются сталинистами и по сей день. Сталин был якобы предначертан самой судьбой. Победа его — историческая необходимость. Подчинение Сталину — священный долг по отношению к Ленину. С «объективной точки зрения», все выступающие против Сталина, хотят они ,того или нет, — «вражеские агенты».
Троцкисты мрачно шутили: «Вы что такой расстроенный?» — спрашивал один, — «А Гестапо забыло послать причитающиеся мне за этот месяц деньги».
Голодовку держали три месяца. Даже дети не хотели сдаваться, хотя мужчины умоляли матерей заставить их есть: вид истощенных голодом детей был невыносим.
Большинство все же выжило. К некоторым применялось насильственное кормление. Обычно человек может без воды и пищи прожить до десяти дней. Если давать ему пить, то голодать можно несколько недель, а при насильственном кормлении человек может прожить до пяти-шести месяцев, хотя здоровье его будет совершенно подорвано в результате такой голодовки. Лагерные врачи утверждали, что ни один из голодавших не умер в больнице. На самом же деле безнадежных выписывали из больницы, и они умирали через несколько дней в зоне.
Через три месяца администрация неожиданно согласилась удовлетворить все требования голодавших. Большинством голосов решено было прекратить голодовку. А еще через две недели начальство лишило голодавших всего, чего им удалось добиться. Некоторые пытались возобновить голодовку, но было поздно. Администрация объясняла свою тактику тем, что успешная голодовка подорвала бы дисциплину в лагере.
Конец наступил летом 1937 года. В лагерь из Москвы
прибыла «тройка». Троцкистов направили на специальные работы и разместили на кирпичном заводе. Некоторых повторно подвергли жестоким допросам.
Однажды, — это было осенью 1937 года, — здание кирпичного завода неожиданно оцепили специальные отряды вохры. Заключенным выдали двухдневный паек и объявили, что их переводят в другой лагерь. Заключенным это показалось очень подозрительным, потому что Воркута в это время года фактически отрезана от остального мира.
В течение какого-то времени в Воркутинском лагере знали только, что заключенных-оппозиционеров, одетых в немыслимые лохмотья, с двухдневным запасом продовольствия, охрана увела ночью в лес, а еще через два дня охранники вернулись, но без заключенных, приведя обратно двух-трех человек, взятых по ошибке. Вот от этих-то людей и узнали о происшедшем.
После однодневного перехода этап подошел к построенным в лесу времянкам, где и заперли людей. Затем их стали вызывать группами по спискам и расстреливать тут же, в лесу, пулеметными очередями. Некоторые сопротивлялись, выкрикивали лозунги, боролись до конца. Вохровцы, как обычно в таких случаях, были пьяны.
Когда со всеми было покончено, тела расстрелянных в их лохмотьях облили керосином и подожгли. Долго полыхал этот костер в глухом Воркутинском лесу.
В списках расстрелянных, переданных затем лагерной администрации, значились фамилии и говорилось, что они были расстреляны как «бандиты», «диверсанты» и «контрреволюционеры». И действительно, вместе с оппозиционерами расстреляли нескольких бандитов, а также несколько человек, давно порвавших с оппозицией.
Это был первый массовый расстрел в таких масштабах. К концу 1937 года, в результате массового уничтожения в лагерях на Колыме и в Воркуте, в живых не осталось никого из оппозиционеров-троцкистов,
кроме нескольких, оставленных для каких-то целей. Подобные массовые расстрелы политзаключенных возобновились во время и после войны. Следы тщательно заметались: Сталин хотел не только по-своему повернуть историю, но и написать ее по-своему. Так, в 1938 году втихомолку были ликвидированы и члены тех «Троек», которые выносили приговоры, а за ними и те стрелки-вохровцы, которые приводили их в исполнение. Избежать расстрела удалось только тем, кто к этому времени уволился с работы. А в 1939 году пришла очередь и самого Ежова, руководившего уничтожением людей в масштабе всей страны. Было лишь объявлено о его переводе на другой пост, но исчез он бесследно.
ГЛАВА 5 Бухарин и его школа
ГЛАВА 5
БУХАРИН И ЕГО ШКОЛА
После расправы с «левым» крылом партии Сталин намеревался вплотную заняться «правыми». И правые, и сам Бухарин уже ясно сознавали, что расправа с «кулаками», начавшаяся в 1929 году, приведет к глубокому кризису в советском обществе. Отдавали они себе отчет и в опасности, грозившей непосредственно им самим. Бухаринцы пытались, впрочем, приспособиться как-то к требованиям сталинизма. Несмотря на это, многие из них потом признавались мне, что понимали свою полную обреченность еще задолго до фактического ареста. Разумеется, они могли бы попытаться как-то обуздать Сталина, апеллируя непосредственно к широким народным массам или обратившись за помощью к загранице. По ряду причин, однако, ни того, ни другого сделать было невозможно.
Уже в 1932 году Бухарин сказал своим ближайшим друзьям, что выхода он не видит. План его, выдвинутый в 1928 году (постепенная коллективизация и т.д.) оказался уже в 1932 году совершенно нереальным. Крестьянство было настолько враждебно настроено к советской власти (в результате насильственной коллективизации), что всякий компромисс или ослабление контроля в такой ситуации стали бы, с точки зрения властей, весьма опасными. В то же время расширялись дипломатические контакты за рубежом. Причем, признание Советского Союза сильно укрепило положение Сталина, тогда как подобное признание в 20-х годах могло бы повести, наоборот, к смягчению режима. Тот факт, что СССР и компартия Германии не оказали сопротивления Гитлеру в 1932 году, не был просчетом: это была попытка Сталина выиграть время, и она увенчалась успехом. Политические противники Сталина считали, что обращение за помощью к загранице значило бы подрыв социализма и укрепление нацизма. Те в Москве, в чьих руках была власть, не представляли интересов ни рабочих, ни крестьян: они представляли только свои собственные интересы, одинаково презирая и тех и других. Они добивались укрепления мощи Советского Союза, прекрасно сознавая, что СССР в то время был слабым и уязвимым. Но они также понимали, что враждебность внешнего мира им на руку. В этой обстановке Бухарин и его сторонники пришли к выводу, что в СССР остались только тираны и их жертвы. У них, таким образом, не было выхода.
Я знал Бухарина с 1925 года. В Коминтерне он был вторым после Зиновьева, который в качестве председателя ведал всеми организационными делами. Бухарин не обладал такими организаторскими и административными способностями, как Троцкий или Сталин. В то же время он, после смерти Ленина, был наиболее выдающимся партийным идеологом-теоретиком и в качестве такового был весьма полезен Сталину, гению политических манипуляций, но слабому теоретику.
Если отнести Ленина к первому поколению большевиков-революционеров, Троцкого — ко второму, то Бухарин представлял уже третье поколение: когда я впервые встретил Бухарина, ему было немногим больше тридцати лет. Из всех членов Политбюро Бухарин чаще других спорил и не соглашался с Лениным. И вместе с тем, они как бы дополняли друг друга, а их разногласия оживляли большевистское движение, придавали ему интеллектуальное направление. Бухарин считал себя учеником Ленина, подражал ему в манерах, в резкости и решительности, в драматичной простоте выражений. Ленин первый ввел моду выражать наиболее сложные и запутанные политические концепции в кратчайших и простейших формулировках. Однако концепции Бухарина были несколько менее четкими, чем ленинские, он меньше отдавал себе отчет в политических последствиях: его больше занимала блистательность стиля.
В период репрессий Бухарина называли «догматиком». Это подтверждают в известной мере и его произведения. Но в жизни, в разговоре он был отзывчив, гибок, восприимчив. Он так увлекался рассуждениями, что создавалось впечатление, будто он старается лучше уяснить вопрос и самому себе. Он стремился вовлечь в дискуссии и своих подчиненных, оставаясь деликатным в случаях, когда принимались противоречившие их мнениям решения.
Бухарин окружал себя молодежью, студентами. Они его любили, он направлял их идеи (чем одно время пользовался Сталин, у которого, как известно, не было обаяния Бухарина).
Мне пришлось столкнуться с Бухариным, как я сказал, в 1925 году. Разговор шел о некоторых аспектах колониального вопроса. С тех пор советские взгляды в этом вопросе мало изменились. Тогда, как и теперь, центральным считался аграрный вопрос. Ленин не верил, что крестьянство способно понять и оценить значение интернационализма. Поэтому, в качестве
оружия против империализма, следовало опираться на национальные чувства населения колоний. В дальнейшем предполагалось отойти от национализма, но только на следующем этапе, с развитием пролетариата колоний. В то же, примерно, время возникла и так называемая «анти-империалистическая лига», причем Бухарин играл активную роль в ее организации. Бухарин стоял на более широких, чем Сталин, позициях, был более терпим, меньше занят укреплением рядов ВКП(б), более открыто делился своими мыслями, меньше требовал, чтобы с ним во всем соглашались. А в международном масштабе не настаивал на просоветской политике в качестве условия для сотрудничества.
Для Бухарина, как и для Ленина, пора «стабильности» в капиталистическом мире означала в то же время и «передышку» для наведения порядка дома. Если Зиновьев считал, что нужно «прикладывать ухо к земле», чтобы узнать настроения в партии и среди рабочих, то Бухарин полагал, что массам в целом следует дать время для уяснения марксистской доктрины. Ведь широкие массы в то время составляли в подавляющем большинстве либо крестьяне, либо недавние выходцы из деревни, тогда как промышленный пролетариат был немногочисленным и еще не порвал своих связей с деревней.
Бухарин поэтому настаивал на продолжительном периоде мира как с Западом, так и с крестьянством внутри страны. Его лозунг был: «Обогащайтесь!». Коллективизация, по Бухарину, должна была проходить добровольно, постепенно и по образцу богатых кооперативов. Первым коллективным хозяйствам надлежало быть крупными и широко механизированными. Потом, когда сами крестьяне убедились бы в пользе трактора, они бы добровольно вступали в коллективы при совместном использовании сельскохозяйственной техники. Одновременно, по Бухарину же, следовало осуществлять индустриализацию, с помощью и при
участии Запада — на основе иностранных займов и предоставления концессий. Следовало сделать все возможное для укрепления союза рабочего класса и крестьянства. А все это означало продолжение НЭПа. Никто не знает, как долго продолжался бы НЭП при Ленине, но ясно, что Бухарин был готов сохранить НЭП надолго.
Таковы были взгляды молодой «правой» интеллигенции, направляемой Бухариным. Некоторые их взгляды, впрочем, совпадали с требованиями «левых»: улучшение условий жизни рабочих, внутрипартийная демократизация, либерализация в области искусства и науки.
Москва 1925 года была все еще Москвой периода НЭПа. В магазинах хватало всего и цены были умеренными. Имелось, конечно, и такое, что иностранцу трудно было заметить, но никаких сомнений в общем росте экономики не могло быть. Поэтому даже мыслящие люди полагали, что противников советской власти оставалось немного — всего каких-нибудь десять-пятнадцать тысяч человек. В общем же и целом, казалось, советская власть пользуется поддержкой масс. Позднее я часто спрашивал себя, не были ли мои впечатления ошибкой, заблуждением. Но уже в тридцатых годах в тюрьме мне часто приходилось обсуждать этот вопрос с разными людьми, принадлежавшими к разным партиям, разным социальным группам, и большинство из них было убеждено, что в случае плебисцита в СССР в 1925 году большинство поддержало бы правительство.
В 1925 году программа Бухарина вовсе не считалась ни «правой», ни «уклонистской». По существу эта программа совпадала с генеральной линией партии. Если бы линию эту продолжили, если бы сохранили НЭП, поддержанный зарубежными займами, с его благосостоянием для деревни и изобилием продовольствия в городах, то хотя, вероятно, понадобилось бы больше времени на индустриализацию определенных
секторов народного хозяйства, все же условия жизни рабочего класса и крестьянства быстро улучшились бы. Появилась бы основа для обеспечения гражданских прав. Не было бы необходимости подавлять интеллектуальную свободу, грубо вмешиваться в литературу, искусство, науку. Я до сих пор не вполне разобрался, являлись ли зажиточные крестьяне, кулаки действительно какой-то угрозой или же просто пугалом. При более искушенной системе эта проблема, вероятно, могла бы быть разрешена, например, дополнительными налогами. Как бы то ни было, невозможно найти оправдание тому взрыву новой гражданской войны, тому террору, которые, как известно, стали неизбежны и сопровождали насильственную коллективизацию сельского хозяйства.
Но если «правых» и «левых» удовлетворяло мирное развитие социалистической демократии, существовала третья фракция, пути которой были иными. Именно эта фракция — Сталин и его окружение — только выигрывали от насилия, от обострения конфликтов. Они выступали за установление мира, хотя и не дружбы, с заграницей, разжигая в то же время подспудную жестокую войну внутри страны. По линии экономики эта группа настаивала на скорейшем развитии тяжелой промышленности.
Бухаринцы, как я уже отметил, всеми силами избегали поводов к преследованиям со стороны НКВД, но не сомневались, что расправы им не избежать. Любопытно, что намек о готовящейся расправе с деятелями бывшей правой оппозиции я уловил примерно за год до бухаринского показательного процесса. Это было во время третьего следствия по моему «делу», кончившегося моим первым смертным приговором. Меня допрашивали о различных беседах, свидетелем которых я мог оказаться. Один из таких вопросов касался Ягоды, в то время только что переведенного на работу в Наркомат связи, прежде возглавлявшийся Рыковым. Хотя такое перемещение не предвещало ничего хоро-
шего, все же формально Ягода в то время был наркомом связи. Поэтому особое значение приобретал вопрос, с которым следователь обратился ко мне: могу ли я подтвердить слова, якобы сказанные Бухариным — «он один из наших». Я взглянул на портрет Ягоды, все еще висевший над столом следователя и наивно спросил, что все это значит. Следователь рассмеялся:
— Если уж мы задаем такой вопрос, то мы знаем, что делаем!
Ясно, что уже тогда начинали втягивать в предстоящий процесс и Ягоду. Поэтому я предположил, что поскольку против «правых» не имелось никаких улик, НКВД занималось сочинением всяких деталей и обстоятельств несуществующего заговора.
Дело самого Бухарина было состряпано очень грубо. К тому времени специалисты НКВД научились сочинять все, что угодно, но в данном случае было ясно, что никаких конкретных данных для обвинений не существует. Однако при всей своей осторожности в действиях правые на протяжении многих лет позволяли себе говорить вполне свободно и открыто. А при наличии совершенной системы доносов все сразу же становилось известным «органам». С 1932 года, когда, по заявлениям Сталина, коллективизация увенчалась блестящим успехом, а по мнению почти всех остальных, — кончилась колоссальным провалом, «правые» не скрывали в частных, беседах своего мнения по этому вопросу. Об этих-то разговорах (разумеется, безрезультатно) меня и допрашивал следователь. «Органам» понадобился целый год, чтобы собрать достаточно «материала» для бухаринского процесса.
О ликвидации лидеров бывшей правой оппозиции ходили самые разные слухи. Я расскажу только то, что слышал об обстоятельствах гибели Томского. Томский был тесно связан с рабочим классом и считал, что профсоюзы должны пользоваться независимостью, Это стало очевидным в связи с созданием англо-советского комитета в 1926 году. Я знал об этом по
работе в Исполкоме Коминтерна. Комитет этот вызвал большой энтузиазм за рубежом, где полагали, что он послужит началом сближения с советскими рабочими. В Москве побывал Пэрселл; собирали средства для поддержки всеобщей забастовки в Англии. Все это пользовалось официальной поддержкой, но в Коминтерне многие смотрели на это скептически. Что касается меня, то я надеялся, что это явится началом сотрудничества с профсоюзами Запада, а в дальнейшем — и с широкими массами западной социал-демократии. Я убеждал в этом Мануильского, терпеливо, слушавшего меня. А когда я замолчал, то сам понял, насколько это наивно. Мануильский сказал, что машинная деталь (он имел в виду англо-советский комитет) пригодна в том случае, если она сделана из металла, а не из г... Естественно, я не стал спорить: мне по долгу службы полагалось понимать то, что подразумевалось. И я понял. Уже заведомо существовало убеждение, что взаимопонимание с британскими трэд-юнионами невозможно. А через несколько лет окончательно сложился курс под лозунгом «класс против класса», означавший на деле, что единственными представителями рабочего класса являются коммунисты и что взаимопонимания между рабочими и работодателями быть не может. В результате были распущены все комитеты сотрудничества между коммунистами и социал-демократами. Если бы не тот разговор с Мануильским, то последовавшие вскоре нападки на Британский конгресс трэд-юнионов застигли бы меня врасплох. На БКТ взвалили вину и за провал забастовки, и за неудачу англо-советского сближения. В действительности же Коминтерн просто недооценивал британские трэд-юнионы, и поэтому всеобщая забастовка явилась для него полной неожиданностью. Когда она началась, Коминтерн попытался возглавить ее и распространить в международном масштабе. Тогда-то и был выброшен лозунг «Единство рабочего класса во главе с комитетом единства» (т. е. комитетом советских и английских
профсоюзных руководителей). Именно тогда и произошел мой разговор с Мануильским. Позднее мне не паз приходилось быть свидетелем такого двойственного толкования. Каким бы ни был внешний энтузиазм коминтерновских руководителей, их внутренняя оценка положения была исключительно трезвой, не смягченной никакими эмоциональными факторами, исключительно целенаправленной и подчиненной интересам компартии СССР.
Томский был одним из членов руководства англо-советского комитета и, по-видимому, относился к этому комитету с полной серьезностью. Томский установил прямые контакты с английской стороной и как будто полагал, что имеются реальные перспективы международного профсоюзного сотрудничества. Представляя действительные интересы рабочих, Томский относился вполне положительно к подобной идее. Однако вскоре после этого Томского вывели из состава Политбюро и вообще отстранили от активного участия в политической жизни. Когда его имя упомянули на процессе Зиновьева в 1936 году, Томский понял, что для него все кончено. Вскоре после процесса газеты кратко сообщили о его самоубийстве. Позднее один из сотрудников Томского по работе в профсоюзах рассказал мне о разговоре с ним непосредственно после отстранения Томского. После долгой дискуссии о том, чем плох СССР 30-х годов. Томский сказал: «Вот, товарищи, мы-то думали, что строим чугунку, а получилась чернильница». Под этим он подразумевал, что ничего не удалось изменить, что целое поколение отдало свою жизнь за построение справедливого общества («железной дороги»), а получилось сплошное пустословие «чернильной» бюрократии. Я встретил рассказавшего мне это в 1937 году, когда слова Томского были еще свежи в его памяти. Потом мне неоднократно случалось слышать их от других, не знавших, разумеется, их источника.
Если Томский был обречен, то, естественно, не
было никаких шансов выжить и у Бухарина. Сталин издавна не любил его за «интеллигентность», за то что Бухарин часто передразнивал грузинский акцент Сталина, смеялся над его невежеством во всем, что касалось Запада, над его низким культурным уровнем. Все это не мешало, впрочем, Сталину использовать Бухарина для составления проекта «сталинской конституции», чем Бухарин воспользовался для практического приложения коммунистической теории на основе, как он полагал, диктатуры пролетариата и ленинизма. Что же касается Сталина, то тот прекрасно понимал, что может себе позволить теоретически ввести тайное го-лосование, великолепно представляя себе положение в стране. С другой стороны, я вполне допускаю, что сам Бухарин не был ни «либералом», ни циником. И я сомневаюсь, мог ли Бухарин себе представить, что именно эту конституцию используют против него на процессе по его делу несколько месяцев спустя.
Бухарина устранили из Коминтерна в 1929 году, и в тридцатые годы я виделся с ним только время от времени. В эту пору он уже не пользовался никаким политическим влиянием. И однако имеются данные, свидетельствующие о том, что даже в своей пассивности и молчании он самим фактом своего существования оставался опасным для Сталина. Ведь чем больше исторические события подтверждали правоту Бухарина, тем больше партийцы убеждались в том, что Бухарин верно предсказал положение в сельском хозяйстве, тем важнее было Сталину избавиться от него,
Признаком потенциальных возможностей Бухарина может служить хотя бы факт назначения его главным редактором «Известий». Хотя сам Бухарин стремился до предела сократить личную инициативу, старался держаться как можно более в тени, хотя он и находился под постоянным контролем, тем не менее, уже через несколько месяцев после его назначения уровень газеты резко поднялся, и она стала лучшей и самой
популярной в СССР. Бухарин оказался на редкость талантливым главным редактором. В то время, как «Правда» превращалась все больше и больше в «экономическую газету», содержавшую только цифры и официальные выступления, «Известия» читались все более охотно. Бухарин привлекал к работе в газете лучших советских и зарубежных журналистов. Сам он выступал в газете мало, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Однако благодаря его редакторской работе газетный материал приобретал живость и глубину. Международный отдел в газете возглавлял старый друг Бухарина, сам, как я уже говорил, блестящий журналист — Карл Радек. Вместе они составляли замечательную комбинацию. Однако это только усиливало злобу и недоверие Сталина, ревниво следившего за успехами газеты и видевшего в Бухарине прямую угрозу своему авторитету. Бухарин пытался, правда, несколько раз уйти со своего поста в «Известиях»; он хотел заняться чисто научной работой, поскольку был одним из старейших партийцев-ученых. Но Политбюро не отпускало его, имея, конечно, прямое указание Сталина считать отказ Бухарина от работы в газете актом саботажа. Впрочем, то же говорилось и всем другим бывшим оппозиционерам, если те пытались отказываться от работы, которую они считали для себя с политической точки зрения особо опасной. Ведь члены партии не имели права отказаться от порученной им работы, не могли даже временно прервать ее. Как-то в 1937 году, в Соловках, во время дискуссии на эту тему, один из заключенных заметил, что у члена партии нет даже и того права, которое имеется у любого мелкого лавочника Вены или Парижа: прикрыть свою лавочку и уйти куда глаза глядят. Даже те, кто никогда заграницей не бывал, знали, что по крайней мере такая свобода там есть, невзирая на «капиталистическое рабство». Даже рядового члена партии, пожелавшего взять «шапку в охапку» и уйти с работы могли обвинить
в «саботаже». Ясно, что Бухарин не мог и дня пропустить на той работе, которую поручил ему его смертельный враг — Сталин.
Мне хочется упомянуть в этой связи один эпизод из относительно менее известного периода жизни Бухарина. Было это в короткий период наибольшей «либерализации» с момента смерти Ленина, между 17-м съездом в январе-феврале 1934 года и убийством Кирова в декабре того же года. Сталин пытался создать у народа впечатление, что система меняется к лучшему и что подлинная цель — объединение всех группировок и общественных слоев. Он не замедлил объявить, что коллективизация блестяще завершена. Его имя стали превозносить выше ленинского, поклонение ему достигло таких размеров, что даже ближайшее окружение Сталина такого не предполагало. Одна из сталинских уловок и состояла в том, что он выдвигал на ответственные посты в партии и государстве тех, кто в прошлом публично с ним расходился. Именно в разгар этого периода «либерализации» и был проведен, летом 1934 года, Первый съезд писателей. На этом-то съезде, как я уже упоминал, Горьким был провозглашен лозунг «свобода сочувствующим делу партии». На этом съезде с докладом об иностранной литературе выступил Радек, с докладом о поэзии — Бухарин. Бухарина встретили бурными аплодисментами, доклад его неоднократно прерывали шумные возгласы одобрения. Когда Бухарин кончил говорить, казалось, что овации, устроенные ему делегатами съезда, никогда не смолкнут. Бухарин стоял на трибуне, растерянный, бледный и, казалось, был смертельно испуган. А когда вернулся на свое место в президиуме, сказал тихо нескольким друзьям: «Знаете, что вы сейчас сделали? Подписали мой смертный приговор!». Так оно и было. Овация Бухарину не могла пройти мимо внимания Сталина. И хотя, главным образом, ее устроила сравнительно небольшая группа друзей и поклонников Бухарина, Сталин, тем не менее,
понял, что Бухарин все еще остается идолом широких кругов молодой интеллигенции.
Об этом случае мне рассказал один из принадлежавших к так называемой «школке» Бухарина. Это была группа молодых людей, в большинстве своем слушатели высших партийных школ, тесно связанные с Бухариным, считавшимся все еще ведущим партийным теоретиком. Наиболее известные представители этой группы — братья Слепковы, Стецкий, Марецкий, Эйхенвальд. В группу входили многие чрезвычайно одаренные молодые люди, которые благодаря своей марксистской подготовке и политическим симпатиям были целиком на стороне Бухарина.
Впоследствии мне довелось познакомиться с некоторыми из главных участников этой группы, чья подпись под той или иной статьей была почти равнозначна подписи самого Бухарина. Хочу сказать хотя бы несколько слов об одном из них — Александре Юльевиче Эйхенвальде, которого я встретил впервые в Соловецкой тюрьме в 1938 году. Ему в то время было года 32. Был он одним из ведущих теоретиков в среде партийной молодежи и, вероятно, самым выдающимся учеником Бухарина. Молодые люди типа Эйхенвальда выдвигались Бухариным на так называемый «научный фронт». Александр, по призванию философ, не интересовался практической политикой, хотя в то время, когда Бухарин был редактором «Правды», и в разгаре идеологической борьбы с «левыми», он был его помощником, правой рукой. Позднее он принимал активное участие в дискуссиях в Институте красной профессуры и в различных других парторганизациях. В этих дискуссиях принимали участие и братья Слепковы, Петровский (сын Григория Ивановича Петровского) и другие, считавшиеся ведущими «правыми» теоретиками — сторонниками Бухарина. В 1933 году Эйхенвальд был арестован как член «лево-правой» группировки. Он утверждал, что членом этой группировки никогда не был, но что его включили в список лиц,
которым, как потенциальным ее сторонникам, рассылались письма с призывом поддержать ее. Его приговорили к трем годам, потом заменили пребывание в тюрьме высылкой в село Березово близ устья Иртыша.
В 1936 году Эйхенвальда снова арестовали без предъявления каких либо новых обвинений; в течение всего 1937 года его, вместе с другими из «школки», «готовили» к предстоящему процессу Бухарина. На Лубянке к ним применяли «меры» для получения нужных следствию показаний. По материалам дискуссий в «школке» следствие «доказало», что Бухарин в период своей работы в «Известиях» (и на протяжении всех тридцатых годов), оставаясь внешне вполне лояльным по отношению к Сталину, организовал свою «группу» с враждебными целями. Весьма вероятно, что Бухарин на собраниях группы открыто делился своими взглядами и не отступал от своих прежних позиций. Таковы были показания. Следователи добивались от участников группы Бухарина показаний о его «террористической деятельности», контактах с троцкистами и его «шпионской деятельности». Такие «показания», вероятно, были получены. Свидетельством тому — расстрел некоторых членов группы Бухарина: ведь прежде чем давать показания против Бухарина, они должны были сами «признаться» во всех смертных грехах. Это как раз тот аспект процессов, на который не обращено должного внимания: все показания на процессах исходили, как правило, от людей, «признавшихся» в соучастии и своих собственных «преступлениях». Свидетельства простых «очевидцев» чаще всего во внимание не принимались. Поэтому «свидетелям» и приходилось начинать прежде всего с показаний против самих себя. Многие из свидетелей по делу Бухарина вызывались на очные ставки с ним, причем Бухарин решительно отрицал все обвинения в терроре. Впоследствии все «признавшиеся» в «терроре» были расстреляны.
Эйхенвальд, Петровский (мы были вместе в Солов-
ках), а также Марецкий и, может быть, несколько других отказались «признаться» в террористической деятельности. Когда же к ним стали применять такие меры, как побои и пытки, они пошли на компромисс (НКВД к тому времени уже имело право применять все возможные меры воздействия при допросах). В результате этого компромисса они решили чистосердечно рассказать о взглядах Бухарина, изложенных последним в беседах с ними, но, в то же время, продолжали отрицать все обвинения против Бухарина в терроре и саботаже. В конце следствия, чтобы окончательно сломить Бухарина, ему были устроены очные ставки с этими свидетелями.
Эйхенвальд рассказал мне об этом в конце 1937 года в Соловецкой тюрьме, куда я был переведен незадолго до этого. Старинный Соловецкий монастырь был превращен в тюрьму со специальным режимом для тех, кого, подобно мне, приговорили к расстрелу. Нас держали в камерах, наглухо отделенных не только от внешнего мира, но и одна от другой. В одной камере со мной находилось еще семь или восемь заключенных. Одним из них и был Эйхенвальд. Мы пробыли вместе с декабря 1937 года до мая 1938 года. Остальные сокамерники не интересовались политикой. По общему правилу полагалось держать политзаключенных вместе с уголовниками, а кроме того, подсаживать в каждую камеру по крайней мере по одному «сексоту».
Эйхенвальд был высок ростом, худощав. У него был ясный взгляд на вещи, разностороннее образование. Отец его — известный литературовед Юлий Эйхенвальд, происходивший из еврейской религиозной семьи, впоследствии принял православие. Мать родилась и выросла в русской аристократической семье. Сам Александр был философом, математиком, живо интересовался литературой. Он был исключительно привязан к матери, и поэтому в качестве средства давления ему не передавали ее письма. Он ничего не знал о ней с момента своего ареста. Из рассказов Александра
об отце мне стало понятно, в каком трудном положении оказались после революции некоторые левые интеллигенты. По своим взглядам Юлий Эйхенвальд был значительно левее кадетов. Но и тогда, — еще до прихода к власти правительства Керенского, — когда казалось, что вся Россия торжествует победу бескровной революции, (даже мать Александра заразилась всеобщим энтузиазмом), Юлий Эйхенвальд, как потом рассказывала его жена, заметил вдруг во время демонстрации солдат, восторженно приветствуемых на улицах Петрограда: «И подумать только, что каждый из них нарушил присягу!». То, что солдаты изменили присяге царю, набрасывало тень на его счастье. Когда я услышал об этом 20 лет спустя в тюрьме, я не мог не подумать о том, сколь глубоким был кризис у русской интеллигенции. На меня этот рассказ произвел сильное впечатление, однако в то время я не сумел в нем как следует разобраться. Случай этот глубоко запал и в сознание самого Александра Эйхенвальда. Александр, хотя и стал видным коммунистом, тем не менее, был в первую очередь философом, старавшимся осознать смысл современности.
Александр был в числе тех, кого поставили на очную ставку с Бухариным незадолго до начала процесса. Очная ставка длилась почти пять часов. Следователь спрашивал Александра о разных эпизодах из жизни Бухарина в начале тридцатых годов, когда Бухарин был еще членом ЦК. Александра заставляли повторять показания о его беседах с Бухариным. Из них следовало, что хотя Бухарин прямо и не высказывался но в крестьянских бунтах и в экономическом хаосе он видел доказательство провала сталинской политики коллективизации сельского хозяйства. Бухарин не отрицал общего тона таких разговоров, но пытался помешать следствию сделать из этого опасные выводы. Ему было крайне досадно, что Александр рассказал так много. Александр оправдывал себя тем, что это не было «пинкертонщиной» — он твердо отрицал наличие заговора и
малейшую причастность Бухарина к «террору». Он утверждал, что Бухарин является исключительно идеологом, а не преступником. После некоторых разногласий, связанных с деталями формулировок, Бухарин обычно соглашался подписать протокол (на очной ставке следователь опрашивает по очереди подсудимого и свидетеля, а потом дает им подписать протокол допроса). В конце очной ставки Бухарин окончательно помирился с Эйхенвальдом и попросил у следователя разрешения переговорить с ним наедине. Следователь согласился и вышел из кабинета, оставив охрану только у выхода. Бухарин и Эйхенвальд провели таким образом с глазу на глаз, без свидетелей, около двух часов. Бухарин спросил Эйхенвальда прежде всего о своей семье, о судьбе своих учеников, (незадолго до ареста Бухарин женился на девушке на 22 года моложе него, дочери Ю. Ларина, бывшего меньшевика, примкнувшего к Ленину в 1917 году, видного специалиста по экономике). Затем Бухарин рассказал Эйхенвальду о своих философских взглядах в связи с происшедшим. Бухарину разрешили в тюрьме читать и писать. Ему приносили книги и дали пишущую машинку. Бухарин писал книгу. Когда Александр спросил Бухарина, о чем его книга, тот, к изумлению Эйхенвальда, ответил: «О человеческой природе». Бухарин даже старался убедить Эйхенвальда в том, что отныне им следует заниматься только одним: забыть об идеологических вопросах, экономике, политике и попытаться понять смысл и цену жизни вообще.
Из того, что рассказал Эйхенвальд, мне так и не удалось в точности понять, к каким же выводам пришел Бухарин: носили ли его поиски мистический, чисто этический или философский характер. Но именно этим занимался Бухарин в последние дни своей жизни.
А через несколько дней после очной ставки с Бухариным Эйхенвальда судила военная коллегия (обычно занимавшаяся такими делами), приговорившая его к пятнадцати годам тюремного заключения. Эйхен-
вальд пробыл в одной камере со мной полгода: Тюремная администрация следила за ним особенно строго и всячески старалась сделать его пребывание в тюрьме еще более тяжелым. Эйхенвальда постоянно помещали в карцер, причем в наиболее холодный. Эйхенвальд сильно похудел, у него началось какое-то легочное заболевание, не исключено, что это был туберкулез. Несмотря на это, ему не оказали медицинской помощи, не перевели на нужное питание. Каждое его слово становилось известно НКВД.
Как-то в начале марта 1938 года открылась дверь камеры и один из тюремщиков передал нам номер «Правды». Это была первая газета за долгие месяцы. После этого нам регулярно приносили газету в течение двух или трех недель. День за днем следили мы за процессом Бухарина, причем тюремные власти были особенно заинтересованы, чтобы Эйхенвальд читал газету. Перед самым концом процесса нас по одному вызвали к следователю и спросили, что мы думаем о процессе Бухарина. Вопросы были явно провокационного характера и рассчитаны на то, чтобы инкриминировать нам дополнительные «преступления». Эйхенвальда допрашивали в течение трех часов. Он был глубоко потрясен известиями о процессе, понимая, что судьба Бухарина уже решена. Эйхенвальд признался мне, что и на этом допросе он вновь подтвердил, что разделяет взгляды Бухарина. В ходе обсуждения различных аспектов бухаринского процесса мне стало ясно, что Бухарин указал своим ученикам, как держаться на допросах и на суде. Его решительный отказ признать себя виновным в «терроре» и в измене родине вдохновил его учеников, позволил им держаться с большим достоинством, когда настал их черед. Эйхенвальд считал чудом, что у Бухарина хватило сил и мужества сопротивляться Вышинскому.
Через некоторое время мы расстались, и с тех пор я больше не видел Эйхенвальда. Соловки накануне финской войны эвакуировали, и заключенных развезли
по другим тюрьмам и лагерям. Некоторых из заключенных мне приходилось потом встречать, других— никогда больше. Насколько мне удалось установить, большинство было расстреляно накануне вторжения Гитлера в Польшу. По-видимому, среди расстрелянных тогда был и Эйхенвальд, хотя приговор ему был уже вынесен — 15 лет заключения. Практически все вовлеченные в «показательные процессы» были к тому времени расстреляны. Впрочем, Эйхенвальд мог умереть еще и до этого: ведь он был болен и крайне истощен.
У меня нет причин сомневаться в достоверности рассказа Эйхенвальда, как о самом себе, так и о Бухарине: он был человеком высоких моральных качеств, и его сведения о судьбе Бухарина после ареста, по-видимому наиболее достоверные из всех, какие мне пришлось узнать.
ГЛАВА 6 Меньшевики
ГЛАВА 6
МЕНЬШЕВИКИ
С Эдуардом Эдуардовичем Понтовичем мне довелось встретиться в Бутырской тюрьме, куда меня доставили в 1937 году из лагеря для переследствия. Количество заключенных, « подготавливаемых » к новому показательному процессу, было столь велико, что разместить их по одиночным камерам Бутырской тюрьмы не представлялось никакой возможности, хотя НКВД, конечно, предпочло бы поступить именно так. Новички помещались в камеры вместе с более опытными арестантами, и это, разумеется, было им очень на руку, потому что от «старожилов» они узнавали много для себя полезного. В подобных смешанных камерах разговоры бывали еще более оживленными, чем в тех, где содержались только новые арестанты. Люди в них не были одержимы тактикой и техникой допросов, они часто обсуждали и более общие и отвлеченные вопросы. В
основном тогда в Бутырках находились члены компартии, но были там и разрозненные остатки давно уничтоженных в СССР партий, таких, как партия социалистов-революционеров (эсеры) и меньшевистская. Были и анархисты, и представители партий национальных меньшинств. Из меньшевиков мне особенно запомнился именно Эдуард Понтович.
Понтович был образованным человеком, знатоком марксизма. По профессии он был юристом; еще студентом он примкнул к меньшевикам во время революции 1905 года. Понтович много рассказывал о вождях и идеологах социал-демократического движения, в частности таких, как ф. И. Дан и Н. Н. Суханов.
В 1935 году Понтович был юрисконсультом ЦИКа, где он участвовал в выработке новых государственных законов. А летом того же года был арестован и выслан в Сибирь. В Бутырках он находился в связи с новым следствием по его делу, которое вел секретно-политический отдел НКВД (СПО). Понтович прекратил свою меньшевистскую политическую деятельность в самом начале двадцатых годов. В то время, рассказывал мне Понтович, всякая работа в меньшевистской партии стала не только невозможной, но даже и «нежелательной». После высылки за пределы СССР (или ссылки в Сибирь) меньшевистского руководства, всякая попытка подпольной деятельности была обречена на провал и могла лишь сыграть на руку органам безопасности, помочь им окончательно ликвидировать меньшевиков с помощью провокаторов. В то время Понтович уже отдавал себе отчет в том, что высокообразованные марксисты-интеллигенты, каковыми были многие меньшевики, могут понадобиться государству для работы в административном аппарате, в экономике и т. п. Понтович знал многих бывших меньшевиков, которые хотя и оставались внутренне убежденными социал-демократами, честно работали на пользу государства, отдавая свои знания и богатый опыт. Вместе с тем контакты Понтовича с другими меньшевиками вовсе
не носили конспиративного характера, это были чисто личные знакомства. Понтович с негодованием говорил мне о тех «признаниях», которые делали обвиняемые на меньшевистском процессе 1931 года. Он уверил меня, что на признания эти можно было с полным правом наклеить ярлык «сделано в НКВД»: они были результатом сильнейшего давления, оказывавшегося на обвиняемых, а также плодами болезненного воображения доведенных до отчаяния подсудимых. Понтович произвел на меня огромное впечатление, хотя я так и не составил себе окончательного мнения о том, был ли он действительно лоялен по отношению к советской власти. Однажды Понтович намекнул, что он регулярно читал эмигрантский «Социалистический вестник», а также и подпольные меньшевистские издания, выходившие в самом СССР. Такие противоречия в то время я относил за счет его недоверия ко мне, как к коммунисту. С подобным недоверием я неоднократно сталкивался в тюрьмах и лагерях.
Помню, какое впечатление произвел на меня широкий круг знакомств Понтовича. Он был знаком чуть ли не со всеми поэтами, писателями, актерами, композиторами своего поколения. От Понтовича я узнал любопытные истории, показавшие мне двойственность отношения людей к советскому строю. Понтович близко знал также многих видных ученых, особенно в области юриспруденции.
Свою должность в ЦИКе он получил через А. С. Енукидзе. В то время, когда публиковались подробности дела Енукидзе, я уже был в лагере. Поэтому Понтович рассказал об этом деле много для меня нового и интересного. Как и большинство других видных деятелей ЦИКа, Енукидзе пострадал в первую очередь из-за враждебности к нему со стороны верхушки НКВД. Благодаря дружбе со Сталиным Енукидзе смог принять на работу в ЦИК довольно большое количество «спецов», в их числе бывших дворян, а также членов таких антибольшевистских партий, как кадеты, эсеры, меньше-
вики. Даже и в 1935 году он продолжал держаться за этих людей, хотя в большинстве других государственных учреждений всех «бывших» уже давно «вычистили». К несчастью, возник конфликт в отношениях между Енукидзе и Сталиным. Енукидзе считался специалистом по истории большевистского движения в Грузии. Как-то Енукидзе сделал несколько не особенно лестных замечаний о роли Сталина в этом движении, роли, которую, как утверждал Енукидзе, Берия затем сильно преувеличил в своей книге на ту же тему. Енукидзе подкрепил свое утверждение несколькими конкретными эпизодами из прошлого Сталина. В результате, инкриминирующие материалы, собранные против Енукидзе по инициативе Сталина, были представлены на рассмотрение непосредственно ЦК партии. Причем Сталин использовал этот прием для того, чтобы снять с себя личную ответственность за устранение Енукидзе.
Решение об удалении Енукидзе в свою очередь послужило для НКВД сигналом к «очистке» его аппарата от всех «бывших людей». При этом, как считал Понтович, дела их даже не рассматривались индивидуально: было просто решено отправить их в ссылку или на поселение, или же дать им небольшие лагерные сроки. Позже СПО занялся несколькими индивидуальными «делами», следствием чего и было пребывание самого Понтовича в Бутырской тюрьме в тот период, о котором идет речь. Понтович обвинялся в связях с меньшевистским подпольем, в антисоветской пропаганде, а также в том, что, видимо, существовала какая-то скрытая цель его назначения «группой Енукидзе» в аппарат ЦИКа.
В течение тех шести месяцев, которые мы провели в одной камере, я вел с Понтовичем долгие беседы на самые разнообразные темы. Понтович считал, что приход к власти в России большевиков был национальной катастрофой. Он утверждал, что это стало возможным только потому, что Россия была отсталой страной, не имевшей зрелого рабочего класса. Что же
касается рабочего класса западных стран, то, по мнению Понтовича, в этих странах рабочий класс оставался на меньшевистских позициях. России, считал Понтович, следовало в первую очередь догнать Запад в экономическом отношении. А этого, по его мнению, можно было добиться либо влившись в мировую экономическую систему, либо проводя в условиях большевистского режима независимую экономическую политику быстрейшего развития народного хозяйства.
Сталин, объяснял мой собеседник, понял необходимость крайних мер для сохранения за Россией роли великой державы. Меры эти, хотя и были невыразимо жестокими, все же вели к индустриализации, после чего, по мнению Понтовича, и должна была начаться «нормальная» классовая борьба. А тогда уже «зрелый» пролетариат признал бы окончательную правоту русского меньшевизма. Борьбу в партии в то время Понтович расценивал как схватку между «фашиствующими большевиками» и «либеральными большевиками». Понтович полагал, что в конце концов здравый смысл победит и русский народ положит конец диктатуре.
Летом 1937 года началось следствие по «делу» Понтовича. Его стали вызывать на допросы. Было это непосредственно после ликвидации Тухачевского, когда началось массовое физическое уничтожение потенциальных противников сталинского режима. Понтовичу предъявили дополнительные обвинения, и он был переведен в спецтюрьму. После этого я больше о нем ни разу ничего не слышал, ни в заключении, ни после моего освобождения и реабилитации (в 1956 году). Я напомню о Понтовиче еще раз в начале восьмой главы.
В 1948 году я был неожиданно арестован в лагерной зоне, в лагере недалеко от Норильска. Видимо, в результате обострившегося конфликта между Сталиным и Тито режим в лагере стал еще более жестким. По
распоряжению из Москвы сотни заключенных, многие из которых уже сидели в лагерях по десять и больше лет, брались под стражу внутри лагерей и им предъявлялись новые обвинения. Только через год выяснилось, что я и шестнадцать других заключенных были взяты «по ошибке». Но в то время мы были уже далеко от Норильска — в знаменитом Иркутском «Александровском Централе». Но мы никогда не знали, куда нас везут. Делалось это, по официальной версии, чтобы затруднить побег. На самом же деле причина заключалась в том, чтобы еще раз подчеркнуть бесправность заключенных, которых можно везти, как скот, на убой. Каждая такая пересылка, особенно в то время, когда прокатывалась очередная волна террора, вызывала повышенную подозрительность, нервозность у заключенных. Я, впрочем, немного успокоился, когда, после оформления, меня поместили в одну камеру с несколькими другими находившимися в том же положении, что и я. Разговоры с другими заключенными помогают обычно составить некоторое представление о происходящем, а также преодолеть страх перед неизвестностью.
Вскоре стало ясно, что все мы принадлежим к одной и той же категории: политзаключенные, приговоренные на основании сфабрикованных обвинений к новым срокам сразу же после истечения предыдущего.
Я сразу же обратил внимание на одного из моих сокамерников. Лев Ильич Инжир был человеком с преждевременно постаревшим, изможденным лицом, с болезненно заостренными типично еврейскими чертами. Его манера держаться и разговаривать выдавала в нем человека большой культуры, большого жизненного опыта. Я вспомнил, что уже и раньше слышал о нем, как о выдающемся специалисте в области финансов, в течение ряда лет проработавшем в дирекции Госбанка, а потом — главбухом Беломорстроя — канала, построенного руками сотен тысяч заключенных. Инжир славился тем, что в последний день каждого истекающего финансового года у него уже был готов к
сдаче годовой баланс. О нем рассказывали легенды, как об исключительно способном организаторе. Его ставили в пример на крупнейших стройках и предприятиях по всему Союзу. Инжир и я решили держаться вместе — ведь интересный спутник важен, как воздух, в этапах, иногда занимающих по несколько недель.
Инжир рассказал, что его арестовали в 1938 году по обвинению, как обычно тогда делалось, в саботаже, т. е. «экономической контрреволюции», а также по статье 58/10 — антисоветская агитация. В результате ему дали 15 лет. О своем «деле» Инжир больше ничего не сказал, зато часами рассуждал об экономике и политике, что, в общем, не часто встречалось среди заключенных, годами отрезанных от внешнего мира. Инжир жадно расспрашивал меня о Западе. Оказалось, что и в лагерях Инжир работал в относительно привилегированных условиях, имел доступ к научной литературе, в частности, периодической, читал все центральные газеты, часто имел возможность слушать радио и даже общаться с начальством СИБЛАГА. Из бесед с ним нетрудно было установить, что теоретически он резко расходится с официальной советской точкой зрения по большинству вопросов и что он всей душой на стороне западноевропейских социалистов, полностью соглашается с их оценкой положения в СССР и в мире в целом. Он считал, что единственным верным путем для победы социализма была бы мировая гегемония США. Что же касается советского экспансионизма, то он рассматривал его только как реакционную попытку задержать прогресс и победу социализма во всем мире. Из этих положений он и исходил при оценке любого политического события. У нас иногда возникали споры на эту тему, причем я пытался доказать правильность ленинской оценки капитализма, хотя, как я объяснил Инжиру, и не был согласен с интерпретацией ее в текущей советской прессе. Когда Инжир убедился в том, что меня можно не опасаться, он прямо заявил, что считает ошибкой — как считал
это и тридцать два года назад — захват власти пролетариатом в индустриально отсталой стране с политически недостаточно развитым рабочим классом. В этих условиях, говорил он, захват власти был величайшей ошибкой Ленина. С 1912 года т. е. с начала своей политической деятельности Инжир был горячим последователем отца русской социал-демократии Г. В. Плеханова. Ошибкой Ленина Инжир считал и те требования, которые в связи с Первой мировой войной повели к расколу II Интернационала. Только оставшиеся во II Интернационале партии представлялись Инжиру истинно марксистскими. Его убежденность в этом была настолько сильна, что он не только ненавидел самого Ленина, но и поддержавшего Ленина Троцкого, взгляды которого с начала Первой мировой войны по существу совпадали с ленинскими. Он ненавидел даже Мартова и тех социал-демократов, которые после Октябрьской революции заняли «центристскую» позицию и не воспрепятствовали расколу II Интернационала.
Подробнее биографию Инжира я узнал, когда мы уже прибыли на место назначения. Оказалось, что нас привезли в Тайшетский спецлаг особо строгого режима, где к тому времени уже находились десятки тысяч политзаключенных. В первые годы после революции Инжир, отойдя от политической деятельности, занимался исключительно вопросами экономики. Как большинство меньшевиков и плехановцев, он считал, что большевистская власть просуществует недолго. А чтобы предотвратить полную разруху и экономический хаос, он решил, забыв на время о своих убеждениях, отдать все силы восстановлению разрушенного войной, революцией и гражданской войной народного хозяйства.
В двадцатые годы Инжир пользовался доверием правительства, и к нему тоже относились с уважением как к специалисту в своей области. Когда финансовыми делами Советского Союза ведал Сокольников, Инжир принимал участие в выработке мер по стабилизации рубля по отношению к курсу золота, а впоследствии в
определении обменного курса нового рубля. В 1926 году, несмотря на то, что в прошлом он был меньшевиком и даже не выступил с публичным покаянием, его, тем не менее, включили в состав советской делегации на международную финансовую конференцию в Голландии, вернувшись с которой он выступил с рядом статей о работе и результатах этой конференции.
В то время шла борьба между партийным руководством и оппозицией. Инжир с особо острой враждебностью относился к группе Троцкого-Зиновьева и их сторонникам. Он видел в них неисправимых и бескомпромиссных большевиков, тогда как «правых» считал людьми, искренне заинтересованными в стабилизации положения и противниками авантюризма в политике и экономике. Левая оппозиция, как он хорошо понимал, намерена была продолжать политику Ленина, в которой Инжир видел корень всего зла. Он считал поражение левой оппозиции заслуженным наказанием ленинцев и всех тех, кто их поддерживал. Он мог бесконечно говорить о своей ненависти к Троцкому и его сторонникам. Он уверял, что Немезида проявила себя куда больше во время Октябрьской революции, чем в период любой другой революции, и что самая черная реакция не смогла бы расквитаться с большевиками более жестоко и неумолимо, чем это сделала сама революция.
Все то время Инжир работал честно и надеялся, что если советский строй и не изменится радикально, то все же он сумеет и при нем жить и работать. Вероятно, не мало «спецов», подобных Инжиру, и в самом деле прижились в новых условиях и были приняты в среде, окружавшей аппарат Сталина. Работали они вполне добросовестно, тщательно скрывая свои настроения и убеждения, в надежде на то, что сама история приведет к другим, более спокойным временам. Нет сомнения, именно для того, чтобы еще больше укрепить лояльность этих людей, а также предупредить всякую потенциальную вероятность протестов, одних
держали в изоляции, а другим время от времени напоминали о дамокловом мече, постоянно занесенном над ними.
Совершенно неожиданно Инжир был арестован в начале 1930 года. Почему именно его выбрали среди оставшихся еще меньшевиков и плехановцев — мне не совсем ясно, хотя он и давал мне читать сотни копий жалоб и заявлений, написанных им в течение 20 лет после своего первого ареста. Может быть, он неосторожно что-нибудь сказал. Не знаю. Как бы то ни было, но что-то радикально переломилось в нем после этого ареста, да так и осталось до конца его дней. На него оказывали сильное давление с целью заставить «признаться». В те годы обычно — но не всегда — применяли не физические, а моральные средства воздействия, и вполне вероятно, что ГПУ удалось склонить его к сотрудничеству не только угрозами (было бы достаточно, наверно, сломить его простой угрозой расстрела), но и посулами. Ему предъявили ультиматум: либо отказаться от дачи «показаний» и бесследно исчезнуть, с полной конфискацией имущества и квартиры в центре Москвы и с репрессиями против жены и детей, которых он обожал, либо пойти на сотрудничество, в случае чего он не только немедленно был бы освобожден, но и получил бы хорошо оплачиваемую и солидную должность с возможностью продвижения по службе и другими особыми привилегиями. Но что бы ни послужило аргументом, Инжир согласился и, по всей вероятности, помог в подготовке меньшевистского процесса 1930 года.
Когда Инжир, 20 лет спустя, рассказывал о тех методах, которые применялись тогда, чтобы заставить его пойти на предательство лучших своих друзей и подписывать заведомо сфальсифицированные обвинения, он не скрывал ни глубины своей ненависти, ни горечи пережитого. Тогда же, в 1930 году, он решил, что, поскольку его силой вынудили так поступить, он посвятит остаток жизни мести тем, кто отнял у него самое драгоценное в жизни — чистую совесть. Он задался
целью подорвать существующий строй изнутри, используя для этого тот же строй: помогая уничтожению одних коммунистов другими, да так, чтобы погибло их как можно больше, а еще лучше, чтобы они все погибли. И таким образом, по его мнению, жить в а мире стало бы легче.
В 1931 году Инжир, до этого негласно приговоренный к десяти годам заключения, был освобожден и назначен на крупный пост в системе органов безопасности. Его назначили главным бухгалтером ОГПУ, осуществлявшего в то время гигантскую программу промышленного строительства по всему Союзу руками, главным образом, заключенных, т.е. бывших «кулаков» и «подкулачников», которых к тому времени насчитывалось уже до пяти миллионов. Работали эти «зеки» в условиях, которых не выдерживали вольнонаемные. Таким образом Лев Ильич и попал на Беломорстрой, где прославился на весь Союз.
Семь лет жил он двойной жизнью. Отдавал свой труд и способности строю, который он глубоко ненавидел (разумеется, иначе поступить он и не мог, поскольку одно неосторожное слово, один шаг, который могли бы расценить как «саботаж», привели бы к его немедленной гибели). С другой же стороны, в качестве секретного осведомителя политического отдела НКВД он мстил партии, компрометируя ее членов, с которыми он сталкивался по работе, втягивая их в опасные контакты и содействуя таким образом их физической ликвидации.
Поступая так, он в какой-то мере вроде бы вымещал на них свою злобу за то предательство, на которое его вынудили. Что же касается предаваемых им членов, партии, то тут его совесть была, как он сам считал, чиста. Он был убежден, что беда, в которую попадали большевики-партийцы, — лишь небольшая часть той платы, которая приходится с них за катастрофу России и социализма.
В разгар массовых арестов старых большевиков
в 1936-37 годах и во время процессов Зиновьева-Каменева, Пятакова, Радека и других карьера Инжира была в зените. Ежов назначил его главным бухгалтером ГУЛАГА — Государственного управления лагерями ГУЛАГ в то время был настоящей империей, государством в государстве. На объектах ГУЛАГА по всему Союзу в тридцатых-сороковых годах работали десятки миллионов «зеков».
Назначение это являлось не только признанием его ценности как специалиста, но и выражением полного к нему доверия и наличия связей на самых верхах НКВД. Прямо или косвенно, но по роду работы главбуху ГУЛАГА приходилось иметь дело со строго секретными документами больше, чем кому-либо другому (В число объектов ГУЛАГА входили и военные базы и укрепления). Планы строительства новых промышленных объектов поступали к нему на просмотр еще до того, как они в виде «совершенно секретных» попадали в соответствующие наркоматы. Балансовые отчеты советских учреждений, в том числе, конечно, и ГУЛАГА, включали в себя данные о капиталовложениях, методах их использования и пр., так что при знакомстве с ними можно было следить за всеми деталями экономического развития соответствующего сектора. Так, в начале первой пятилетки в руках Инжира находились все цифры, отражавшие стоимость закладки фундамента советской государственной машины. К нему поступали, в частности, ежедневные сводки о выработке из всех лагерей Советского Союза, раскинувшихся на площади свыше двадцати миллионов квадратных километров: от островов Диксона и Шпицбергена до Камчатки и Средней Азии. Каждый лагерь составлял сводку о количестве «человекочасов», отработанных заключенными, а также о невыходах на работу по болезни и другим причинам. Вся эта информация попадала в конце концов в московский ГУЛАГ Сводки содержали и такую информацию, как число этапируемых заключенных, а также графу «смертность».
На основании этих материалов составлялись ежедневные планы и графики системы ГУЛАГА, причем все они поступали в Отдел главного бухгалтера, где вносились в книги и отчеты. Поскольку все эти материалы попадали на стол к Инжиру, он был одним из очень немногих в Советском Союзе, кто знал истинную цифру заключенных в лагерях.
Рассказывая об этом периоде, Лев Ильич с ужасом вспоминал непрерывно растущие данные в графах «прибытие» и «смерть». У него и у некоторых других в гулаге сложилось впечатление, что вся страна превращена в один нескончаемый гигантский лагерь. Постоянный рост смертности служил время от времени предметом озабоченности и обсуждения на верхах ГУЛАГА, поскольку он грозил невыполнением плана. В таких случаях посылались соответствующие запросы и указания начальникам лагерей. Конечно, ни к чему было расследовать причины отдельных «смертей», если тысячи случались ежедневно. Поэтому была выработана норма смертности. Если она в том или ином лагере резко возрастала, то на место выезжала комиссия по расследованию (то же, впрочем, делалось, если смертность бывала намного меньше «нормальной»). В случаях возросшей смертности на места прежде всего отправлялись телеграммы: «прекратить смертность». Иногда доходило и до суда над комендантами лагерей с особо высокой смертностью, в результате которого их либо снимали с должности, либо — в редких случаях — расстреливали. Другими словами, не лагерная система пересматривалась, а ответственность возлагалась на отдельных ее исполнителей, допускавших «перегибы». Иногда это доводилось до сведения «зеков», чтобы «компенсировать» их в какой-то мере...
Инжир проработал главбухом ГУЛАГА около двух лет, и все время, как он часто говорил мне, у него было предчувствие неизбежно надвигающегося конца. Группа специалистов, к которой он принадлежал, сменила группу, отстраненную после смещения в 1936
году Ягоды. К весне 1938 года, после суда над Бухариным, Рыковым и другими, включая и Ягоду, Инжир почувствовал, что и положение сменившего Ягоду Ежова, до этого имевшего тесный контакт со Сталиным, пошатнулось. Лев Ильич рассказывал мне о своем разговоре в тот период с одним из ветеранов НКВД, евреем, пересыпавшем свою речь изречениями из Талмуда. Этот человек продержался в НКВД с 20-х годов, и хотя не был членом партии, все же по личной рекомендации Дзержинского был принят на работу в ГПУ. Он уцелел и в период репрессий 30-х и 40-х годов и, как мне сказали, в 1956 году в Москве, в возрасте 70 лет, вышел на пенсию. В разговоре «по душам» с Инжиром этот человек посоветовал ему, пока не поздно, уйти с работы, так как в НКВД ожидалась новая буря.
Инжир решил последовать его совету и подал заявление об уходе, ссылаясь на состояние здоровья. Некоторое время спустя его вызвали к заместителю наркома внутренних дел, ответственному за лагеря, Чернышеву, где ему было отказано в увольнении с работы. Для поправки здоровья ему дали путевку на шесть недель в санаторий НКВД на Кавказе. По возвращении оттуда он сразу же заметил, что атмосфера сгустилась еще больше. Ежов в это время был назначен по совместительству наркомом водного транспорта. Однажды поздним вечером Инжира вызвали к Ежову, который до этого имел с ним редкие контакты по чисто служебным вопросам. Ежов сидел на диване в рубашке с засученными рукавами. Волосы растрепаны, глаза заплыли, явно пьяный. Перед ним стояла целая батарея бутылок с водкой. Было заметно, что он возбужден и встревожен. То и дело кто-то звонил по телефону и Ежов отвечал грубо и цинично. Он предложил Инжиру перейти на работу в Наркомат водного транспорта, где, по словам Ежова, «развели сплошное воровство и растраты». Ежов сказал, что главбух в Наркомводе никуда не годится и его следует посадить. Инжир попытался отказаться, ссылаясь на
здоровье, но Ежов приказал ему немедленно принять новую должность. Когда Инжир уже выходил из кабинета, Ежов вдруг задал несколько вопросов, касавшихся прошлого Инжира. При этом он посмотрел на него недобрым взглядом, и Инжир понял, как глубоко его ненавидит Ежов и что вообще судьба его решена.
А еще через несколько дней Лев Ильич был арестован в своем новом кабинете в Наркомводе и доставлен на Лубянку, где совсем недавно состоялся разговор с Ежовым. Ему предъявили обвинение в «саботаже с контрреволюционными целями» в период работы в ГУЛАГЕ, прибавив еще дополнительные обвинения, связанные с меньшевистским прошлым Инжира, в том числе и те, которые были с него сняты при освобождении в 1931 году.
Оказалось, что хотя ордер на арест был подписан самим Ежовым, на деле его арест был связан с волной репрессий против самого Ежова и его аппарата. В первые дни после ареста Инжир ожидал, что ему придется разделить судьбу ближайших сотрудников Ежова: несколько десятков из них было расстреляно, а Инжир и на этот раз выжил. Его приговорили всего лишь к пятнадцати годам.
Этим, видимо, он был обязан своим бывшим коллегам по работе в ГУЛАГЕ. Его отправили сначала в лагерь на юго-западе Сибири, где условия были относительно сносными — отчасти из-за более теплого, чем на север от сибирской магистрали, климата, отчасти же потому, что лагеря там были более «обжитыми». (Вообще говоря, старые лагеря считались лучше новых, где условия были отвратительными, снабжение неналаженным, и вообще, «организационные» вопросы не утрясены).
Вскоре после прибытия в лагерь Инжиру удалось устроиться бухгалтером, а поскольку по приговору не полагалось конфискации имущества, жена и дети, оставшиеся в Москве, имели возможность поддерживать
его посылками. Его жене даже разрешили приехать в лагерь, где она провела с мужем несколько дней, что было, конечно, редким исключением.
Инжир много раз подавал заявления с просьбой о пересмотре своего дела. И хотя в этом ему отказывали, все же его как-то выделяли среди других заключенных и не только освобождали от общих работ, но даже избавляли от голода. Кроме того, Лев Ильич имел возможность читать книги по экономике и даже делать пометки для своей, как он надеялся, будущей книги.
Все это Лев Ильич рассказал мне по пути на новое место, где, в дальнейшем, мы встречались с ним лишь время от времени. У нас уже не было ни сил, ни желания беседовать на отвлеченные темы. По мере того, как я знакомился с другими заключенными, до меня постепенно стали доноситься слухи, что Льва Ильича считают доносчиком и провокатором. Традиция предупреждать друг друга о таких людях» ведется в России еще с царских времен. Поэтому меня и предупредили, что лучше не знаться с Инжиром. Среди предостерегавших меня был литовец, которого я назову «Георгием» Георгий был активным членом партии, арестованным в 1937 году. Его приговорили сначала к десяти годам, а потом дали еще десять, уже в заключении. Он всячески старался скомпрометировать Инжира. Сначала я думал, что он почему-то старается войти ко мне в доверие (ревность и даже ненависть между заключенными были обычным явлением в лагерях). Георгий не отставал от меня, и через несколько месяцев я уступил и согласился на его предложение. Он решил устроить очную ставку с Инжиром, на которой собирался припереть его к стенке и разоблачить в моих глазах. Я старался избежать этого всеми силами, во-первых, потому, что само по себе это было мало приятно, а во-вторых, могло стать весьма опасным в том случае, если Инжир действительно был доносчиком. В конце концов Георгий, без предупреждения, под каким-то предлогом привел меня в барак, когда все «зеки» были на работе. Инжир был
в этом бараке дневальным. Георгий запер дверь и сразу же обрушился на него:
— Когда мы были вместе в таком-то лагере, вы долгое время записывали разговоры со мной и доносили их плюс всякое вранье в Третий Отдел. Когда началась война, и меня арестовали в лагере, эти доносы являлись материалами следствия. В качестве свидетеля обвинения вы сами все это еще раз подтвердили. Теперь, в присутствии Бергера, скажите — правда это или нет. Я хочу его предостеречь, потому что вы и сейчас занимаетесь тем же.
Инжир ответил не сразу, потом он сказал:
— Допустим, это правда. Но скажите уж Бергеру и то, что я спас вам жизнь.
Георгий повернулся ко мне:
— Это тоже правда — он спас мне жизнь.
Оказалось, что на суде Георгий не мог отрицать показаний Инжира, поскольку он действительно в 1940 году при нескольких других свидетелях высказался критически по поводу заключения пакта между Сталиным и Гитлером в 1939 году. Но следствие интересовало другое, и от этого зависела жизнь обвиняемого. Вопрос стоял так: продолжал ли он свою «антисоветскую пропаганду» и после начала войны 1941 года? В мирное время подобное «преступление» подлежало наказанию относительно мягкому — 10 лет заключения, а в военное — влекло за собой смертный приговор. В то время такие приговоры приводились в исполнение немедленно. Инжир показал, что Георгий после немецкого вторжения не вел подобной «пропаганды», и этим спас Георгию жизнь. Эта полная драматизма очная ставка двух смертельно ненавидящих Друг друга «зеков» в пустом полутемном бараке, в зоне, обнесенной колючей проволокой, среди вышек с вооруженной пулеметами охраной, в глухой сибирской тайге, напомнила мне средневековую сцену — трибунал инквизиции. Невозможно было осудить ни того, ни другого. Георгий доказывал, что Инжир «сексот». Инжир утверж-
дал, что одного его слова хватило бы, чтобы погубить Георгия — не только его личного врага, но и человека, принадлежавшего к наиболее ненавистной Инжиру политической группировке — большевиков-троцкистов.
После этого я стал избегать политических дискуссий с Инжиром, но все же продолжал с ним встречаться. Я понимал, сколь рискованными для меня могли быть подобные дискуссии, но, вместе с тем, убедился, что в Инжире сохранились какие-то остатки совести. Ведь он действительно легко мог бы погубить Георгия, знавшего достоверно, что Инжир — «сексот», и все-таки не сделал этого. Кроме того, было бы опасно сразу же прекратить общение со Львом Ильичем, поскольку я уже успел высказать ему свои взгляды. Ведь жизнь « зека» часто зависела не только от того, что он делал, но и от того, что он отказывался делать, равно как и от мнения о нем лагерной администрации и ее «секретных сотрудников».
Инжир никогда не вспоминал об эпизоде с Георгием, хотя и дал мне понять, что не испытывает раскаяния. Он считал, что видный коммунист, преследовавший членов других партий, — его законная добыча. К этому он добавил, что от рук Георгия пострадало несколько евреев (а сам Лев Ильич не только чувствовал себя евреем, но хорошо знал и любил еврейскую культуру).
Когда началась корейская война, Инжир не смог удержаться от замечаний политического характера. Возможно, он делал это отчасти по инструкции Третьего Отдела, который, как только в мире случалось что-нибудь важное, искал предлога открывать новые «дела», провоцируя людей на антисоветские высказывания. Малейшего расхождения между мнением «зека» и официальной газетной линией было вполне достаточно для этого. Когда пришло первое известие о боях в Корее, Лев Ильич поймал меня с «Правдой» в руках («Правда» приходила хотя и с запозданием, но довольно регулярно). Инжир не сомневался в том, что эта война — акт агрессии Сталина против США. «Он»
(о Сталине он говорил только так, чтобы не произносить рокового имени) хочет их припугнуть, он хочет показать азиатам, что даже Трумен боится его. Но теперь они уж покажут ему. Весь мир придет в негодование от этой провокации. На этот раз он просчитается!». Когда американцы прошли глубоко в Северную Корею, Лев Ильич торжествовал: «Это его второе крупное поражение после войны (первым была его неудача с Тито). Теперь его конец уже недалек!». Но когда корейская война затянулась и вмешались китайские «добровольцы», Инжир начал беспокоиться: «Этот Трумен ничего не понимает. Он поставил ему ловушку. Он хочет стравить Америку с Китаем, чтобы развязать себе руки в Европе, особенно в Восточной Германии. Он рад использовать китайцев. И что ему, если погибнут 200 миллионов китайцев вместо 50 миллионов русских? Кто-нибудь должен объяснить Трумену, чего тот добивается».
Я обычно выслушивал Льва Ильича молча, полагая, что это несколько менее опасно, чем любой ответ: согласие или несогласие. Как бы то ни было, мое мнение в этих вопросах его, видимо, не интересовало. Но однажды я сделал какое-то критическое замечание о Ли-Сын-Мане. Через несколько дней Лев Ильич подвел ко мне молодого корейца-заключенного, недавно прибывшего в лагерь.
— Вот, — сказал ему Лев, Ильич, — смотрите — этот человек считает Ли-Сын-Мана реакционером. Расскажите ему о Ли-Сын-Мане. И расскажите ему, каким образом пришел к власти Ким-Ир-Сен, и вообще о том, как советская печать лжет о Корее.
Этого молодого корейца арестовали в Маньчжурии и приговорили к 25 годам по обвинению в шпионаже. Он плохо знал русский язык, но все-таки рассказал мне много интересного. Инжир был очень доволен и от себя добавил:
— Мне лично не надо никаких подтверждений, что южнокорейцы правы. Нужно только уметь правильно
читать советские газеты. То, что в наших газетах пишут о Северной Корее, относится к Южной. И наоборот.
Инжир был убежден, что коммунисты не могут иметь влияния на массы в Европе и Америке. Коммунистическое же влияние в Азии он объяснял тем, что там коммунисты связаны с национальным движением и что Советский Союз помогает им оружием, а это, как подчеркивал Лев Ильич, не имеет ничего общего ни с социализмом, ни с коммунизмом. Он был уверен, что лидеры-националисты готовы принимать помощь и оружие от кого угодно, но что этим же оружием они воспользуются не только против колониальных держав, но и против социалистических сил в собственной стране. Инжир полагал, что Советский Союз допускает крупный просчет, надеясь таким образом усилить свое влияние в колониях.
Он считал, что только II Интернационал унаследовал действительно социалистические традиции, и очень преувеличивал его значение. Я сказал ему об этом, но он не хотел отказываться от своих иллюзий. Инжир говорил, что Коминтерн уже распущен, тогда как II Интернационал существует уже 60 лет и будет существовать впредь. С особым энтузиазмом Лев Ильич рассуждал об английском социализме, и это как раз в то время, когда в советской печати лейбористское правительство осыпали особо грубой бранью. Мирная национализация английской промышленности казалась ему осуществлением социалистических идеалов основателей научного социализма, тогда как большевизм, по его мнению, не только погубил русский народ, но и дискредитировал самую идею социализма.
Существовала только одна категория людей, которых Лев Ильич ненавидел еще сильнее, чем коммунистов вообще. То были советские коммунисты, которых Инжир считал ренегатами, предателями социалистического движения и наемными агентами, продавшимися советскому режиму. И он не был единственным в этой своей ненависти. Такие люди, как он, считали, что
французские и английские коммунисты, в общем-то, дальше от большевизма, чем от либерального реформизма в европейском понимании этого слова. Они, по существу, и не коммунисты. В некоторых странах вообще нет коммунистов, хотя и там есть немало наивных людей, связывающих себя с советским коммунизмом. Но им, к сожалению, нельзя всего этого объяснить: они не улавливают самой сути русского коммунизма, хотя и считают себя стопроцентными коммунистами. Между Востоком и Западом такая пропасть, что ничем ее не заполнить.
Лев Ильич причислял к мерзавцам и предателям и министра иностранных дел Вышинского и известного журналиста Заславского (оба в прошлом были, как известно, меньшевиками). Речи Вышинского в ООН, заполнявшие в то время советские газеты, буквально приводили его в бешенство. От негодования он почти лишался дара речи. Но еще больше взбесила Инжира статья Заславского, начиненная издевательствами над Труменом. В этой статье Заславский писал, что СССР никогда не капитулирует перед Западом, а Инжир полагал в то время (это был 1950 год), что только безоговорочная капитуляция Советского Союза могла бы предотвратить третью мировую войну, хотя, как он утверждал, война привела бы к полному разгрому СССР и концу этого «кошмарного строя».
Те из западных руководителей, которые готовы были пойти на союз с коммунистами, по мнению Льва Ильича, были просто дураками, не понимающими, на каком свете они живут; их же первых коммунисты и ликвидируют, как только придут к власти (с помощью тех же левых политиков). Он особенно не выносил Ненни, считая Сарагата, члена II Интернационала, единственно истинным представителем итальянского социалистического движения. Как-то, войдя в барак, где жил Лев Ильич, я застал его в глубоком раздумье; он долго не замечал меня и только, когда я, наконец, спросил, о чем он думает, ответил со вздохом:
— Нет, Иосиф Михайлович, как ни стараюсь, не могу понять, какая же все-таки разница между Ненни и Тольятти. Вот пытаюсь разобраться, но, видно, так и умру, не поняв...
По инвалидности Инжир был освобожден от общих работ, а благодаря посылкам, которые приходили регулярно, он не голодал, как другие. Несмотря на это, здоровье его шло на убыль. Посылки, видимо, были от родственников, но многочисленные враги Льва Ильича подозревали, что на самом деле — они от Третьего Отдела, часто поддерживавшего таким образом своих сотрудников.
Летом 1950 года Инжира перевели в другой лагерь, в 20-ти километрах от нашего. Там его вскоре назначили ответственным за культурно-воспитательную работу среди заключенных. А это была весьма завидная должность для арестанта. Работавшие в КВЧ (КВЧ — культурно-воспитательная часть) обычно освобождались от общих работ; им выдавали одежду получше, жили они в отдельных бараках — на 2-3 человека (в общих бараках ютились десятки, а то и сотни «зеков»).
Работники КВЧ были лагерной аристократией. Одной из их обязанностей было писать характеристики на других заключенных. На основании таких характеристик разбирались жалобы самих заключенных, их заявления и просьбы о свидании с родственниками, сокращении сроков и так далее. (Между прочим, перспективная возможность сокращения срока была важнейшим стимулом для контроля за работой и поведением заключенных: люди выбивались из сил, чтобы выполнить нормы и заработать таким образом зачетные дни). Как правило, на работу в КВЧ брали «бытовиков» и уголовников, так как политзаключенных считали непригодными для «перевоспитания» других. Поэтому, когда стало известно о назначении на эту должность Льва Ильича Инжира, для многих это явилось подтверждением того, что он действительно состоит на службе у Третьего Отдела.
Вскоре в тот же лагерь перевели и Георгия. Перед отправкой Георгий поделился своими подозрениями: это могло быть следствием доноса Инжира и переводят его в другой лагерь, чтобы там окончательно расправиться с ним. Однако, несколько месяцев прошло без всяких последствий, и до меня даже стали доходить слухи, что на новой должности Инжир, как может, помогает политзаключенным и интеллигенции.
А потом, совершенно неожиданно, в тот же лагерь перевели и меня.
Из опыта я знал, что подобные переводы практикуются в период подготовки «материалов» для готовящегося внутрилагерного процесса. Я решил быть исключительно осторожным, но вместе с тем и не избегать Инжира. Лев Ильич приветствовал мое появление в лагере весьма дружественно. На новой должности он показал, что был не только блестящим специалистом по финансам и экономике, но прекрасно знал также русскую литературу и хорошо разбирался в искусстве.
В нашей лагерной зоне было много заключенных-евреев, и Лев Ильич не скрывал своей симпатии к ним. Он внимательно расспрашивал их, особенно тех, кто бывал заграницей, и его очень огорчила роль, которую сыграли коммунисты-евреи в «антинародных» демократиях в послевоенной Восточной Европе. Он был убежден, что за эти преступления рано или поздно, но дорого расплачиваться придется еврейскому населению этих стран. И больше того, Лев Ильич был убежден в том, что коммунисты, которые сегодня используют в своих целях евреев, завтра первыми же предадут и ликвидируют их: «мавр сделал свое дело».
Органический антисоветизм, который Лев Ильич не умел скрывать, а кроме того, его искренняя дружба с некоторыми евреями из той части лагеря, где он находился, все больше ставили его в двусмысленное положение по отношению к Третьему Отделу, на который он продолжал работать. В апреле 1951 года меня перевели в другой лагерь, и о дальнейшей судьбе
Льва Ильича Инжира я знаю только понаслышке.
В это время в лагерях принимались крутые меры в связи с подготовкой к третьей мировой войне. Руководство МГБ настаивало на ликвидации опасных и нежелательных элементов; от Инжира требовали информации о все большем и большем числе заключенных. В то же время и сам он стал объектом новых преследований. Срок его истекал в 1953 году, но шансов на освобождение было мало: он слишком много знал. Не исключено также, что он стал жертвой межведомственной вражды между МВД и МГБ; каждое из этих министерств руководило независимой сетью тайных агентов, было заинтересовано в слежке Друг за другом и старалось превзойти соперника по количеству арестов. Как бы то ни было, в период новой волны внутрилагерных арестов, новых «следствий» и процессов, сопровождавшихся широким строительством новых изоляторов, Лев Ильич был арестован и дело его связали с делом «бывших троцкистов». Его обвиняли во враждебности к советскому строю, в попытках создать подпольный троцкистский пропагандистский центр и так далее... В лагере было арестовано около двенадцати человек, но судили только троих. Кроме основных обвинений, двух участников процесса обвиняли еще и в симпатиях к государству Израиль, а Льва Ильича — в том, что он знал и скрыл это от Третьего Отдела. Следователи добивались «признаний» того, что они пытались создать в лагере подпольную сионистскую группу, но из этого ничего не вышло, так как Инжир наотрез отказался от всякого сотрудничества с «органами» в этом вопросе, категорически заявив, что ничего об этом не слышал и не знает. В конце концов, следователи отказались от организации такого процесса, хотя в других лагерях их коллеги были намного настойчивее.
Одним из излюбленных приемов следователей было распространение слухов о смерти Бен-Гуриона для того, чтобы затем следить за реакцией на это заключенных-
евреев. К тем, кто обнаруживал малейшую тенденцию к «еврейскому национализму», применялись соответствующие меры.
В тех случаях, когда единственной целью «пересмотра» или создания новых дел являлось дальнейшее пребывание человека в лагерях, физические методы воздействия обычно не применялись. Другое дело, когда подозрения бывали «более серьезными». Например, если заключенный подозревался в связях с внешним миром или в попытке распространять информацию о положении в лагерях. Тогда не церемонились: иногда человека забивали чуть не насмерть, помещали зимой в нетопленные карцеры и истязали разными другими методами. Но условия подследственных даже без физических методов воздействия тоже были пыткой, в особенности для людей, таких как Лев Ильич, с сильно подорванным здоровьем.
Суд над ним происходил в Тайшете. Показания против него давал, главным образом, заключенный К., из Киева, арестованный в 1943 году и осужденный на десять лет. Инжир не отрицал, что по некоторым вопросам расходился с официальной советской точкой зрения.
Георгий, которого судили на том же процессе, отчасти на основании показаний Льва Ильича, держался с достоинством, не нападая на Льва Ильича. Зато Инжир рассказал о случае с «очной ставкой» в Тайшете в 1950 году и доказывал в связи с этим, что троцкисты ненавидят его и клевещут на него. Суд отнесся к Инжиру особо сурово: ему дали 10 лет, тогда как Георгию — всего 5. Приговор этот был для Льва Ильича тяжелым ударом. Он потерял всякую надежду встретиться когда-нибудь с женой и детьми.
Заключенных, получавших новые сроки, как правило, переводили в другие лагеря — видимо, во избежание распространения слухов о тех, кто в этом лагере «помогал органам».
Позднее мне удалось выяснить, что Лев Ильич скончался в Тайшетской лагерной больнице в 1954 году.
Годом раньше мне довелось встретить человека, тоже бывшего меньшевика, непримиримого противника советского строя, который был к тому же ярым сторонником полной ассимиляции русских евреев. Хотя в то время шел уже 1953 год, казалось, что этот человек живет все еще где-то в начале двадцатых. Мне думается, что только в Советском Союзе может сохраниться подобная разновидность человека, намертво застывшего в своих взглядах на целые десятилетия.
Борис Манасович Бухштаб родился в 1890 году. Закончил русскую гимназию, вступил в социал-демократическую партию, примкнув к ее меньшевистскому крылу. Гимназистом принимал участие в революции 1905 года. Затем следовали постоянные аресты царской охранкой и ссылки. В 1914 году Бухштаб был призван в армию, где продолжал революционную работу. В отличие от большевиков он не был пораженцем, а поддерживал интернационалистскую группу Мартова. К моменту февральской революции Бухштаб служил на западном фронте и был избран председателем Совета солдатских депутатов. Когда Временное правительство решило перейти в наступление, он находился как раз на том участке фронта, где ожидалось это наступление. В то время уже и меньшевики были за «войну до победного конца». Они объясняли это тем, что после февральской революции обстановка в России настолько изменилась, что следовало защищать «русскую революцию» от «германского империализма», тогда как прежде конфликт, с их точки зрения, был между двумя реакционными режимами. Бухштаб считал, что долг солдата — соблюдать воинскую дисциплину и подчиняться командованию. Большинство членов того Совета солдатских депутатов, в который входил Бухштаб, были меньшевиками и эсерами, поддерживавшими правительство Керенского. Бухштабу, не без труда, удалось поднять в атаку солдат своей части, дислоцированной тогда в районе города Тарнополя. Сам он был в этом бою ранен. Общее наступление сначала развертывалось успешно, а потом сорвалось, и армия стала беспорядочно отступать. В результате развала фронта в армии росло влияние большевиков, что в конце концов привело к Октябрьской революции.
Во время и после Октябрьской революции Бухштаб вел активную политическую работу в Калуге, Туле и Орле. Он был в то время депутатом местных советов от партии меньшевиков, которая в первые годы после революции все еще сохраняла известное влияние в стране. В 1919 году он был избран большинством своей партии председателем Калужского городского совета. Но как только руководство в Совете перешло к большевикам, Бухштаба отстранили от этой работы. В 1920-21 годах меньшевики постепенно утратили возможность легального участия в политической жизни страны. Их печатные издания были ликвидированы. В прифронтовых же районах уже в период гражданской войны им приходилось работать нелегально. Бухштаб работал некоторое время в подполье, но в 1921 году был арестован и приговорен к административной ссылке.
С тех пор, в течение тридцати лет, его не оставляли в покое. Вначале ему удавалось как-то поддерживать связи с меньшевистским подпольем, хотя в тот период от членов партии меньшевиков, эсеров и других, находившихся в оппозиции к большевистской партии, требовали подписания заявлений о том, что они порывают с прошлым, сожалеют об ошибках и будут сотрудничать с советской властью. Тогда многие из бывших лидеров меньшевистской партии, такие, как Хинчук, Майский и Вышинский, который до 1920 года был одним из наиболее активных политических противников Ленина, вступили в ВКП(б). Одни эмигрировали, других выслали заграницу, остальные находились под постоянным наблюдением органов безопасности. Некоторым мень-
шевикам настойчиво предлагали выехать за границу, но секретная инструкция меньшевистского центра предписывала таких предложений не принимать.
Бухштаб не поддавался ни угрозам, ни уговорам Он наотрез отказался поместить в газетах письмо о «раскаянии», чего, как минимум, требовали от бывших членов оппозиционных партий, отказался дать обещание не вести никакой политической деятельности. Делались попытки втянуть его в показательные политические процессы. В частности, на него оказывали сильнейшее давление с целью вовлечь в подготовку показательного процесса 1930 года. Этот процесс был первым из проводившихся «новыми методами», выработанными к тому времени ГПУ: признания и самобичевания заменили на этих процессах выступления в защиту обвиняемых и их самозащиту. На такого рода процессах, прообразом которых был меньшевистский процесс 1930 года, обвиняемые взваливали на себя различные тягчайшие преступления, а кроме того, их заставляли разжигать ненависть народа к себе, к своей идеологии и к тем, кто за границей продолжал еще придерживаться этой идеологии.
От Бухштаба пытались добиться показаний о его бывших соратниках по меньшевистской партии. Он, однако, отказался от публичных показаний даже и по вопросам, касавшимся деталей, потому что иногда подобные, казалось бы безобидные, показания вплетались в огромную сеть лжи, фальсификаций и небылиц, которыми сопровождались следствия и подготовка показательных процессов. Бухштаб был одним из немногих, отказавшихся идти на какие-либо компромиссы. А таких людей в конце концов оставляли в покое, хотя и принимали меры для их изоляции. В результате своего категорического отказа от какого бы то ни было сотрудничества в подготовке меньшевистского процесса 1930 года Бухштаб, как «идеологический противник, отказавшийся разоружиться», попал в специальную тюрьму, или, как ее называли тогда, — «изолятор». Такие
«изоляторы» были в то время в Верхнеуральске, Суздали, Ярославле, Владимире, и находились они в непосредственном подчинении ГПУ Из этих «изоляторов» живыми не выходили; большинство заключенных, помещенных туда, были расстреляны к концу тридцатых годов.
В коротких интервалах между сроками Бухштабу и на воле приходилось жить в крайней нужде. По специальности он был экономистом. Найти работу он мог бы только в большом городе, но в больших городах ему жить не разрешали, поэтому он и был лишен средств к существованию. Жена его тоже была меньшевичкой и тоже подвергалась бесконечным преследованиям. В начале тридцатых годов им разрешили жить в ссылках вместе, а потом решили, что такое не соответствует «всей строгости закона», так что даже на поселении им приходилось жить врозь.
В молодости, еще во время революции, Бухштаб был стройным красивым человеком с завидным здоровьем. Однако частые аресты, жестокие допросы, а также голодовки, к которым он прибегал, требуя прекратить преследования товарищей, подорвали его здоровье: у него развивался туберкулез. Бухштаб однажды сказал мне, что объявлял голодовки около двадцати раз. Но обыкновенно голодовки бывали либо безрезультатными, либо те уступки, на которые якобы шла тюремная администрация, оказывались иллюзорными. В результате длительной голодовки он получал разрешение написать несколько писем, хотя запрещение писать письма не имело и до этого никаких оснований.
Когда я в 1951 году впервые попал в ссылку в село Казачинское (Красноярского края), местные ссыльные много рассказали мне о Борисе Манасовиче. После отбытия сроков в казахстанских лагерях Бухштаба и его жену освободили, но им было запрещено жить в европейской части СССР. Им дали «вечную ссылку». А для того, чтобы эта «вечность» не тянулась слишком уж долго, Бухштабу и его жене не разрешили поселиться
вместе. Его отправили в Красноярский край, а она осталась в Казахстане. Они писали уйму заявлений с просьбой разрешить им поселиться вместе: Бухштабу в то время было больше шестидесяти, и врачи считали что он долго не проживет из-за быстро прогрессировавшего туберкулеза. Была у них и другая причина: сам Бухштаб уже не мог работать, а жена его, врач, зарабатывала в Казахстане 600 рублей в месяц. Из своего мизерного заработка она посылала ему деньги. Борис Манасович жил на эти деньги, но их едва хватало на необходимые лекарства. Время от времени другие ссыльные старались передать ему немного денег или какую-нибудь одежду, но Борис Манасович не хотел ничего принимать, так как знал, что и другим живется не многим лучше. Он был еще и подозрителен — откуда, мол, у людей деньги — даже и в тех случаях, когда опасаться, казалось, нечего. Наконец, после двух лет ссылки в Красноярском крае, Борису Манасовичу разрешили переехать в Казахстан. Но добрался он только до села Казачинское, административного центра, куда все ссыльные, меняющие место жительства, должны были заезжать. Накануне отъезда из Казачинского ему стало так плохо, что его положили в местную больницу. Я часто приходил к нему в больницу — здесь началась наша дружба.
Говорили мы, конечно, обо всем, включая международные отношения, положение в Европе и прочее. Но вскоре я понял, что вдобавок ко всем несчастьям Бухштаб как бы закостенел, остановился на том этапе, когда он еще активно участвовал в политической жизни: последовавшие события интересовали его гораздо меньше. Для него не существовало ни революции сверху, осуществленной фактически в тридцатых годах Сталиным, ни войны, ни Гитлера, ни новой волны террора сороковых годов. Он жил далеким политическим прошлым: конфликтом между Лениным и Мартовым, большевиками и меньшевиками. Он считал, что судьба России, а может быть, и всего мира определилась
фактом захвата власти большевиками во главе с Лениным, что «умеренные», т.е. меньшевики, были правы с самого начала и что несчастье России— в Октябрьской революции, извратившей ее «естественное» развитие.
В отношении «еврейского вопроса» Бухштаб также держался взглядов, которые сложились у него в начале века. Он никогда не имел ничего общего ни с Бундом, ни с какой другой специфически национальной политической группировкой. Больше того, для него не существовало вопроса личных отношений с еврейским народом: он не признавал и не чувствовал, как он объяснял, связей с ним. Бухштаб постоянно подчеркивал в разговорах, что его взгляды точно соответствуют взглядам других русских социал-демократов, в среде которых он рос и политически воспитывался. Он был связан только с русской историей и культурой, только с русской жизнью. От русских националистов и от православных христиан его отличали лишь социалистические убеждения и, как он говорил, «правоверный марксизм». С его точки зрения, марксизм извратили именно большевики, не учтя конкретных политико-экономических условий в России и настаивая на «скачке», основанном только на их собственной субъективной воле. Разумеется, как социал-демократ, он решительно выступал против преследований евреев в дореволюционной России, был сторонником равноправия и создания условий для ассимиляции евреев. Он открыто осуждал всякие попытки выделения еврейской культуры, сохранения еврейского национального самосознания, от кого бы такие попытки ни исходили — от большевиков или от сионистов. Бухштаб был убежден, что в результате законов исторического развития в мире малые народы будут постепенно вымирать, уступая место крупным блокам стран, возникающим в силу экономической необходимости. С его марксистской точки зрения, только экономический базис определяет культурную и политическую надстройку. А поэтому, по Бухштабу, не имеет
никакого смысла стараться сохранить культуры малых народов. В конце концов — и в этом он был абсолютно убежден, — языковые и национальные барьеры должны будут исчезнуть и мир объединится в единое целое. Если евреи замкнутся в своих собственных рамках, говорил Бухштаб, то им суждено задохнуться, тогда как живя среди других народов, они имеют возможность полностью развивать и проявлять свои способности.
Долго спорить с ним нельзя было: Борис Манасович был стар, болен, очень раним и раздражителен. Помню, я сказал ему однажды, что уничтожение евреев в гитлеровских лагерях смерти противоречит надеждам на еврейскую ассимиляцию. На это он мне ответил:
— Гитлеровские зверства стали возможными благодаря вашим большевикам, не только научившим нацистов, как душить демократию, но и предавшим своих западных союзников, заключив в 1939 году договор с Гитлером. Да и кроме того, немцы — убийцы по природе. Я это знаю по опыту 1917 года. Их следовало тогда же обезвредить. А вместо этого Ленин и большевики братались с ними на фронте, а это тоже повело к фашизму и к усилению антисемитизма.
Бухштаб, крайне непримиримо относившийся к большевикам, добавил, что большевики из чисто демагогических соображений воспользовались лозунгом «национальной культуры» и с помощью этого лозунга попытались привлечь к себе массы. Конечно, не имело никакого смысла спорить с ним на эту тему.
За тридцать шесть лет своей многострадальной судьбы Бухштаб никогда не терял веры во II Интернационал, оставался, как и Инжир, верным его идеалам. Как и Инжир, он полагал, что измена Ленина Интернационалу в период Первой мировой войны помешала победе «истинного социализма» во всем мире.
Бухштаб верил, что и II Интернационал, в свою очередь, не забыл верных ему русских социалистов-меньшевиков. Компромиссы II Интернационала с бур-
жуазией он считал оправданными обстоятельствами и говорил, что только демагоги-большевики могут осуждать за это руководителей II Интернационала. Точно как и Инжир, он восторгался программой национализации промышленности, проводимой британской лейбористской партией, и сравнивал ее «мирную революцию» с деяниями большевиков, проливших моря крови и приведших страну на грань катастрофы.
На это я возразил, что столь ценимая им британская лейбористская партия поддерживает войну в Корее. Борис Манасович усмехнулся:
— Я считал вас, Иосиф Михайлович, человеком серьезным, а вы, как попугай, повторяете пропаганду «Правды». Настоящие социалисты помогают отсталым народам, приобщают их к европейской культуре, защищают от местных феодалов и колонизаторов. Вы, большевики, конечно, стараетесь вытеснить социалистов, чтобы самим завладеть колониями. Это вы и делаете в Китае, Индокитае, Корее. Корейская война — результат политики красного империализма и ничего больше. Все-таки Октябрьская революция пошла на пользу хотя бы уже тем, что кое-чему научила социалистов во всем мире; теперь все знают, что скрывается за дешевыми лозунгами о так называемых «освободителях».
По ближневосточному вопросу Борис Манасович был всецело на стороне Великобритании. Во-первых, из-за той же своей ненависти к большевикам, не поддерживавшим британскую политику в этом вопросе, а во-вторых, потому что после войны в Англии у власти стояло социалистическое правительство. Борис Манасович считал Бевина опытным социалистическим лидером, добивавшимся повсюду социальной справедливости и меньше других введенным в заблуждение Вышинским (Вышинского Бухштаб люто ненавидел за «предательство меньшевистских идеалов», как беспринципного карьериста). Весьма опасным Бухштаб считал вмешательство Советского Союза на Ближнем Востоке,
так как Ближний Восток, говорил он, — пороховая бочка, азиатские Балканы, вокруг которых снова может разгореться война.
— Нет пределов аппетитам этих деспотов, — горько вздыхая, говорил Борис Манасович. — Каждый, кто свяжется с ними хотя бы на одно мгновение, потом долго сожалеет об этом. Вспомните Бенеша и Масарика. Те, кто втянул большевиков в ближневосточную политику, еще горько об этом пожалеют.
В частности, Борис Манасович считал ошибкой Израиля разрыв с английскими социалистами и его сотрудничество на первом этапе возникновения государства с Советским Союзом. Меня удивила его оценка политики Израиля; такой оценки мне не приходилось слышать прежде, если не считать англичанина Джорджа Ханна, которого я встретил в 1950 году в Тайшетском лагере.
Здоровье Бориса Манасовича резко ухудшалось. Он уже почти не вставал с постели и доктор запретил ему вести долгие разговоры. Я доставал для него в поселке еду, относил на почту письма к жене. Он объяснял ей причину своей задержки в Казачинском, поскольку она знала о разрешении на переезд в Казахстан. Я и другие ссыльные пытались что-то предпринять, чтобы помочь Борису Манасовичу уехать, искали лекарство, чтобы хотя на время сбить температуру, умерить кашель. Был конец февраля, стояли еще сильные морозы; мы собирали для Бухштаба теплую одежду. Доктор-еврей, лечивший Бухштаба, делал все возможное, чтобы помочь ему. Разумеется, он понимал, что спасти его нельзя. Но все же он пытался организовать переезд в Казахстан, чтобы хоть перед смертью жена могла побыть у его постели. Но и это не удалось. В середине марта 1953 года, через несколько дней после смерти Сталина, Борис Манасович сказал во время нашей последней короткой встречи:
— Это еще не все. Еще не конец. Но теперь будет
легче. Большевики будут между собой бороться за власть.
Больше он ничего не мог сказать, начался сильнейший приступ кашля и удушья. Ему удалось лишь прохрипеть, что он уж не поправится и никогда не увидит жену. А спустя несколько дней мне дали знать из больницы, что Борис Манасович скончался. Родственников не было, так что нам, группе таких же ссыльных, следовало позаботиться о его похоронах. Трудно было найти рабочих, чтобы вырыть могилу: грунт оказался настолько промерзшим, что копать его было очень тяжело. Согласился копать могилу еврей, бывший коммунист, сидевший по тюрьмам и лагерям с 1937 г. - Теперь он жил «на свободе», в «вечной ссылке» в Красноярском крае. Как могли, вырыли могилу, как могли, сколотили гроб. Путь из больницы на кладбище проходил через все село, идти было километра четыре. Тот же товарищ-еврей сумел нанять и лошадь с санями. На них мы поставили гроб. Сначала нас шло за гробом трое. Потом, по мере того как мы проходили через село, за нами потянулись люди, и на полпути к кладбищу образовалось довольно длинное шествие — мужчины, женщины, дети: все евреи-ссыльные. Они мне говорили потом, что, увидав похороны еврея, пошли за гробом, не зная даже, кем был при жизни этот человек: просто, чтобы отдать ему последний долг.
Могилу Борису Манасовичу выкопали в дальнем углу кладбища, где, судя по деревянным дощечкам на могилах, было похоронено несколько других евреев. (Только в больших городах Сибири есть еврейские кладбища, там, где прежде были большие еврейские общины). Когда гроб уже опустили в могилу, ко мне подошел еврей из Литвы по фамилии Лифшиц и сказал:
— Нужно прочесть каддиш*, некому, кроме нас, это сделать.
* Еврейская заупокойная молитва.
Несколько друзей Бухштаба попросили меня написать его жене и переслать ей оставшиеся вещи. Я отправил ей небольшой чемодан с потрепанной одеждой, шапку и сапоги. Ни записей, ни писем я не нашел; долгие годы заключения и скитаний по тюрьмам, лагерям и ссылкам отучили его писать. Несколько книг, которые были у него, он подарил друзьям перед тем, как лечь в больницу.
Чтобы запомнить место, где похоронен Бухштаб, мы обнесли могилу небольшой оградой — зимой наметает столько снега, что могилу иногда невозможно отыскать.
А летом мы принесли на могилу цветы.
ГЛАВА 7 Духовенство
ГЛАВА 7
ДУХОВЕНСТВО
Идеологическую борьбу с религией начали проводить сразу же после Октябрьской революции, а через некоторое время для ликвидации «религиозных пережитков» ввели административные меры. Любое вероисповедание в основе своей считалось глубоко контрреволюционным. После ареста мне довелось встретиться с некоторыми активными участниками антирелигиозных кампаний. Теперь эти люди и сами оказались за колючей проволокой вместе с тысячами верующих, которых они прежде преследовали. (Верующих, так или иначе наказанных «за религию», иногда сажали и по другим причинам или под разными предлогами). Были в заключении и такие, кто приобщился к религии лишь после ареста. Но эти люди обычно скрывали свою веру, так как за верующими был установлен особый надзор.
Хорошим примером такого «раскаявшегося большевика» служил Г. Е. Евдокимов, с которым мы встретились в Норильском лагере в 1940 году. Сразу же по прибытии из Соловков меня, вместе с другими «зеками» направили на общие работы. Температура в тех краях зимой часто понижается до минус пятидесяти пяти, ветер — тридцать метров в секунду, а рабочий день — от темна до темна. Светло только с 11 часов утра до часу дня, так что большую часть времени мы работали в темноте, на жестоком морозе. Конечно, в таких условиях я продержался бы не долго, но мне повезло — туда прислали моего бывшего следователя по Москве, Ильюшенко. Ильюшенко разжаловали из следователей и направили работать начальником Третьего Отдела (политического) в Норильск, что было нечто вроде ссылки. Как старому приятелю, Ильюшенко помог мне устроиться в качестве экономиста в «проектном отделе». Условия работы в таком отделе в общем напоминали условия «шарашки», описанной Солженицыным в его книге «В круге первом» (впрочем, для меня «круг» этот не был ни первым, ни последним). Из барака с уголовниками я перешел в кирпичное здание, к «сливкам» норильского общества.
Однажды вечером за мной зашел приятель, сказав, что кто-то на втором этаже хочет поговорить со мной. Меня представили высокому, крепкому, средних лет человеку по фамилии Евдокимов, чем-то напоминавшему богатыря с картины Васнецова. Но это был не тот Евдокимов, которого исключили из членов ЦК за участие в оппозиции в двадцатые годы. Этот Евдокимов тоже был старым большевиком, рабочим, вступившим в партию до революции. Он выполнял «особые поручения », был участником гражданской войны. В середине двадцатых годов он являлся членом Комиссии партийного контроля. Тогда и начались его сомнения в правильности партийной линии. Как член Комиссии, он имел доступ к материалам, касавшимся тех членов партии, которые критиковали ее генеральную линию
и предлагали разного рода изменения и реформы. Эти люди, в частности, принадлежали к таким группам, как Рабочая оппозиция (Шляпникова), группа Демократического централизма и другим. В то время в партии еще имели место широкие дискуссии об изменении основной линии. Но Евдокимов быстро разочаровался в их доводах, они казались ему поверхностными, не затрагивающими сути дела. В нем пробуждалось глубокое религиозное чувство. Сначала Евдокимова оттолкнула пропаганда воинствующего атеизма, лежащего в основе партийной доктрины, потом — вообще атеизм. Вскоре он вернулся в лоно православной церкви. С несколько смущенной улыбкой Евдокимов показал мне как-то небольшую книжку и сказал:
— Вот моя идеологическая платформа. Это было евангелие с оттиснутым на обложке крестом.
В отличие от большинства других Евдокимов был исключен из партии по собственному желанию. Сначала он был «честным беспартийным», а потом — идеологическим противником линии партии. Несколько лет прошли для него спокойно, а затем, в 1936 году, он был арестован по чьему-то доносу. На его несчастье, именно в то время требовались в срочном порядке «террористы», и Евдокимова по статье 58/8 осудили на десять лет лишения свободы. Следователь разъяснил Евдокимову, что его религиозные взгляды не играют никакой роли, так как в СССР конституцией гарантирована свобода религии. Все-таки, заметил следователь, очень странно, что такой человек, как Евдокимов, знавший лично «основателей советского государства», дошел до такого «изуверства». Тот же следователь сказал Евдокимову:
— Может, лагеря вас исправят.
Не знаю, «исправили» ли Евдокимова лагеря. В 1942 году его перевели из Норильска в какое-то другое место, и с тех пор я его больше не видел. Кроме Евдокимова, мне привелось встретить и других русских-коммунистов,
которые в зрелом возрасте обращались к вере. Но в этой главе я хочу рассказать о служителях культа, а не о просто верующих.
Первая такая встреча произошла в 1935 году в Бутырках. В камере нас было человек 50-60. Один из заключенных — старик с седой длинной бородой, которого все в камере называли «батюшкой». В тех условиях трудно было непосредственно разговаривать с людьми, но должен признаться, я особенно и не старался, ибо считал тогда, что с этим человеком у меня весьма мало общего. Все же раз-другой мне довелось переговорить с ним и я узнал, что он был священником в Елоховской церкви. Обвиняли его в том, что он в проповедях говорит о христианской любви и помощи людям. Следователи заявили ему, что он «опасный элемент» и должен быть изолирован от общества. Когда же он заметил, что его арест — свидетельство гонений на церковь, то и это тут же приобщили к делу, как доказательство его «антисоветских» взглядов.
К счастью для батюшки, то время было еще относительно либеральным (для служителей церкви) — ему даже в тюрьме разрешали носить рясу — и он получил «всего» три года ссылки. Тогда как, например, священнику, которого я встретил значительно позднее, в Александровском централе, недалеко от Иркутска, дали 25 лет за то, что он во время немецкой оккупации не покинул свою церковь на Украине и, следовательно, стал коллаборационистом.
По сравнению с православными католические священники, которых я знал в заключении, были настроены непримиримо, воинственно и фанатически отстаивали свою веру. Так, большинство священников-литовцев, которых я встречал в тайшетском лагере и в ссылке, считались политически опасными; осуждены они были за «бандитизм». Их подход к религии был несколько примитивен: они знали основы веры,
знали наизусть почти весь Новый Завет, но в философском и личном плане, по-видимому, не осмыслили своего вероучения. Эти люди были очень мужественны, бескомпромиссны и говорили, что хоть и неповинны они в приписываемых им преступлениях, они все же рады, что в заключении им дано утешать и наставлять свою паству. И, действительно, они устраивали даже общие богослужения, что вносило совершенно особую атмосферу в лагерную жизнь.
Один из таких священников мне особенно запомнился, хотя я и видел его всего один раз. Было это сразу же после прибытия в Тайшет новой крупной партии заключенных — около пяти тысяч человек. (Всего в Тайшет из западных областей СССР в 1940 году было доставлено не менее 100.000 человек). Всех этих людей трудно было разместить по баракам, они стояли толпой посреди зоны. Вдруг я увидел, что какой-то человек (как потом оказалось — католический священник — литовец), взобравшись на большой камень обратился к заключенным с проповедью. После нескольких библейских изречений он перешел к политике и стал призывать заключенных протестовать против нарушений международных и общечеловеческих законов. Затронув проблемы ООН, он напомнил слушателям, что СССР, как член этой организации, должен соблюдать ее устав и ее положения, касающиеся прав человека: «Рабство, которому мы здесь свидетели, — позор для человечества, позор для нашего времени»
Разумеется, охрана его тут же схватила и посадила в карцер. Уже приговоренный к 25 годам, он был вызван для переследствия в Иркутск. Не исключено, что, в отличие от многих других священников, реабилитированных после смерти Сталина и даже вернувшихся в свои приходы, он не дожил до счастливого момента.
Ранее, еще в Мариинском лагере, я встретил лютеранского пастора-немца, прекрасно знавшего русский и немецкий. Он жил и работал в Москве. В начале 30-х годов его пригласили на работу в немецкое по-
сольство. Он стал духовным пастырем местных лютеран и иностранцев. Пастор Рюгер был в прекрасных отношениях со всеми в Москве, включая и ГПУ. Все шло как по маслу, рассказывал мне пастор Рюгер, до тех пор, пока к власти в Германии не пришли нацисты, заменившие, конечно, всех служащих посольства. В конце концов, в посольство прибыл новый пастор. Рюгер, таким образом, лишился своей должности. Тогда ГПУ сделало попытку завербовать его для слежки за всеми немцами, с которыми ему приходилось общаться.
Рюгер отказался и в 1934 году был арестован, но не за отказ сотрудничать, а как «шпион». Его приговорили к пяти годам лагерей. В 1935 году я и встретил его. Превращение Рюгера было удивительно быстрым. Он рассказывал анекдоты (часто весьма скользкие), курил, играл в карты с уголовниками и всячески старался завоевать их доверие. Уголовные с удовольствием рассказывали друг другу про «Господина пастора», как, поджав ноги, сидит он в одной рубашке на нарах и играет в очко со своими друзьями — бандитами и убийцами. Вину за свое «грехопадение» он всецело возлагал на НКВД, оправдываясь тем, что следует приспосабливаться к среде и обстоятельствам.
Зато полностью сохранил чувство собственного достоинства и уважения к сану мусульманин — имам города Москвы, Шамсутдинов, с которым мне пришлось сидеть на Лубянке летом 1936 года. Меня привезли тогда из Сибири, чтобы привлечь к участию, в качестве свидетеля, на процессе Зиновьева-Каменева.
Я опоздал, конечно, не по своей вине, а по вине самого НКВД, который разыскивал меня по всем лагерям.
Итак, я встретил имама Шамсутдинова, казанского татарина, который стал муллой еще до революции и с тех пор жил в Москве. Мы быстро подружились, беседовали о многих интересных вещах, поскольку оба свободно говорили по-арабски. Он прекрасно знал
Коран, а я изучил арабский язык во время своего пребывания на Ближнем Востоке. Довольно скоро я понял, что он легко приспособился к советским порядкам, как приспосабливался в прошлом к порядкам царского времени, когда впервые попал в качестве муллы в Москву. Он с одинаковой лояльностью относился как к дореволюционным властям, так и к советским, поскольку полагал, что главной обязанностью духовного пастыря является забота о его мусульманской общине, и, исходя из этого, считал необходимым устанавливать хорошие отношения с властями предержащими. Он любил повторять, что все власти в мире, с одной стороны, эфемерны, а с другой — результат Божьего помысла. Поэтому даже с ГПУ он сотрудничал без особых угрызений совести.
Шамсутдинову было около шестидесяти лет. Он рассчитывал прожить жизнь в мире и достатке и при советской власти. У него была большая семья, жили они в хорошей московской квартире, имели прислугу, машину и даже своего шофера. Нужды он не знал.
Во второй половине двадцатых годов, однако, ГПУ стало требовать от него не только информации об иностранных дипломатах из мусульманских стран, но и о его собственных прихожанах — советских гражданах. Шамсутдинов говорил, что он старался не причинять никому вреда, и даже в то время все шло у него вполне гладко, но только до того момента, пока он не начал хлопотать о разрешении совершить паломничество в Мекку. С такой же просьбой обратилось и несколько других мулл. В конце концов Шамсутдинову разрешили отправиться туда вместе с муфтием из Уфы, центра советских мусульман.
Вернувшись из Мекки, Шамсутдинов почувствовал, что отношение к нему изменилось — ему стали меньше доверять, следили за ним. Он оказался прав. Вскоре его арестовали по обвинению в пронацистской пропаганде среди московских татар. Ему угрожали статьей 58/6 — шпионаж, а также обвиняли в измене родине.
После того как Шамсутдинова хорошенько запугали и «обработали», ему стали устраивать очные ставки с другими муллами, включая и уфимского муфтия, обвинявшими его в том, что он согласовал действия различных антисоветских мусульманских групп по всему Союзу.
Однажды Шамсутдинов вернулся в камеру в особенно подавленном состоянии. Он принимал участие в своего рода всесоюзном съезде высшего мусульманского духовенства. «Съезд» этот был разыгран НКВД так, что хотя все сорок принимавших в нем участие мулл были заключенными, об этом не следовало заикаться, и «съезду» надлежало создать видимость нормального и свободного собрания. Уфимский муфтий обвинил Шамсутдинова в бесчестии и сотрудничестве с Гестапо, после чего следователь НКВД зачитал уже готовый протокол «съезда», послуживший официальным доказательством вины Шамсутдинова.
Не оставалось сомнений, что Шамсутдинова расстреляют; его единственным утешением стали восточные изречения, из которых мне запомнилось одно, персидское: «Инхем мугзарет» («И это пройдет»). И прошло. Вскоре Шамсутдинова перевели в другую камеру. Как я узнал позднее, его расстреляли в конце того же 1936 года.
В этой короткой главе мне хотелось бы сказать несколько слов еще об одном духовном лице — раввине, которого я встретил в 1951 году в Тайшете. Прибыла новая партия «зеков» из Украины. Среди них мое внимание обратил на себя человек средних лет с длинной рыжей бородой. Он был совершенно измучен этапом, и не удивительно: одна нога у него была ампутирована. Он потерял ее на фронте, во время отечественной войны. Раввин Фельдман получил еврейское воспитание. С детства он хорошо говорил и писал по-древнееврейски и с детства же был страстным сионистом. В тридцатых годах, еще молодым человеком, он организовал в своем родном городе небольшую группу
евреев с целью сохранить традиционный еврейский образ жизни и мысли. Отец его, тоже раввин, учил сына, что коммунизм — зло и в основе своей враждебен еврейской традиции. Поэтому Фельдман, его друзья и ученики ненавидели не только Гитлера, но в равной мере и Сталина. Во время войны они не теряли связи друг с другом, а в 1945 году, когда оставшиеся в живых вернулись в Белую Церковь, они попросили — и добились — разрешения построить без помощи властей синагогу на месте разрушенной гитлеровцами. Фельдман был поражен, сколь охотно и много давали люди на это дело, и вскоре Белая Церковь, еще до войны служившая своего рода оазисом еврейской традиции и культуры в СССР, снова стала таким местом.
В Белую Церковь, в частности, стекалось много молодых евреев, и раввин Фельдман рассказывал мне, что их отношение к религии и еврейству было совершенно иным, чем у старших поколений. Эти молодые люди были убеждены, что евреям следует жить в своей собственной стране, Фельдман заметил, к моему изумлению, что его шестилетний сын жадно слушал иностранные радиопередачи и сообщал родителям о том, что в них говорили об Израиле. В конце 40 годов Фельдмана вызвали в МГБ и допрашивали о связях с родственниками за границей. Атмосфера в стране быстро сгущалась. Фельдмана предупредили, что он легко может оказаться там, «где живут белые медведи». Так и случилось. Вскоре фельдмана перевели в другой лагерь, и я больше ничего не слышал ни о нем самом, ни о его семье, ни об еврейской общине в Белой Церкви.
ГЛАВА 8 Сопротивление молодёжи
ГЛАВА 8
СОПРОТИВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
Читатель, возможно, помнит, что зиму 1936-37 года я провел в тюрьмах в Москве, куда меня доставили из Сибири для того, чтобы использовать в одном из предстоящих показательных процессов. Для этой цели в Москву из тюрем и лагерей перевозили тысячи заключенных: для НКВД это не составляло, конечно, большого труда. Нет ничего удивительного в том рассуждали между собой заключенные, что государство не может свести концы с концами, когда такие гигантские средства тратятся на «пассажирские перевозки» заключенных, а ведь их доставляли индивидуально, каждого под особой охраной. Так, достаточно было НКВД в Москве затребовать любого «зека» из любого лагеря от Воркуты до Колымы, от Норильска до Средней Азии, и уже, как по мановению волшебной палочки, снаряжались конвои — по четыре-пять человек на каждого заключенного. И случаев таких было бесчисленное множество.
На «пересылках» я мало-помалу убеждался, что лагеря существовали не только в отдельных районах страны, но и буквально повсюду. Это было поистине государство в государстве, живущее своей особой жизнью, по своим особым законам. Тут находились и бывшие «кадеты», и меньшевики, и анархисты, и бывшие внутрипартийные оппозиционеры, которые сидели по лагерям с начала двадцатых годов; были тут и входившие в сравнительно новые группы оппозиции. Здесь можно было изучить не только историю и географию Советского Союза, но даже философию, можно было думать, обобщать и приходить к соответствующим выводам.
В тюрьме у меня была репутация человека спокойного, с уживчивым характером (а это очень важное качество для заключенного). Поэтому меня выбрали старостой камеры. В мои обязанности входило распределение мест в камере, я должен был следить за порядком при раздаче пищи, называть номера заключенных в камере при перекличке, а также устраивать новоприбывших. Обычно новые прибывали ночью. Поэтому мне вскоре пришлось отказаться от обязанностей старосты, так как я лишался сна. Как правило, новичков не помещали вместе со старыми заключенными. Делалось это из психологических соображений — усилить шок от ареста и первого допроса. Кроме того, более опытные заключенные могли, в принципе, «подготовить» новичков, дать им какой-нибудь совет. Но однажды именно такой «зеленый» попал в нашу камеру.
В то время я еще ходил в старостах. На соседних со мной нарах жил тогда Эдуард Эдуардович Понтович, старый меньшевик, о котором я уже упоминал ранее. Лежа бок о бок, мы часто разговаривали с ним до поздней ночи. Он рассказывал множество эпизодов из своей богатой событиями жизни. После Октябрьской революции он работал юристом в ЦИКе. Председателем ЦИК был в то время Калинин, а непосредственным начальником Понтовича - секретарь ЦИКа Енукидзе. В обязанности Понтовича входило также составление текста новых законов. При Ленине у Эдуарда Эдуардовича накопился такой опыт в этом деле, что в период после смерти Ленина сформулировать новый закон представлялось для него таким же легким делом, как, скажем, написать кому-нибудь письмо. Понтович тут же разъяснил, что составлявшиеся им законы не требовали утверждения никаким законодательным органом: он просто получал записку из ЦК Партии, где указывалось что требуется такой-то и такой-то закон. Составленный текст подписывали Калинин и Енукидзе, и, таким образом, в действие вступал новый закон для 160 миллионов человек.
В 1935 году, как я уже писал, Енукидзе был отстранен от работы и арестован. Между прочим, по словам Понтовича, Енукидзе обвиняли также и в том, что у него в библиотеке работали бывшие княгини и графини. Было подсчитано, что при Енукидзе в аппарате ЦИК работало не менее 75% выходцев из привилегированных классов, а остальные — из среды бывших меньшевиков, эсеров и пр.
Понтович был исключительно начитан. В его большой квартире в лучшие времена собирались сливки московского общества, литераторы, люди из мира искусства. Он лично знал многих крупнейших литераторов старого поколения — Леонида Андреева, Блока, Цветаеву, писателей-эмигрантов Мережковского, Зинаиду Гиппиус и др. Он помогал в свое время молодым писателям и поэтам, в частности, Сергею Есенину.
Было около двух часов ночи (точно мы не знали, потому что нам не разрешалось иметь часов), как раз то время, когда обычно прибывали новые арестанты. Дверь камеры внезапно распахнулась и в нее грубо втолкнули «новичка» — молодого человека с грудой вещей. Как я говорил, в мои обязанности старосты входило устройство вновь прибывших. Как только свет от лампочки упал на лицо человека, Понтович, в ужасе схватив меня за плечо, зашептал:
— Господи, да это же Сергей Есенин!
Мне пришлось успокоить соседа:
— Есенин погиб, вы же сами были на его похоронах. Но новенький назвал свою фамилию — Есенин. Это был сын Сергея Есенина от первого брака, Юрий (со своей первой женой Есенин разошелся). Юрий вырос в семье то ли третьей, то ли четвертой жены Есенина, внучки Льва Толстого. И не удивительно, что Понтович принял Юрия за Сергея Есенина: сходство между ними было поразительное. В дальнейшем из разговора с Юрием мы узнали, что и сам он изредка пишет стихи, а что касается поэзии отца, то он всю ее знал наи-
зусть. Он также любил и хорошо пел песни, написанные на слова Есенина.
Мы устроили Юрию лучшее место в камере. Вместе с ним к нам в камеру вошел дух его отца. Даже простые люди уважали Юрия в память отца. Юрий Есенин провел в нашей камере несколько недель.
Озлобленность молодого человека, выросшего в обеспеченной семье, никого не удивляла. Мы часто советовали ему быть осторожнее, но он не мог сдержать себя и не стеснялся в выражениях. Истинная причина его озлобления заключалась в следующем: хотя Сергей Есенин, как известно, покончил жизнь самоубийством, Юрий считал, что «они затравили отца до смерти». Понтович и некоторые другие соглашались с ним.
Юрия перевели в Бутырскую тюрьму из Хабаровска — его должны были судить за участие в так называемом «заговоре террористов». В Хабаровске он проходил военную службу, которая, по его словам, ему очень нравилась. Когда его арестовали, он думал, что дело идет о каком-нибудь нарушении воинской дисциплины. Юрий даже не сразу поверил заключенным, убеждавшим его, что за такие провинности не пересылают для суда в Москву. После продолжительных разговоров мы все же поняли в чем дело. Он тоже понял и принял это очень трагически. Юрий Есенин в начале тридцатых годов был членом молодежной группы, состоявшей из детей советских высокопоставленных работников и старой интеллигенции. Некоторые из них вместе учились в школе, у некоторых родители были знакомы друг с другом. В 1935 году, после убийства Кирова, один из них, сын старого большевика, работавшего в то время прокурором, стал подбивать их выразить свое недовольство отдельными сторонами советской системы. В завязавшемся разговоре некоторые из них высказали мысль, что положение становится невыносимым, что правительство в репрессиях заходит слишком далеко и что вообще страна на краю пропасти.
Один студент даже высказал мысль, что за дело следует взяться молодежи. На это Юрий Есенин заметил, что переворот нетрудно было бы осуществить, что для этого достаточно всего несколько человек и что если бы, например, удалось взорвать Кремль, то все решилось бы само собой. Разговор этот происходил во время вечеринки. Затем начали танцевать, пить, и большинство просто забыло об этом разговоре. Однако, как узнал Юрий на первом же допросе, о разговоре стало известно НКВД, когда одного из участников вечеринки арестовали по другому делу. Содержание разговора попало в папку НКВД с надписью «Собрание террористов».
Узнав обо всем этом, мы поняли, сколь серьезно положение Юрия. Делом его, вероятно, занялся отдел борьбы с террором, и Юрию явно грозил расстрел.
К сожалению, Юрий, был уже так напуган, что не доверился нам и тем сослужил себе плохую службу. Лишь несколько недель спустя, вернувшись с очередного допроса, он рассказал нам о том, что произошло. Оказалось, что его собираются судить как одного из участников заговора, готовившихся якобы взорвать Кремль и убить его руководителей, а также использовать в качестве основного свидетеля обвинения.
Следователи вели с ним сложную игру. Сначала ему говорили, что его отец пользуется глубоким уважением в стране и что ни правительство, ни НКВД не хотят, чтобы сын Есенина попал в лагерь или тюрьму. Разговоры сопровождались угощением: Юрия угощали хорошей едой и давали курить дорогие папиросы, и у него сложилось самое лучшее впечатление о занимавшихся им следователях. Они объясняли, что ему не следует общаться с другими заключенными и что вскоре его выпустят на свободу. При этом ему ставили только одно условие: он должен был рассказать все подробности «дела» и, в случае необходимости, подтвердить их на очной ставке. В течение нескольких дней Юрий точно исполнял инструкции следователей. Других об-
виняемых в том же «заговоре» приводили по одному на очную ставку. Юрий подтверждал их признания и спорил с теми, кто отрицал предъявленные обвинения. И вдруг следователи резко изменили тон и потребовали, чтобы он подписал обвинения против самого себя. До этого Юрий был только свидетелем, а теперь, когда формулировалось окончательное обвинение по делу этой группы, выходило, что он попадает в список обвиняемых. Когда он попытался напомнить следователям об их обещании, ему заявили примерно следующее:
— Подумайте, как же мы, представители органов безопасности, можем пройти мимо таких преступлений, направленных против нашего руководства?
Однако, при этом они все же обнадеживали Юрия, говоря, что, возможно, как сыну Есенина, ему удастся отделаться пятью годами тюрьмы. Этому никто из нас не верил. В 1937 году всякое обвинение в терроре влекло за собой самые беспощадные меры. Обвинявшиеся в «терроре» попадали под статью 58 — 8 и, как правило, расстреливались. Кроме того, было ясно, что Юрия судили не только как участника так называемой «террористической группы», но и как ее руководителя, и поэтому он, вероятнее всего, получит «вышку». Трудно было в этом положении помочь ему советом. А еще через несколько дней Юрия увели из камеры. Насколько нам удалось установить, все обвинявшиеся по этому делу были расстреляны. Если бы Юрия присудили только к тюрьме или лагерю, о нем стало бы известно, особенно если вспомнить, какой огромной популярностью пользуется в Советском Союзе имя его отца — Сергея Есенина. Что же касается следователей аппарата госбезопасности, то они не только не были заинтересованы в том, чтобы сохранить жизнь сыну Есенина, но наоборот, вероятнее всего, имели инструкции избавиться от него.
Хорошо запомнился еще один случай: утро в том же 1937 году, некоторое время спустя после описанного выше. Спал я очень плохо, однако перед тем как проснуться, увидел короткий, но яркий и благодатный сон. Сон этот явился как бы ответом на те мысли, которые прежде мешали мне спать.
Многие мои сокамерники шли по статье 58 — 8, то есть по обвинению в «террор », за что давали расстрел. Большинство из них, если не все, были невиновны. Никто и не признал себя виновным. Какие же основания были у органов безопасности представлять дело так, будто вся страна находится под угрозой террористов?
Приснилось же мне, что двери тюрьмы широко распахнулись и на пороге стоят двое молодых людей, одетых в студенческие тужурки. Из тюремных ворот хлынули на волю заключенные. У каждого в руках был обвинительный акт, который он отдавал при выходе студентам. А студенты рвали эти бумажки на мелкие кусочки, смеялись и говорили:
— Нет виновных в терроре. Расходитесь по домам. Возвращайтесь к женам, к детям. Идите себе с миром.
Каждое утро наша камера превращалась в какое-то подобие канцелярии, где сны распределялись, классифицировались и получали оценку по категории добрых и дурных предзнаменований. Сны — это та связь заключенного с внешним миром, какую не может прервать никакая тюремная изоляция. Поэтому заключенные подолгу и с большой охотой говорят о своих сновидениях.
Но на этот раз у меня не оказалось времени поделиться своим ночным видением, потому что в камеру втолкнули одновременно двух новеньких. Особенно странным показалось мне, что один из них, молодой, худощавый, решительного вида человек, оказавшийся, как выяснилось, студентом, был так похож
на одного из студентов, привидившихся мне во сне.
Фамилия его была Иванов. Имя — Дмитрий. Его напарник — Александр Дубинский был гораздо старше Иванова, с крупными чертами лица, умными глазами за толстыми стеклами очков. Александр Дубинский и Дмитрий Иванов, несмотря на большую разницу в возрасте, очень дружили, отчасти потому, что оба были ленинградцами. А это, говорил Дубинский, связывало прочнее кандалов.
Обоих перевели в Бутырки из другой тюрьмы. Когда мы спросили Иванова, в чем его обвиняют, он ответил твердо и с достоинством.
— Я - террорист.
Такого признания нам прежде слышать не приходилось.
Это произвело на нас глубокое впечатление. Дубинскому и Иванову уступили места получше, какие обычно не доставались новоприбывшим. Мы с нетерпением стали ожидать их историю. Иванов, однако, после своего столь громкого заявления, погрузился в полное молчание, продолжавшееся несколько дней. За него разговорился Дубинский. Дубинский оказался очень общительным человеком с замечательным чувством юмора, чего так недоставало в нашей угрюмой и мрачной камере.
Выяснилось, что у меня и у Дубинского есть о чем поговорить, да и вообще у нас с ним было много общего. Мы быстро подружились.
Александр Дубинский родился в Петербурге. Там же в молодости он принимал участие в первой русской революции 1905 года. Потом эмигрировал в Швейцарию, встречался там с Лениным, Зиновьевым и многими другими лидерами русской социал-демократии в эмиграции. Вслед за Лениным — и тоже в немецком поезде — Дубинский в 1917 году вернулся в Петербург.
Позднее мне приходилось встречать меньшевиков, утверждавших, что пораженчество Ленина во время войны было тактическим маневром на пути к захвату
власти в России. Ленину поэтому в тяжкую вину вменяли его попытки договориться с немецкими «империалистами». Дубинский считал, что Ленин был заинтересован только в мировой революции и был совершенно прав, используя «противоречия империалистического лагеря». Дубинский сообщил мне также, что фриц Платтен, западный социал-демократ, непосредственно ведший переговоры с правительствами Швейцарии и Германии о репатриации Ленина и его группы, был теперь в опале у Сталина. Позднее мне удалось выяснить, что Платтен действительно был арестован в 1939 году и погиб в одном из сталинских концлагерей.
Дубинский сыграл довольно значительную роль в Октябрьской революции и гражданской войне и был одним из основателей института Маркса-Энгельса-Ленина. Но теснейшим образом он был связан с руководителями так называемой «ленинградской оппозиции» — Евдокимовым, Бакаевым, Гертиком, Сафаровым, а также с Зиновьевым и Каменевым.
Именно эти люди считали себя настоящим ядром партии, но они, как объяснял Дубинский, были обречены с самого начала борьбы в партии. До Октябрьской революции и вскоре после нее они высказались за коалицию с меньшевиками, анархистами, эсерами и другими левыми партиями — в отличие от Ленина и других, признававших только правительство большевиков. Дубинский в 1937 году полагал, что если бы у власти стояла левая коалиция, многого в дальнейшем можно было бы избежать. В этом случае удалось бы осуществить, как думал Дубинский, контакт с западными социалистическими и социал-демократическими партиями. Советский Союз не оказался бы изолированным на мировой арене, не потребовалось бы таких страшных жертв от народа.
Дубинский рассказал об одном своем разговоре с Каменевым — после выступления последнего на одном из заводов. Рабочие были истощены, одеты в лохмотья,
а стояли морозы. Все это приводило к резкому снижению выпуска продукции. Наедине с Дубинским Каменев признался:
— Если бы только нас тогда послушали. Мир теперь не был бы враждебен к нам. Не пришлось бы возлагать такое непосильное бремя на плечи народа.
Дубинский тогда напомнил Каменеву, что в случае создания коалиционного правительства, большевики могли бы оказаться в меньшинстве.
— Ну и что из этого? — возразил Каменев. — Мы оказались бы на некоторое время в оппозиции, а потом, когда народ поддержал бы нас, пришли бы к власти. Но в общем-то, снявши голову по волосам не плачут. Обратного пути нет и нужно продолжать начатое.
Дубинский рассказывал и о сомнениях своих друзей в период введения в стране НЭПа: ведь если Россия не готова была к социализму, рассуждали некоторые из них, то зачем тогда и добытая такой ценой диктатура пролетариата? Дубинский говорил о том, что в партийных рядах тогда усиливалось недовольство репрессиями, направленными против рабочих, и запретом критики и права дискуссий внутри партии. Когда же различные оппозиционно настроенные группировки поняли, что им следует объединиться против Сталина, было поздно. Власть уже перешла от партии, представлявшей революционное движение, к аппаратчикам, привыкшим выполнять директивы сверху. Сталинский абсолютизм в создавшихся условиях стал непобедим. Не было тогда никого в партийных верхах, кто мог бы взять на себя роль политического руководителя и вождя. Троцкому так и не удалось до конца уяснить себе всю важность контроля партийных низов. А именно эту сторону ленинской традиции хорошо усвоил и умел использовать Сталин. Троцкий мог бы даже в изгнании объединить вокруг себя миллионы рабочих на Западе, если бы он только отказался от своего крайнего и бескомпромиссного доктринерства, приводившего ко все большему расколу. Таким образом,
физическое уничтожение революционно настроенных русских рабочих в период сталинизма прошло, по существу, без каких-либо серьезных протестов со стороны рабочего класса на Западе.
Как и многие другие партийцы-оппозиционеры, Дубинский в середине двадцатых годов был выслан, а когда он вернулся в Ленинград, пять лет спустя, то с головой ушел в работу, по-видимому, примирившись с официальной партийной линией, но затаив горькое разочарование. Позднее ему стало совершенно ясно, что остатки партийной оппозиции давно и окончательно упустили возможность добиться чего бы то ни было, полностью дискредитировали себя в глазах народных масс и стали поэтому легкой добычей сталинского аппарата. Не удивительно поэтому, что многие в стране даже испытывали чувство удовлетворения, когда сообщалось о физическом уничтожении почти всей старой большевистской гвардии. Иногда заключенные замечали по этому поводу:
— Ну, теперь и умереть не страшно — раз довелось дожить до такого дня.
Но даже и Дубинского озадачивал тот факт, что Сталин решился на физическое уничтожение людей уже тогда, когда власть его окончательно укрепилась, и ему фактически ничто не угрожало.
В течение нескольких дней никого из нас не вызывали на допросы, и жизнь в нашей камере как бы остановилась.
Иванов очень редко включался в наши разговоры. Дубинский старался шутить с ним, пытался развеселить его. Но и сам Дубинский отлично понимал, что положение Иванова, да и его собственное, по сути дела, безнадежно. Все же у них, как у заключенных в романе Анатоля Франса «Боги жаждут», теплилась одна смутная надежда — может быть, о них забудут хоть на какое-то время. Если бы следствие затянулось на несколько месяцев, была бы хоть минимальная надежда, что
им удастся отделаться пожизненным сроком. Главное было — избежать мясорубки, пока она на полном ходу.
А то, что мясорубка не работала вхолостую, подтверждалось тем, что в камеру продолжали прибывать все новые и новые «террористы» — большинство из них — недавно арестованные рабочие и члены партии.
Однажды в камеру втолкнули яростно упиравшегося человека. Как только дверь камеры захлопнулась, человек этот стал отчаянно стучать в дверь кулаком. Потом он немного успокоился, повернулся к нам, и мы увидели, что это был юноша, страшно истощенный, одетый в лохмотья. Вместо того, чтобы попытаться добыть, как обычно делалось, «хорошее местечко» у окна, он огляделся, словно подбирая себе компанию, и, обращаясь к Иванову и Дубинскому, спросил:
—58-8?
Затем, присев возле Иванова, он принялся ругаться так, как мне редко приходилось слышать. Страшно было, что он поносил партию, правительство и самого Сталина. А это было чудовищно опасно и для тех, кто его слушал. Иванов пытался намекнуть ему, что в камере есть «сексоты».
— Пусть слушают, гады, — ответил ему юноша. — Мне теперь нечего терять.
Этот юноша тоже успел побывать в оппозиции.
— Теперь все видят, что мы были правы, — продолжал он. — Но теперь-то дело и не в оппозиции. Они пытаются стереть вообще все живое в стране. Теперь — конец рабочему движению не только у нас, но и во всем мире. Даже через столетия русских революционеров будут проклинать на всех площадях... Увидите, Запад выступит... Рабочие во всем мире будут счастливы, когда эту падаль сметут с лица земли...
Мы слушали, не в силах произнести звука от изумления. Вскоре после этого дверь камеры снова распахнулась, юношу вывели, и я больше никогда о нем не слышал.
Характерной была реакция заключенных в нашей
камере на его появление и исчезновение. Одни молчали, не в силах прийти в себя. Другие шептали:
— Бедолага, что пришлось пережить, видимо.
Но вслух почти все заявили одно и то же:
— Вот вам типичная «контра» и к тому же опасная.
А один бывший адвокат даже произнес целую речь о том, что « государство вполне справедливо принимает меры, чтобы оградить себя и народ от подобных преступников».
Если бы молодого человека судил не особый трибунал, а заключенные нашей камеры, все до одного обвинявшиеся в контрреволюционной деятельности, нет сомнения в том, что вслух и они приговорили бы его к «высшей мере». Другими словами, засудили бы его не менее жестоко, чем особый трибунал.
В действительности же почти все мы были полностью согласны и сочувствовали молодому человеку, но не решались этого высказать из одной только боязни, что он мог быть подослан к нам в качестве провокатора. Со временем, однако, я пришел к убеждению, что этот юноша не был провокатором, физические пытки применялись редко в то время. Их начали широко вводить только во второй половине 1937 года. Но с тех пор и до 1939 года, а потом — во время войны и в конце сороковых годов, пытки применялись в девяти случаях из десяти. В результате люди подписывали « признания » в несуществующих преступлениях, втягивая в них сотни ни в чем неповинных людей. А некоторые из тех, кто не мог заставить себя пойти на это, выбирали такой же верный, но более быстрый путь к смерти: они просто говорили то, что думали, то, что у них накопилось на душе. Они безостановочно говорили целыми сутками на допросах и требовали, чтобы следователи все заносили в протокол. После этого им, конечно, нечего было бояться «сексотов». Поэтому они и пользовались всяким удобным случаем, чтобы поведать свои мысли и чувства другим заключенным, чтобы те запомнили, если выживут, их «заветы».
Это был первый из многочисленных случаев, свидетелем которых я впоследствии бывал. Он, видимо, произвел такое впечатление на Иванова, что тот нарушил обет молчания. Услышали мы от него примерно следующее:
Как и Дубинский, он был родом из Ленинграда. Родители его были членами партии. Отец погиб во время гражданской войны.
День смерти Ленина Иванов считал самым тяжелым днем в своей жизни. Он сразу же вступил в Комсомол и с головой ушел в комсомольскую работу. В уставе Комсомола (впоследствии измененном Сталиным) говорилось, что Октябрьская революция — только первое звено будущей мировой революции, и в Ленинграде, где особенно сильны были интернационалистские традиции, комсомольская молодежь жила в ожидании неминуемого революционного отклика в Лондоне, Берлине, Париже и, может быть, даже в Нью-Йорке.
Троцкий говорил, что большевики захватили власть без особого труда, но что дальнейший путь к коммунизму будет долгим и ухабистым. С другой стороны, в Англии, например, свергнуть существующий строй будет исключительно трудно, поскольку строй этот крепок и приспособлен к современным условиям в мире; зато путь к коммунизму там будет легким и скорым, вроде езды по асфальту. С точки зрения Троцкого, такой стране, как Россия, с отсталой экономикой, с враждебно настроенными массами крестьянства, трудно будет добиться победы социализма. По его мнению, успех или поражение русской революции определятся тем, что произойдет за рубежом: победа и освобождение западного пролетариата будут в то же время и победой русской революции.
Той же точки зрения придерживались и руководители «ленинградской оппозиции». Поражение ленинградской парторганизации на 14 съезде в 1925 году было для Иванова и его друзей горьким и неожиданным. Вслед за этим немедленно последовали репрессии.
В Ленинград прибыла комиссия ЦК партии, которая отстранила от работы все руководство ленинградской комсомольской организации. Были проведены открытые партийные собрания, на которых, хотя и безуспешно, пытались убедить членов партии в правильности генеральной линии, разъясняя им, в чем именно состоит эта линия. Отдельным представителям оппозиции изредка удавалось встретиться. На таких неофициальных встречах высказывалось мнение, что хотя к власти временно и пришла «клика Сталина-Бухарина», тем не менее, победа эта непродолжительна, и на смену ей к руководству в партии снова придут настоящие ленинцы.
Оппозиция 1927 года прибавила оптимизма. Иванов вместе с другими принял участие в антисталинских демонстрациях в ноябре. Но поражение этой группы окончательно выбило почву из под ног Иванова и его друзей Непосредственно после этого, при активном участии органов ГПУ, началась окончательная, хотя еще и не физическая, ликвидация ленинградского комсомольского руководства. Часть его была морально скомпрометирована, часть сломлена окончательно. После того, как члены этого руководства лишились всякой организационной опоры (1928-1930 годы), большинство из них было снято с работы и отправлено по тюрьмам и в ссылку. Иванов и его друзья не изменили, однако, своих взглядов, хотя, конечно, не высказывали своего мнения открыто и даже согласились, на бумаге, отказаться от борьбы с партийным руководством и партийной линией.
— Значит, вы согласны с обвинением оппозиции в лицемерии? — спросил я Иванова.
— В лицемерии следует обвинять партию. В партии приходится постоянно лицемерить.
Еще задолго до 1934 года, утверждал Иванов, в ЦК прекрасно знали, что не только остатки оппозиции, но и гораздо более широкие круги «правоверных» членов партии испытывали глубокое недовольство.
— Потому мы и были убеждены, что падение Сталина — дело времени, — продолжал он. — Вопрос заключался только в том, кто выстрелит первым.
Выходит, дело шло действительно к стрельбе и террору? — снова спросил я. — Может быть, обвинение ленинградского комсомола в том, что он ответствен за убийство Кирова, было справедливым?
— Нет, — ответил Иванов. — Можете мне поверить. И я поверил ему, а мои дальнейшие разговоры с заключенными, непосредственно знавшими все подробности дела, подтвердили это убеждение. Мне довелось встречать как самих участников бывшей оппозиции, так и некоторых бывших работников органов госбезопасности, занимавшихся этим делом. Многие из них явно намекали на то, что Николаев, стрелявший в Кирова, был связан с органами НКВД в Ленинграде, а возможно и в Москве. Что касается личного участия Сталина в этом убийстве, то об этом я услышал впервые только за границей, после моего освобождения. Надо сказать, однако, что обвинениям ленинградской комсомольской организации в убийстве Кирова никто не верил. Известие это пришло, говорил мне Иванов, как гром среди ясного неба. Первый секретарь горкома комсомола, а также большинство руководящих работников, входивших в комсомольскую организацию Ленинграда в двадцатых годах, были арестованы в день убийства. Самого Иванова взяли в ночь после похорон Кирова. В тот же день сообщили о первом массовом расстреле на основании декрета о борьбе с «террором», обнародованного в день убийства Кирова 1 декабря 1934 года.
Иванова обвиняли в связи с так называемой «Котолыновской террористической группой». Все шестнадцать участников этой группы были впоследствии расстреляны. Тридцать человек, связанных с этой группой, присутствовали на суде (в том числе и Иванов), но их дела были внезапно отложены для дальнейшего следствия.
О расстрелах «Котолыновской группы» газеты сообщили, но о суде над ними не упомянули. Судя по тому, что рассказал мне Иванов, маловероятно, чтобы разбор этого дела когда-либо был предан гласности: обвиняемые открыто заявляли о своей ненависти к Сталину и введенным им порядкам, считая свою позицию абсолютно законной и оправданной, а также о своей приверженности к лучшим дореволюционным традициям. Иванов так живо и с таким чувством описывал ленинградский процесс, что мне казалось, будто я и сам там присутствую.
Огромное впечатление произвела на суде речь Володи Левина. Левин с самого начала заявил, что не намерен вдаваться в детали предъявляемых ему обвинений:
— Я знаю, — сказал он, — что это мое последнее слово не только на суде, но вообще в моей жизни. И хотя тут в зале присутствуют только ваши люди, — продолжал Володя, обращаясь к судьям, — я все-таки скажу всю правду, скажу ее от имени комсомола, от имени старых большевиков, от имени рабочего класса...
Постоянно прерываемый судьями, требовавшими, чтобы он говорил только по существу, Левин говорил много и страстно. О преступлениях против крестьян, о преступлениях против рабочих, о том, что рабочий класс живет хуже чем при царе.
— А мы, — продолжал он, — взявшие в свои руки власть от имени народа, не имеем даже права открыто выступать с критикой создавшегося положения...
Левин говорил о преследованиях, которым подвергались бывшие комсомольцы, поддержавшие оппозицию, о том, что их объявили контрреволюционерами, хотя «детьми мы принимали участие в революции, Отцы наши погибали за нее, они воспитали нас в лучших революционных традициях». Володя открыто заявил о предательстве идеалов революции, о грозившей Советскому Союзу, а может и всему миру, духовной и
физической катастрофе, о том, что нужно что-то сделать, чтобы предотвратить ее.
От Левина требовали данных о заговорах, покушениях, тайных складах оружия, данных, которых у него не было.
— Но, — заявил он, — когда на одной чаше весов — жизнь одного человека, а на другой — миллионы, которых он привел к несчастью...
Как только Левин произнес имя Сталина, его сейчас же вывели из зала суда.
Заявления остальных членов группы ненамного отличались от заявления Левина. Кроме того, они решительно отвергли обвинения в заговоре с целью убийства Кирова, но открыто признались в ненависти к методам Сталина и НКВД.
Этого, разумеется, было более чем достаточно, чтобы всех подсудимых приговорили к расстрелу; тех же, кто присутствовал на суде и кого до поры до времени пощадили, впоследствии тоже расстреляли. Суд ярко вскрыл настроение значительного числа молодых членов партии, а также тех, кто в ней не состоял.
— Наше несчастье в том, — говорил Иванов, — что нас очень много.
Кроме того, напряженность в стране усиливалась и в силу самого факта массовых репрессий. Массовые репрессии вызывали массовое недовольство, за которым следовали новые репрессии и, таким образом, политику террора было трудно или даже невозможно остановить.
По мере того, как продолжались массовые репрессии, я все чаще и чаще задумывался, в чем их настоящее объяснение. И я пришел к неожиданным выводам.
История двадцатых и начала тридцатых годов — это история непрерывной внутрипартийной борьбы. В то время как партия видоизменялась по самой своей сути, все более превращаясь из политического движения в бюрократически-исполнительную машину,
внутри партии различные группы, одна за другой, как бы выпадали на дно раствора в качестве кристаллов беззащитной и бессильной оппозиции. Руководители этих оппозиционных групп не смели обратиться за поддержкой и помощью вне партии ни у себя в стране, ни за границей.
От лидеров рабочего движения на Западе их отделяла стена нетерпимости и конформизма, унаследованного от раннего большевистского движения. Большевизм, по существу, повел не к мировой революции, а наоборот, к полной изоляции от пролетарского движения на Западе, к изоляции от собственного рабочего класса, к полной сдаче на милость Сталина. Идеологические противники Сталина, в противоположность дореволюционным противникам царизма — социалистам, совершенно не пользовались никакой международной поддержкой. Напротив, к началу тридцатых годов престиж Сталина за рубежом возрос, как никогда. Для левых Сталин был героем, для правых — источником стабильности, человеком, положившим конец, с их точки зрения, эпохе Октября. Появление нацизма и фашизма вообще практически исключало самую возможность обращения русских коммунистов-оппозиционеров за иностранной помощью.
Но еще более значительным оказался тот факт, что и сами партийцы — противники сталинизма были тоже безнадежно скомпрометированы в глазах народных масс поддержкой и участием в насильственной коллективизации со всеми связанными с ней ужасами.
Поэтому единственным оставшимся у них оружием был террор: убийство Сталина и его группы. Против террора тоже было много возражений, отчасти идеологического порядка. Большевики всегда возражали против террора, даже в их борьбе против царского режима. Террор (индивидуальный, но не массовый) неоднократно осуждался большевистскими идеологами как политически малоэффективное оружие, вызывающее тяжелые потери в людях, а также трудно поддающееся
контролю из центра. Может быть, эта антитеррористическая традиция русской социал-демократии, и отчасти большевизма, и была одной из существенных причин поражения оппозиционных групп.
Сталин же, видимо, полагал, что некоторые из оппозиционных групп не остановились бы перед террором, и считал, что именно в этом, а не в усилении нацистской Германии, таится для него главная опасность. Он полагал, что оппозиция допускает ошибку, не прибегая к террору. Поэтому «большой террор» сталинщины можно считать чем-то вроде профилактической меры против возможного «террора» оппозиции.
Развязав террор, контролируемый Сталиным, правительство не могло уже остановиться. Там прекрасно понимали, что чем шире он сверху, тем больше потенциальное сопротивление, хотя и загнанное страхом в глубочайшее подполье. Поэтому с помощью «большого террора» Сталин пытался проникнуть в самые сокровенные мусли людей и даже в их подсознание. Он был убежден, что в результате проводимого террора где-то должно проявиться противодействие ему, Сталину. В особенности же он боялся оставшихся еще в живых революционных кадров октябрьского поколения, тех, кто был искренне предан делу коммунизма.
Из разговоров с заключенными, а впоследствии с сотрудниками органов безопасности, я вновь и вновь убеждался, что большинству из них было совершенно непонятно, что же на самом деле происходит вокруг них и почему.
Сталин, конечно же, нисколько не заблуждался относительно того, что жертвы не простят ни его самого, ни ближайших его соратников. Поэтому он часто использовал свои будущие жертвы в качестве соучастников преступлений. Поэтому-то арестованные в тридцатых годах, а затем выпущенные по тем или иным соображениям, были снова арестованы в сороковых; и каждая волна террора тридцатых годов завершалась почти поголовным уничтожением аппарата госбезо-
пасности, осуществлявшего на практике этот террор. Это был своего рода обряд искупительной жертвы.
Подобно своим идеологическим противникам, Сталин основательно изучил историю. Если большевики усвоили урок истории о том, что для окончательной победы революции следует использовать любые средства, не останавливаясь перед террором, то Сталин, сделав из этого соответствующий вывод, продолжил и «развил» теорию революции в период абсолютной тирании. И потому-то взрыв, казавшийся как будто неизбежным, так и не последовал. После каждой страшной волны апокалипсиса террора наступало некоторое его ослабление, хотя террор при Сталине полностью никогда не прекращался.
С 1933 до 1953 года целью Сталина было предупреждение малейшей попытки политической инициативы снизу, будь то попытка действовать или даже думать, потому что полное уничтожение всех без исключения потенциальных противников не представлялось возможным физически.
Только после смерти Сталина, да и то очень робко, стали предпринимать попытки вывести советский народ из того паралича, в котором он находился от постоянной «профилактики».
Прибегая к помощи органов госбезопасности, советский государственный аппарат и теперь пользуется историческим опытом. Только учитывая разницу между нынешней тиранией и тиранией исторических эпох, можно дать анализ современных событий, а также оценку перспектив на ближайшее будущее.
Иногда в защиту Сталина приводят аргумент, что-де террор тридцатых годов был ценой за индустриализацию Советского Союза. На это можно возразить хотя бы тем, что в процессе террора погибли именно те, кто принимал активнейшее участие в великой стройке конца двадцатых — начала тридцатых годов. Ведь
главными проводниками в жизнь первого и второго пятилетних планов были как раз «оппозиционеры», отдавшие строительству все свои силы и энергию, независимо от того, соглашались ли они с политикой Сталина или нет. В то же время они помогли укрепить сталинский аппарат угнетения и репрессий, став впоследствии его жертвами. Многие такие специалисты работали в Наркомтяжпроме, главой которого, как известно, в годы пятилеток был Серго Орджоникидзе, верный друг Сталина. Сам Орджоникидзе был ликвидирован в ходе террора, а вместе с ним и большинство руководящих работников его наркомата. Теперь Орджоникидзе назван в БСЭ «выдающимся организатором советской промышленности».
Мне довелось встретиться с молодым грузином, бывшим протеже как Орджоникидзе, так и самого Сталина. С этим высоким, стройным и энергичным человеком, Бессо Ломинадзе, мы встретились на одном из заседаний Исполнительного Комитета Коминтерна в конце двадцатых годов. В начале своей карьеры Ломинадзе быстро выдвинулся на комсомольской работе. Хотя в дальнейшем он находился под влиянием некоторых более или менее независимых партийных идеологов, тем не менее он стойко поддерживал и «генеральную линию» партии, и самого Сталина в его борьбе с оппозицией. Так он стал не только членом ЦК Коммунистического Интернационала молодежи, но и представителем СССР в его Исполкоме. В 1929 году он уже помогал Мануильскому и Пятницкому формулировать политику Коминтерна в ряде вопросов, а до этого провел два года на партийной работе в Китае.
В середине двадцатых годов Троцкий резко критиковал политику Сталина по китайскому вопросу и, в частности, явно недостаточную помощь китайской компартии. Тогда Сталин послал в Китай Гейнца Неймана, в сопровождении Бессо Ломинадзе, чтобы поднять восстание в Кантоне. Восстание было очень плохо подготовлено и кончилось полным провалом.
Но в результате его разгрома, сопровождавшегося кровавым расстрелом рабочих, власть в стране надолго осталась в руках Чан Кай-ши. Эту непродуманную и опасную авантюру Сталин, однако, решил выдать за духовную победу рабочего класса и компартии Китая, а Ломинадзе — один из немногих, вернувшихся из Китая — стал соответственно героем дня.
Я часто виделся с Ломинадзе. Он был преданным сталинистом, но страдал одним недостатком: вразрез с установками Коминтерна предпочитал более динамичную и агрессивную ставку на мировую революцию. Ломинадзе приводил в пример коллективизацию и говорил, что если можно у себя дома прибегать к крайне радикальным мерам, то почему не перенести ту же тактику в работу Коминтерна в международных масштабах?
И наоборот, когда в 1930 году Ломинадзе окончательно убедился в том, что мировая революция откладывается надолго, у него возникли сомнения в правильности и справедливости политики насильственной коллективизации. Он также выражал недовольство бюрократией и отсутствием внутрипартийной демократии. Как-то в 1931 году Ломинадзе при встрече со мной и в присутствии еще одного своего друга открыто выразил недовольство курсом Сталина. Он, в частности, считал, что теперь, после окончательной победы над левой и правой оппозицией, в партии следует провести коренную перестройку и перестановку кадров.
— А с генсеком как быть? — спросил друг Ломинадзе.
— Когда весной в квартире делают генеральную уборку, перемещают всю мебель, без исключения, даже самую громоздкую.
— Кто же мог бы его заменить?
— А уж это дело съезда партии. На ответственные посты следует выдвигать молодые кадры, менее замешанные в прошлом в борьбу фракций, но имеющие опыт в работе.
Нечего и говорить, что такие разговоры были крайне
опасны. У меня даже мелькнула мысль, что Ломинадзе, возможно, сам метит на пост генсека. А еще через два года мои предположения подтвердились. Была опубликована резолюция ЦК о так называемой «группе Ломинадзе», открыто требовавшей устранения Сталина с должности генерального секретаря.
Трудно сказать, родился ли Бессо в рубашке или же в самом деле, как некоторые утверждали, «Сталин любил его как сына», но Ломинадзе даже не был арестован. Его перевели на должность секретаря партбюро огромного нового Магнитогорского комбината. А в те времена с таких крупных постов в промышленности члены партии попадали иногда на ответственную работу в центральный партийный аппарат.
На 17 партсъезде Ломинадзе, как и многие другие, прежде резко критиковавшие Сталина, голосовал за его переизбрание на должность генсека, а в последующий период твердо проводил и пропагандировал «генеральную линию партии».
К тому времени у меня уже не было с ним личных контактов, и о дальнейшей судьбе Ломинадзе я узнал от его близкого друга, одного из заключенных в Мариинском лагере, летом 1935 года. Этого заключенного я назову «Мироновым». «Миронов» работал с Ломинадзе в руководстве комсомола, а потом был его заместителем на Магнитке.
Там, на Магнитогорском комбинате, Ломинадзе проработал два года с присущей ему энергией, хотя может быть, и без энтузиазма первых комсомольских лет.
В декабре 1934 года пришло известие об убийстве Кирова и о начавшейся в связи с этим волне массовых арестов и расстрелов в Ленинграде и Москве. Ломинадзе стал нервным и выглядел подавленным. Бессо заходил к «Миронову» поздно вечером. Слушали вместе последние известия. Иногда Ломинадзе предлагал пройтись по пустым морозным улицам. Тогда он, не переставая, говорил о судьбе партии, о том, кого «обстоятельства привели к власти» в партии и в стране,
о своих ближайших сотрудниках в партийном аппарате. Ломинадзе хорошо знал Сталина и предупреждал «Миронова», что Сталин способен на все, что у него мстительности восточного тирана сочетается с железной целеустремленностью старого большевика.
В качестве секретаря парткома Бессо получил «закрытое письмо» ЦК в связи с убийством Кирова и должен был ознакомить с ним других членов местной организации. Письмо это — о «двурушничестве» и с призывами к усилению «бдительности» — сразу же наэлектризовало атмосферу. Никто не был уверен в своей судьбе. Подозревать друг друга в «двурушничестве» стало тогда священным долгом каждого члена партии.
В январе 1935 года, после суда над «Котолыновской группой», Ломинадзе срочно вызвали в Москву. Уехал он, не успев даже проститься с семьей. Вернулся неделю спустя, смертельно усталый и глубоко подавленный. «Миронов» видел его в тот же день. Оказалось, что телеграмма — вызов из Москвы — была от Серго Орджоникидзе, от которого Ломинадзе узнал о масштабах катастрофы. Сталин, как выяснилось, винил себя за недостаток «бдительности», за излишнюю «доверчивость». Теперь, угрожал Сталин, «не только щепки полетят, но рубить будут весь лес — под самый корень». «Лес» недовольных и потенциальных «двурушников». Лично Орджоникидзе и Ломинадзе, как полагают, были в милости. Но это в лучшем случае могло означать, что опасность, нависавшая и над ними, не столь остра. Они прекрасно сознавали, что всем без исключения, занимавшим в прошлом или занимающим в настоящем сколько-нибудь ответственные посты, грозит конец. Никто, впрочем, не мог предсказать, как далеко зайдет Сталин в развязанном им терроре. Орджоникидзе выхода не видел.
Перед отъездом из Москвы Бессо удалось повидаться со Сталиным. Но Сталин принял его холодно. Это привело Бессо в отчаяние. «Миронов» спросил его,
можно ли еще спасти положение. После долгого раздумья Бессо ответил:
— Есть только один выход. Если тысячи пойдут на это: не на демонстрации, не на протесты, а на смерть. «Миронов» спросил его, что это значит.
— Именно то, что я сказал. Сто тысяч самоубийств ведущих членов партии заставили бы Сталина призадуматься.
В Магнитогорске уже шли массовые аресты. В чем обвинялись арестованные — было неизвестно. Ломинадзе никто не предупредил об арестах. Не считали больше нужным ни советоваться с секретарем парткома, ни даже ставить его в известность. Теперь НКВД действовал без всякого контроля со стороны местных парторганизаций. Любого могли взять — и в любую минуту.
Однажды Бессо позвонили из Челябинска. Секретарем обкома там был близкий друг Ломинадзе. Бессо сказал «Миронову», что немедленно выезжает в Челябинск, вызвал машину, но отпустил шофера, сказав, что сам поведет ее. В последний момент он попросил у шофера пистолет под предлогом, что будет возвращаться очень поздно.
Обеспокоенные друзья решили следовать за ним. На полпути к Челябинску они увидели его машину, а неподалеку, в поле, труп застрелившегося Бессо Ломинадзе.
Через два дня в «Правде» появился некролог, в котором намеками говорилось о причинах самоубийства. Те же намеки делали и выступавшие на похоронах: они говорили об идеологической «путанице» Ломинадзе и о том, что такой выход недостоин большевика. Репрессии в Магнитогорске после этого еще больше усилились. Массовые аресты проходили в Челябинске и других крупнейших индустриальных центрах. Брали всех, имевших хоть какую-нибудь связь с Ломинадзе. Причины понятны: самоубийство Ломинадзе было истолковано, как выражение протеста, что считалось тяжким политическим преступлением.
«Миронову» на допросе сказали: «Жаль, что не удалось вовремя арестовать заговорщиков». Из этого «Миронов» заключил, что арест Ломинадзе готовился и что вызов из Челябинска мог быть предупреждением или сигналом. Ведь поскольку каждого могли обвинить в «двурушничестве», было очень опасно предупредить друга о его готовящемся аресте. На следствии, в случае ареста, такое предупреждение могло бы быть инкриминировано как «заговор».
Я спросил «Миронова», были ли еще самоубийства. Он ответил утвердительно. Но было бы еще больше, прибавил он, если бы сразу не прокатилась новая волна арестов.
Мне приходилось слышать об очень многих случаях самоубийства в 1936-1937 годах, но газеты сообщали только о тех, которые невозможно было скрыть. Назову хотя бы наиболее известные случаи — самоубийство председателя Верховного Совета БССР Червякова, председателя Совнаркома Украины Любченко, генерала Гамарника, председателя ВЦСПС Томского и Серго Орджоникидзе.
Одной из самых непопулярных и «грязных» войн в истории по заслугам считают войну 1939-1940 годов с Финляндией. Война эта была одним из величайших преступлений Сталина, как и жесточайшим его просчетом. Попыткам Сталина оправдать эту войну необходимостью обеспечить безопасность Ленинграда — никто в СССР не верил. Не верили и тому, что кампания эта — чисто карательная мера, не нарушающая принципа нейтралитета СССР во Второй мировой войне.
В 1944 году Рузвельт сказал, что у тоталитарного режима имеется преимущество: он с легкостью может манипулировать общественным мнением. Но каким бы абсолютным ни был контроль средств массовой информации, все же для успеха пропаганды требуется известное время. Пропаганда же финской войны нача-
лась в самый неподходящий момент. (Вторжение Красной Армии в Польшу, расписанное Молотовым как мирное освобождение живущих там братьев белорусов и украинцев, и нажим на прибалтийские страны были еще свежи в памяти народа). Пропаганда одновременно пыталась внушить народу, что благодаря Сталину Советский Союз живет в мире и что границы соседних с СССР стран рухнут, как стены Иерихона, от упоминания одного лишь его имени. Немного спустя объявили, будто финская война началась потому, что сами финны якобы обстреляли советские позиции на границе. Пропагандистский аппарат, видимо, полагал, что советский народ склонен поверить всему. Но как раз этому народ не поверил. На следующий день после начала финской войны одна из статей в «Правде» заканчивалась словами: «До встречи в Хельсинки». Так пытались убедить народ, что война будет молниеносной, вроде легкой прогулки для советской армии. Если уж Гитлеру удалось разгромить и оккупировать Польшу за две недели, то Сталину-де понадобится и того меньше, чтобы прибрать к рукам Финляндию.
Тот факт, что Красная Армия не добилась успеха в этой войне, можно объяснить многими причинами: во-первых, вначале была проведена мобилизация только в районе Ленинграда; во-вторых, с ликвидацией Тухачевского и практически всего высшего комсостава Красная Армия, по существу, осталась без руководства, без военных специалистов. Но главная причина как будто в том, что война не встретила понимания и сочувствия со стороны советского народа. Если кое у кого и бытовало мнение, что, мол, Финляндия исторически была частью России (до Октября), то подобные настроения диктовались, в частности, у старых членов партии тем соображением, что именно Финляндия первой из рук Ленина получила свою независимость после Октября. Одновременно это служило напоминанием о разнице между политикой Ленина и политикой Сталина.
Таковы были главные причины неудач Красной Армии в Финляндии. С другой стороны, важнейшим фактором оказалось и героическое сопротивление финнов.
В ходе пропагандистской кампании, разжигая ненависть к финнам, советская печать сообщила, будто финны хвастают тем, что каждый из них стоит сотни русских. Однако в ходе войны стало выясняться, что «хвастовство» финнов далеко не пустой звук.
То, что Красная Армия продвигалась столь медленно, с таким трудом и потерями, произвело на народ тяжелое, деморализующее впечатление. А переоценка Сталиным советской военной мощи глубоко дискредитировала советскую систему. Находились люди, которые считали, что при большей концентрации войск войну можно было выиграть быстрее. Военные же специалисты, с которыми мне пришлось разговаривать в лагере в Норильске, держались иного мнения: условия местности на советско-финской границе были таковы, что и гораздо большая концентрация войск не повлияла бы существенно на развитие военных действий и только привела бы к колоссальным потерям. Потери при попытках прорыва линии Маннергейма, а также при попытках ее обхода с флангов были весьма чувствительными. Крупные соединения попали при этом в окружение и в плен.
Весной 1940 года, когда финская война закончилась, в нашем лагере стали ждать новых заключенных. Нам не терпелось узнать, кем же окажутся эти новые арестанты. Они прибыли по Енисею до Дудинки, а оттуда по узкоколейке, на открытых платформах, в Норильск. Наше любопытство было столь велико, что, невзирая на охрану, группы заключенных подбирались как можно ближе к узкоколейке и окликали прибывающих. Один из таких « разведчиков », притаившись в кустах у насыпи, прокричал:
- Вы кто?
Не получив ответа, он предположил, что прибывающие до того напуганы, что боятся ответить. Когда
мимо проходил следующий эшелон, он подумал, что, возможно, новые заключенные — военнопленные, и крикнул:
— Вы кто? Поляки? финны?
Наконец чей-то голос из вагона перекричал шум колес:
— Какие мы, б..., финны... Мы русские.
И действительно — весь эшелон состоял из красноармейцев, захваченных в плен финнами, а затем освобожденных по соглашению о перемирии.
Новых заключенных строго изолировали, но весь лагерь скоро облетела весть, что это — бывшие советские военнопленные. Их было в Финляндии около 30 тысяч. Все были арестованы немедленно по возвращении на родину. Офицеров расстреляли, рядовых приговорили к заключению в лагерях сроком от пяти до восьми лет и немедленно отправили на этап, не разрешив даже повидаться с родными.
Даже мы, «закаленные» жертвы сталинского режима, были потрясены тем, что Сталин решился выместить на этих людях свое озлобление за неудачу в финской войне.
Позднее мне сказали, что на Западе такое отношение к попавшим в плен считается традицией царских времен. Я в этом, впрочем, далеко не уверен.
Во время войны с нацистской Германией эта жестокость оказалась еще и практически вредной. Как известно, многие бывшие военнопленные отказались вернуться и остались на Западе. Вернувшихся же массами отправляли в лагеря или расстреливали.
Перед отправкой на фронт красноармейцу вдалбливали в голову чудовищную ложь: в плен живыми не сдаются и последнюю пулю надо беречь для себя. (В особенности, конечно, это относилось к комсоставу).
Фикция, что советский воин не сдается врагу, жила вплоть до смерти Сталина. И нужно отдать должное Михаилу Шолохову: он первый в «Судьбе человека»
показал, что плен не обязательно означает позор и предательство.
Бывших военнопленных из Финляндии послали на строительство литейного цеха. Работали они в жутких условиях, полуголодные и полураздетые на сильном морозе. Им продолжали лгать, внушая, что они, мол, не преступники и будут освобождены, как только сдадут свой объект. На деле же те, кто не погиб на стройке, отсидели свой пяти- или восьмилетний срок. Причем, все это время им не разрешали переписываться с семьями, и те были уверены, что их близкие погибли на войне. На первый взгляд, эта мера казалась странной, нелогичной, так как цель-то состояла в том, чтобы на их примере научить других не сдаваться в плен. Однако отсутствие логики — составная часть террора.
К примеру, в секрете держались имена расстрелянных жертв сталинского террора. Естественно, родственники, не получая от них писем, обращались за справками. Я лично знал жену одного члена ЦК, которой в течение 17 лет говорили, что муж ее жив, но находится в заключении «без права переписки». И только в 1956 году она узнала, что он был расстрелян еще в 1938 году.
Неуверенность была, без сомнения, дополнительным фактором в системе террора. Тем не менее, я думаю, что главная причина утаивания фактов, даже от семей, крылась в колоссальных масштабах самого террора. Одно дело, когда народу сообщали, что расстреляны тогда-то и тогда-то, скажем, Зиновьев, Каменев, Бухарин и сотня других. Это звучало страшно. Но главари НКВД, вероятно, боялись, что, если станут известны действительные цифры унесенных террором, народ может не принять это столь безропотно. Поэтому даже на самых высоких ступенях партийной иерархии не имели ясного представления о масштабе террора. Была и еще одна причина: пока родственники считали, что человек находится «без права переписки» в лагерях, они и сами вели себя так, чтобы не повредить ему. Я встречал
людей, которые были способны на любой протест, на самые крайние формы сопротивления, но молчали, надеясь, что, может быть, близкие их еще живы. Знаю я и о сомнениях моей жены, считавшей, что, возможно, меня уже нет в живых. Но именно неуверенность в судьбе близких, находившихся в заключении, сковывала родственников и друзей на воле.
Во время моего пребывания в «каменном мешке», куда меня поместили после повторного ареста в Норильском лагере, я познакомился с одним из бывших военнопленных (было это вскоре после начала войны с Германией, в 1941 году). Рассказ Сережи — свидетельство о судьбе многих и многих его современников. Камера наша находилась на одной стороне коридора, шириной примерно в метр. Все находившиеся в ней были приговорены к расстрелу. Когда чей-то приговор подтверждался, человека этого переводили в камеру по другую сторону коридора, откуда его каждую минуту могли взять на расстрел. Только двое из моих сокамерников избежали расстрела. Сережа не избежал его. Ему был 21 год. Высокий, красивый парень. Отец его был пианистом, происходил из финнов, мать — русская. Сережа получил чисто советское воспитание. Конечно, он не помнил досталинские времена. Был весьма патриотически настроен, пока не попал в лагерь; полагал, что Советский Союз далеко обогнал все другие страны. Он не читал Маркса, не занимался в кружках. Его страстью была музыка, его инструментом — скрипка. Сережа уже давал концерты. Мне он рассказывал, что годы накануне финской войны (1938 и 1939) оказались самыми счастливыми в его жизни. Он был влюблен, ходил в оперу и на концерты, в общем, был молод и счастлив. В 1939 году его призвали в армию. Военная служба шла без затруднений. Все же он с нетерпением ждал демобилизации, хотел вернуться к музыке, жениться на любимой девушке.
Вскоре умер отец, которого Сережа очень любил,
мать жила в Ленинграде, и время от времени он виделся с ней, получая увольнительную с финской границы, где в то время служил.
Как только началась война, его часть немедленно была введена в бой и понесла тяжелые потери. На Сережу произвело глубокое впечатление мужество финских солдат; он видел, что для финнов это была поистине народная война.
— Против наступавшей Красной Армии сражались не только мужчины, но и женщины, старики, даже дети, — рассказывал Сережа. — Стреляли с каждого дерева, с каждой скалы.
Моральный дух красноармейцев и комсостава быстро падал. Сережа был тогда легко ранен и попал ненадолго в госпиталь. Как только он поправился, он попросил снова направить его на фронт. Но вместо этого его вызвали для беседы с руководством комсомольской организации. Сначала Сережу похвалили за храбрость на фронте, а потом сказали, что в городе Териоки создано финское правительство во главе с Куусиненом. В будущем это правительство, возглавит финскую Народную Республику, пока же оно обращалось к молодым финнам с призывом вступить в специальное финское соединение, которое бок о бок с Красной Армией должно сражаться за «освобождение» Финляндии. Сначала Сереже эта мысль понравилась, но потом он понял, к чему клонится разговор: он, Сережа, всегда считавший себя русским и знавший всего несколько слов по-фински, должен войти в такое соединение в качестве «финна». Сережа ответил, что готов выполнить любое задание, но что его место в рядах Красной Армии, поскольку он русский, а не финн. Комсомольское руководство пыталось его убедить, но безуспешно, и Сережу отпустили.
Сережа спросил меня понимаю ли я, почему его хотели определить в «финское соединение». Догадаться было нетрудно: поскольку набрать добровольцев-финнов оказалось невозможным, их следовало «делать на
заказ», подобно тому, как впоследствии, по мере надобности, стали фабриковать «поляков» и людей других национальностей.
Потом Сережу вызвали еще раз с тем, чтобы записать его «добровольцем» в финскую воинскую часть, но он снова отказался, подписав даже соответствующий документ. В то же время он вновь заявил о своей преданности и готовности служить на самом опасном участке, но в Красной Армии.
В третий раз с ним беседовал генерал, который сказал:
— Я должен сообщить вам, что ваш отказ служить в финской части является нарушением воинской дисциплины, и теперь, во время войны, это будет рассматриваться как контрреволюционное действие.
Совершенно растерянный, Сережа начал объяснять, что, по его мнению, образование дутого финского соединения не отвечает интересам Красной Армии, что национальная воинская часть должна состоять из людей данной национальности. Ему не дали договорить, тут же арестовали и объявили, что он подлежит суду военного трибунала.
Судили же его за неповиновение приказу. В обвинительном акте ничего, конечно, не говорилось о «финской» части. Судья в последний раз предложил ему повиноваться приказу. Сережа знал, что делает выбор между жизнью и смертью, но снова отказался, заявив, что, как комсомолец, не может поступить против своей совести. Будучи честным юношей, он и представить себе не мог, что можно так лгать. Кроме того, Сережа полагал, что вступив в « финскую » воинскую часть, он обманет не только финнов, но и своих товарищей — русских.
Его приговорили к расстрелу, но в последний момент расстрел заменили пятнадцатью годами заключения в лагерях. Так он попал в Норильск.
Сережа не обжаловал приговора. Он был слишком потрясен, слишком разочарован. Однако тот факт, что
он не обжаловал приговора, оказался для него роковым. Органы безопасности сделали из этого вывод: дух человека, значит, не сломлен, и поэтому его следует ликвидировать как «опасный элемент». Уже одно то, что он дожил до водворения в нашу камеру, было довольно необычно. Ведь на суде ему объявили, что он увольняется из своей части и переводится в «финскую» часть, но поскольку он не явился в эту часть, то, естественно, стал дезертиром... В лагере за Сережей была установлена неусыпная слежка и его постоянно старались спровоцировать на что-нибудь опасное для него, и он по неопытности частенько попадал в расставленные ловушки. У Сережи не было сомнения в том, что его расстреляют. Он болел цингой, а так как был и ростом выше нас и молод, то страдал от голода больше остальных. Несмотря на это, он всегда пытался помочь другим, быть хоть чем-нибудь полезным. Больше всего его мучил контраст между принципами правдивости и честности, провозглашенными советским режимом, и вопиющим нарушением тех же принципов на деле.
До того, как беда настигла его, Сережа мало задумывался о смысле жизни и смерти. Теперь же, те несколько недель, проведенных в нашей камере смертников, он только об этом и думал. Он чувствовал, что, умирая в 21 год, нельзя терять ни минуты. У каждого из нас бывали приступы отчаяния. У Сережи — реже, чем у других. Он не поддавался даже чувству тоски по родным и близким и старался вникнуть как можно глубже в понятия о добре и зле, о лжи и правде, разобраться в вопросах морали, воспитания. Сережа прислушивался к рассказам других заключенных, а потом спрашивал меня, почему, например, такие невинные люди должны погибнуть, а низкие люди, которых он встречал во множестве на воле, живут и преуспевают. Ему приходили иногда в голову странные мысли. Он, к примеру, обнаружил, что некоторые музыкальные мотивы ассоциируются у него с опреде-
ленным ходом мысли: так возникали у него в памяти то соната Бетховена, то фуга Баха или песня Шуберта. Как-то один старый партиец из нашей камеры сказал Сереже, что он должен меньше думать о себе, а больше о коллективе. Сережин ответ сразу пресек эту беседу:
— Коллектив за меня этот коридор не перешагнет. Переходить придется мне одному...
Сереже пришлось перешагнуть коридор одним из первых. За ним пришли ночью. (Позднее уводимым на расстрел стали затыкать рот, чтобы они перед смертью молчали). Когда Сережу уводили, он что-то сказал, но никто из нас его слов не разобрал.
В своих «Письмах из тюрьмы» Роза Люксембург писала, что сцена, которую ей пришлось увидеть из окна камеры на тюремном дворе во время Первой мировой войны, стала для нее символом этой войны: солдат-кучер на телеге пытался заставить двух волов сдвинуть с места непосильную поклажу. Он хлестал животных кнутом с металлическим наконечником до тех пор, пока из израненных боков не хлынула кровь.
Так и для меня судьба Сережи стала символом судьбы русского народа во время Второй мировой войны: я видел, как истек кровью дух человека, приговоренного к смерти за честность и прямоту. Сережа стал для меня еще и символом страшного злоупотребления властью и страшного народного несчастья.
ГЛАВА 9 Годы войны
ГЛАВА 9
ГОДЫ ВОЙНЫ
Те немногие оставшиеся в живых старые партийцы, которые обладали известным политическим чутьем, с самого начала считали пакт Молотова-Риббентропа, а затем раздел Польши предательством, противореча-
щим линии партии. В то же время следует признать, что многие, и в основном — русские националисты, расценивали этот пакт как положительный фактор, как возвращение к трезвой международной политике. Эти люди думали, что СССР и Германия - сильнейший военно-политический блок в Европе, а может быть, и во всем мире (США в то время особенно в расчет не принимали) и что вместе им удастся раз и навсегда сломить Великобританию.
Слово «фашист» совершенно исчезло со страниц газет. (Эренбург писал, что даже из его корреспонденции это слово вычеркивали). Теперь нацистов почтительно называли членами национал-социалистической рабочей партии Германии, а их противников — англо-французскими капиталистами (или плутократами), развязавшими мировую войну.
Говорилось о развитии экономических и культурных связей между СССР и Германией. В Большом театре поставили «Кольцо Нибелунгов» Вагнера. Кое-кто из старшего поколения помнил еще время, когда немецкая культура оказывала большое влияние на Россию, и теперь радостно надеялся на дальнейшее, более тесное сближение. Следует заметить, что тогда народ еще не знал об истреблении евреев нацистскими преступниками¹. Однако большинство интеллигентных людей было глубоко возмущено этим альянсом. У этих людей вновь пробудилось теплое чувство к Франции. Я, например, никогда не забуду день, когда радио в Норильском лагере сообщило о падении Парижа. В тот момент я находился в одном из спецбараков, где размещались высококвалифицированные специалисты: инженеры, профессора, ученые, в основном «аполитичные», «ста-
¹ Впрочем, даже и во время войны в печати не разрешалось упоминать о массовом уничтожении евреев нацистами. Отчасти это можно объяснить боязнью разжечь антисемитизм в Советском Союзе.
рого закала» люди. Услышав о падении Парижа, многие из них заплакали.
Примерно ко времени заключения советско-германского договора массовые аресты прекратились и начался пересмотр дел. Прежние эксцессы объяснялись теперь превышением своих полномочий чиновниками НКВД, а также ложными доносами повсеместно рассаженных Ежовым сексотов. Этот миф распространяли среди широких масс и поощряли сверху, чтобы снять всякую ответственность со Сталина. Это делало жизнь жертв террора и членов их семей несколько более терпимой, коль скоро они еще могли верить, что во главе государства стоит человек, который ничего не знает об арестах, пытках и расстрелах. В результате такого самообмана многие люди продолжали умирать со словами «Да здравствует Сталин!», а командир Красной Армии Иона Якир незадолго до гибели все еще обращался к Сталину, уверенный в полной его непричастности к террору. Словно в отместку за его наивную веру, директива о ликвидации Якира была подписана лично Сталиным, Молотовым и Кагановичем.
В период некоторого затишья репрессий, оказавшегося, как выяснилось позже, одним из дьявольских ухищрений Сталина, было освобождено — так мы полагали — около десяти процентов заключенных. Однако именно эта частичная реабилитация должна была, по мысли Сталина, служить подтверждением тому, что остальные девяносто процентов сидят или расстреляны за дело. А 20 лет спустя официально признали существование в то время списков лиц, подлежавших ликвидации из числа арестованных в 1937 году. Причем списки эти были столь строго секретными, что даже близкие к Политбюро люди не знали об их существовании, а следовательно, и о расстрелах.
В это же время было принято решение о ликвидации, любыми средствами, Троцкого. Теоретически ликвидация Троцкого могла быть оправдана тем, что его заочно приговорили к расстрелу. Однако Сталин не
решился открыто взять на себя ответственность за это убийство. Больше того, по лагерям после убийства Троцкого направили специальных провокаторов, которые старались спровоцировать заключенных на обвинения по адресу Сталина за смерть Троцкого или хотя бы на выражение сожаления по поводу его смерти. В ходе следствия (Норильск, 1941 год), закончившегося для меня вторым смертным приговором, именно такое обвинение фигурировало в моем деле. В показании одного из секретных осведомителей стояло примерно следующее: «21-го августа «Правда» сообщила об убийстве Троцкого. Я спросил Бергера, что он думает об этом. Бергер ничего не ответил». На следствии, когда мне зачитали этот донос, я спросил: «Что же в этом преступного?» Следователь ответил; «А почему вы не сказали «Собаке собачья смерть?» Чтобы стать «врагом народа», достаточно тогда было даже промолчать.
По мере успехов нацистской армии в Европе в народе росла ненависть к фашистам, хотя были и такие, особенно среди партийной элиты, которые воспринимали победы Гитлера как «победы союзника». Эти люди полагали, что успехи нацистской Германии пойдут на пользу Советскому Союзу и что между двумя странами существует какая-то тайная договоренность. Пресса, разумеется, восторженно сообщала о победах немецкого оружия. Тем не менее, уже к весне 1941 года Сталину стало ясно, что война с Германией неизбежна. Поэтому его целью было — выиграть время: с одной стороны — чтобы вмешательство Соединенных Штатов стало эффективным, а с другой — чтобы завершить собственную подготовку к войне. В этой битве за время Сталин, не без некоторого успеха, провел ряд дипломатических маневров. Так, ему удалось отодвинуть на запад границы СССР, добиться соглашений о нейтралитете с Японией и Турцией. А это означало, что, видимо, удастся избежать войны на два или даже на три фронта, чего, естественно, очень опасался Генштаб.
Другая причина попытки как-то оттянуть войну заключалась в необходимости снять урожай. Это сознавал также и Гитлер. И все же Сталин еще питал иллюзии, что войну удастся оттянуть хотя бы до поздней осени.
Заключенные в лагерях внимательно следили за событиями. Почти все надеялись на то, что вспыхнет война. Чувство отчаяния и полной беспомощности привели к тому, что заключенные жаждали хоть чего-нибудь, что подало бы малейшую надежду. Большинство верило, что в минуту опасности Сталин обратится за помощью и к ним, что им удастся убедить его в своей преданности и что Советский Союз в конце концов выйдет из войны победителем. Но были, конечно, и пораженцы — в основном среди уголовников и «бывших людей».
21 июня, накануне войны, мне довелось разговаривать с одним инженером, который был сначала в нашем спецбараке, а потом переведен в зону: мы переговаривались через колючую проволоку, когда поблизости не было охраны. Этот инженер полагал, что Гитлер сделает следующий шаг еще до конца июня и что это будет либо высадка в Англии (если «миссия» Гесса окончится провалом), либо война с Советским Союзом. (Между прочим, к «миссии» Рудольфа Гесса в СССР относились вполне серьезно, и сам Сталин считал, что ведутся переговоры). Я сказал, что, на мой взгляд, Гитлер непременно потерпит поражение, если сначала высадится в Англии. Инженер со мной согласился, но добавил:
— Дай бог, чтобы он начал с Советского Союза.
На другой день его желание исполнилось.
Успех Гитлера в первый период войны был настолько ошеломляющим, что никто уже не думал серьезно о возможности скорой победы Советского Союза.
Многие думали, что Советский Союз развалится на части от первого удара, что «немец» дойдет до Волги и даже до Урала, но никто не считал, что этим все
кончится. Допускали, что Сталин действительно может пасть от первого удара, но не сомневались, что сопротивление населения будет расти, что его возглавят настоящие коммунисты, что народу удастся успешно контратаковать с востока и что Россия выдержит.
Допускали также, что нерусские республики отпадут и станут сателлитами Германии, но что русское ядро останется и сможет в конце концов отвоевать всю довоенную советскую территорию. Так думали заключенные.
Когда же после первого сокрушительного удара Советский Союз не распался, даже неисправимые пессимисты, проводя исторические параллели, вспоминая войну с Наполеоном и Гражданскую войну, решили, что опасность скоро минует и что только первый год войны будет опасным для СССР.
Хотя лагерные громкоговорители были выключены во время речи Молотова в первый день войны (а снова их включили только после капитуляции Паулюса), мы имели все же возможность следить за событиями: например, в первый день войны я слушал передачу Бибиси по заграничному приемнику, который имелся у кого-то из вольнонаемных, работавших на строительной площадке внутри лагеря.
Однако начало войны не принесло облегчения заключенным в лагерях. Скорее наоборот. Все начальники лагерей сразу же были вызваны на специальный инструктаж: началась новая волна террора. Все больше переполнялись тюрьмы при лагерях. Составление новых списков жертв стало частью мобилизационного процесса. В первую очередь брали представителей национальных меньшинств. В начале войны практически все немцы были депортированы на восток. (Впоследствии, правда, немецкой секции Коминтерна удалось вернуть некоторых из своих членов).
Лично мне известен особенно интересный и поучительный случай. Я был в дружбе с одним немцем, жившим в СССР с начала тридцатых годов. Этому человеку удалось избежать террора 1937 года, в ходе
которого погибло немало его соотечественников. К лету 1941 года он находился еще на очень ответственной работе. Несмотря на это, после начала войны его пять раз арестовывали и каждый раз жене удавалось освободить его через немецкую секцию Коминтерна. При очередном аресте он неизменно заявлял:
— Но меня ведь только что выпустили. А ему отвечали:
— Ну что ж, придется еще похлопотать. Этот рассказ я лично слышал от его жены. В 1949 году этот человек был направлен к Ульбрихту и впоследствии стал одним из руководителей восточногерманской секретной службы.
В начале войны заключенные в лагерях, считавшиеся потенциально опасными, с точки зрения органов безопасности, были арестованы повторно внутри самих лагерей. Так, начальник оперативного отдела НКВД нашего лагеря, майор из Москвы, рассказывал мне потом, что его в срочном порядке направили к нам для выполнения этой инструкции. По прибытии в лагерь он потребовал папки с доносами «секретных сотрудников». Тех, чьи папки были толще, то есть тех, на кого было больше доносов, он распорядился арестовать немедленно.
Моя папка, дело № 5, оказалась особенно внушительной. И вот, 17 июля 1941 года, на 26 день после начала войны, меня доставили в сопровождении специального конвоя НКВД в Оперчека. Этот, введенный с начала войны, термин должен был вызывать у заключенных особый ужас: самое слово Чека было уже достаточно грозным, а тут еще Оперчека...
Когда сотрудники органов пришли за мной, я сразу понял, что арестовывают меня на основании каких-то специальных директив в связи с войной. Я заключил, что мой смертный приговор — дело решенное. Но после
пятнадцатиминутного пребывания в самой ЧЕКА у меня затеплилась некоторая надежда.
Я начал доказывать, что мой арест просто смехотворен, поскольку никаких компрометирующих меня данных быть не может, в особенности в связи с моим ясным отношением к войне. И вот тогда-то неопытный лейтенант, занимавшийся моим делом, неосторожно обронил фразу:
— Пусть нет данных — мы должны принять меры предосторожности.
Было ясно, что Оперчека не стала откладывать моего ареста до тех пор, пока найдутся какие-то практические «доказательства». Там, видимо, собирались оказать на меня такое давление, чтобы в конце концов я сам дал компрометирующие меня показания. Но у меня к тому времени был уже шестилетний опыт заключенного. Я прошел три следствия в Москве и слышал сотни рассказов других заключенных, прошедших через следствие. Я тут же убедил себя, что ничего хуже расстрела со мной случиться не может, что, видимо, так оно и будет, но что мне следует хвататься за любую возможность, чтобы бороться с Оперчека.
Поэтому я решил атаковать сходу: я заявил, что мой арест является незаконным, что это— нарушение правил самого НКВД и что в качестве протеста отказываюсь активно участвовать в следствии и подписывать что бы то ни было. Я соглашался лишь написать заявление с изложением своей точки зрения относительно ареста. Это предложение было отвергнуто. Тогда я объявил, что начну голодовку.
Услышав это, лейтенант покачал головой и пошел за своим начальником, Поликарповым, майором госбезопасности, только что прибывшим из Москвы. Поликарпов пришел в ярость. А это являлось, как подсказывал мне тюремный опыт, хорошим признаком. Когда следователи разговаривают с заключенным вежливо и даже предлагают курить, дела его весьма плохи — это значит, что в руках у НКВД имеются уже все «дока-
зательства», и им, собственно говоря, ничего больше не нужно.
Другое дело, когда у следователей материала нет, а показания требуются во что бы то ни стало; вот тогда они впадают в дикую ярость — отчасти потому, что это действительно выводит из себя, а отчасти ~ чтобы заодно нагнать страху.
Итак, ярость Поликарпова меня приободрила. Я убедился, что правильно оценил обстановку, сделал правильный анализ в создавшейся ситуации. Поликарпов немедленно объявил, что лично будет вести следствие по моему делу. Действительно, в течение последующих дней и ночей допросов он старался в точности соблюдать свое намерение и даже прекращал допросы, если кто-нибудь из его помощников входил в помещение.
Поликарпов заявил, что, судя по моему делу, я — опасный контрреволюционер, и поэтому другим не следует слушать мою « контрреволюционную пропаганду». А поскольку я с самого начала отказался сотрудничать, Поликарпов вынужден был сам записывать и вопросы и ответы.
Меня брали на допрос каждый вечер между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи, а возвращался я в камеру на следующее утро. Как правило, объявлявших голодовку переводили в особый изолятор. Но в моем случае этого не сделали, поскольку Поликарпов отказывался официально признавать голодовку, называя это «саботажем». Кроме того, он не хотел прекращать допросов. Пребывание же в переполненной камере и тот факт, что мне волей-неволей приходилось видеть, как едят другие, делали голодовку еще тяжелее. После пяти-шести дней голодовки я настолько ослаб, что меня приходилось на носилках переносить в кабинет Оперчека. Как только я попадал туда, я тут же заявлял:
— Если хотите разговаривать — пожалуйста, но подписывать ничего не буду.
И так — день за днем. Вернее — ночь за ночью.
Однажды — думаю, это было на пятнадцатый или на шестнадцатый день следствия — я заявил Поликарпову:
— Подписывать какие бы то ни было протоколы я категорически отказываюсь, но готов написать подробное объяснение по поводу моей голодовки.
Он ухватился за это предложение, швырнул мне бумагу и потребовал, чтобы я начинал немедленно. Пока я писал, он неотступно стоял за моей спиной, вырывал у меня каждый исписанный листок, читал и не возвращал.
Редко приходилось мне писать с таким напряжением сил и в такой обстановке, когда каждое мое слово могло обернуться смертью. Я решил написать все, использовать эту возможность, чтобы изложить свои принципы, изложить их с позиций незаконно арестованного иена партии. В эти рамки я смог заключить очень многое. Я писал, что в момент смертельной опасности, грозящей нашей стране со стороны Гитлера, не следует держать таких людей, как я, в тюрьмах и что нужно отменить все политические приговоры, отправить бывших политзаключенных на фронт или использовать их там, где они принесут пользу. Я писал, что мне 56 лет и что я готов отдать все силы для обороны страны.
Дальше я писал о своем глубоком возмущении методами, применяемыми НКВД для получения показаний и признаний арестованных. Это место я хорошо помню, потому что Поликарпов, дойдя до него, прочитал вслух:
«Методы, используемые следствием для получения насильственных признаний, считаю неправильными и вредными не только потому, что они несправедливы по отношению к обвиняемым, но и потому что они нравственно разлагают тех, кто ими пользуется. Рука, ударившая беззащитного, не сможет удержать винтовку, когда придет время бороться с вооруженным до зубов врагом».
Дочитав последнюю фразу, Поликарпов вдруг заорал: «Прекратить!». Он был относительно малоразвитым человеком, на его счету было немало избитых, а затем
расстрелянных людей. А вот теперь он забегал по кабинету в крайнем возбуждении. Было примерно три часа ночи. Кончалась белая полярная ночь и всходило солнце.
Дальше я опишу суть нашего дальнейшего разговора: помню его вполне отчетливо, хотя немало прошло времени с тех пор, и может быть, кое-какие слова и выражения выпали из памяти.
— Давайте разберемся, — говорил мне Поликарпов. — Представьте себе, что вас, члена партии, поставили командовать партизанским отрядом. Вы попали в засаду, и вам необходимо узнать, где враг и как из засады выбраться, как вывести свой отряд. Вам нужен «язык», и от того, заговорит ли этот «язык» или нет, зависит не только судьба подчиненных вам партизан, но и многих других людей. У вас остается всего несколько часов. Можете вы себе это представить?
— Да, могу, — сказал я.
— Уходят минуты. «Язык» отказывается говорить. А у вас выбор: пощадить этого гада или спасти тысячи жизней советских людей. Что бы вы стали делать?
Я не отвечал.
— Приказываю говорить! — заорал Поликарпов и крепко сжал кулаки. — А нет, так...
— Хорошо, — сказал я. — Если все так, как вы говорите, если отряд в окружении, если остаются считанные минуты, то я ударил бы этого человека.
Поликарпов рассмеялся:
— Так для чего же тогда писать?
На этом в ту ночь допрос и закончился. По-видимому, Поликарпов считал, что нашел себе оправдание, и ему было невдомек, что между лагерем в Норильске и партизанским отрядом очень мало общего. На одном из следующих допросов Поликарпов зачитал из моего «объяснения» то место, где говорилось, что необходимо освободить в связи с войной всех политических заключенных и прекратить дальнейшие репрессии. Затем он спросил:
— Предположим, что мы вас освободим. Вы на этом успокоитесь?
— Нет, буду требовать восстановления в партии.
— А тогда успокоитесь?
— Конечно, нет. Я стал бы требовать пересмотра моего дела и возвращения мне всех прав.
— А потом что?
— Требовал бы освобождения всех, кто был, подобно мне, незаконно репрессирован.
— Что бы вы все стали делать после этого?
— Пошли бы на фронт или работали бы для фронта и победы. И не задавали бы никаких вопросов до конца войны.
— А когда война кончится? Люди же не ангелы — вы ведь знаете. — При этом Поликарпов изобразил ангела с крылышками. — Думаете, люди забудут, что их арестовывали, сажали, били?
— Сомневаюсь, чтобы они это забыли. А после войны, не раньше, нужно будет основательно разобраться: кто виноват во всех этих арестах, приговорах и избиениях.
— Чего же вы тогда потребуете? Чтобы нас посадили?
— Если выяснится, что вы того заслуживаете...
— Вы что, думаете — мы совсем уж дураки?
На этом и закончился тогда наш разговор.
Меня этот разговор не удивил. Поликарпов активно участвовал в терроре тридцатых годов.
— Если посчитать, — сказал он мне однажды, — скольких я своей рукой расстрелял, то цифра получится четырехзначная.
Что же за человек был этот Поликарпов? Как он жил? В первые дни следствия, чтобы как-то расположить меня к себе, он кое-что рассказал о своей жизни. Начинал шахтером в Донбассе. Во время Гражданской войны вступил в партию. В 1924 году был мобилизован в НКВД — сначала рядовым. Затем его послали на какие-то курсы, откуда он вышел следователем по политическим делам. Был он, по-видимому, хорошим
семьянином, вел себя скромно. Так, например, при мне он ел только черный хлеб без масла. Думаю, так он и привык.
Когда моя «объяснительная записка» была дописана — а она кончалась словами: «Да здравствует демократический социализм», — в ней в общей сложности оказалось двадцать три страницы. Поликарпов сказал:
— Подпишите.
А когда я подписал, он заметил:
— Сейчас вы подписали свой смертный приговор.
На это я ответил:
— Даже если моя объяснительная записка — основание для смертного приговора, я все равно не изменю в тексте ни одного слова.
На пятьдесят шестой день голодовки Поликарпов сказал:
— Так как вы отказываетесь подписать протоколы и давать показания, мы прекратим следствие. Согласны ли вы прекратить голодовку?
Я согласился.
После этого следствие замерзло на несколько месяцев.
Но мне было отказано в медицинской помощи, меня опять поместили в «каменный мешок».
И только 27 января 1942 года, ровно в седьмую годовщину моего первого ареста в Москве, меня снова вызвали к Поликарпову. Я опасался, что, поскольку ему удалось прервать мою голодовку, он снова начнет следствие. Но Поликарпов сказал:
— Ваши показания больше не нужны. У меня хватает материала и без этого. Следствия возобновлять не буду. И так потратил на вас слишком много времени.
При этом он даже попытался вспомнить, сколько же в самом деле часов зря потратил на меня. Потом Поликарпов вдруг напомнил, что я обещал ему сделать заявление в письменной форме, которое послужило бы заменой протокола. Тогда он от него отказался, а сейчас протянул мне лист бумаги, и я начал писать. Но через минуту отложил ручку и сказал:
— Я хотел написать, но по дьявольской улыбке на вашем лице вижу, что дело идет о моей жизни или смерти. Отказываюсь писать... Отказываюсь подписывать ...
Поликарпов стал кричать, осыпая меня грубой бранью. Но, как выяснилось много позже, этот отказ спас мне тогда жизнь. Оказывается, существовал закон, согласно которому арестованного нельзя было приговорить к смертной казни без суда. Позднее, кажется, в декабре 1941 года, вышел новый закон, по которому по статье 58 можно было приговорить к расстрелу и заочно. Но заочные приговоры, выносившиеся на местах «тройкой», должны были утверждаться в Москве. Поликарпов и его «тройка» приговорили меня к расстрелу. Но поскольку у них не было моей подписи, приговор считался «заочным» и требовал утверждения Москвой.
Поэтому-то он и пытался задним числом «оформить» судебное разбирательство по моему делу.
Почти весь следующий год я провел в лагерной больнице, откуда меня время от времени переводили в «каменный мешок», несмотря на протесты других заключенных, недовольных тем, что в камере находится умирающий.
Я никак не мог понять, что происходит, потому что «нормально» меня уже должны были расстрелять или вернуть в зону. Обычно, когда заочные приговоры утверждались Москвой, их приводили в исполнение через несколько дней. Человека брали ночью из камеры и расстреливали тут же во дворе. А если приговор не утверждался, то заключенного переводили, как правило, обратно в зону. В моем случае приговор оставался в стадии утверждения с июня 1941 года до августа 1943.
Следствие по моему делу возобновилось только после Сталинграда. Поликарпова убрали, вместо него появился очень вежливый и обходительный грузин по фамилии Гецаев. Гецаев заявил сразу, что поскольку я в свое время отказался сотрудничать со следственными органами, освободить меня он не может, но и смертного
приговора мне нечего опасаться, так что нет никаких причин отказываться от «сотрудничества». Я тогда уже знал, что много смертных приговоров отменили, и поэтому согласился, но с условием, что мне дадут на просмотр мое дело.
На этом Гецаев прервал допрос. Когда же меня вызвали к нему в следующий раз, у него на столе лежало мое дело. Давая мне его Гецаев сказал, что после того, как я с ним ознакомлюсь, он продолжит со мной разговор. С большим интересом читал я секретные материалы своего дела. Первый же документ гласил, что меня заслали в СССР из-за рубежа в качестве шпиона. Потом говорилось, что благодаря «исключительным способностям» мне удалось проникнуть в аппарат Коминтерна, что я продолжал якобы вести контрреволюционную пропаганду, уже находясь в лагере. Дальше говорилось, что вместе с группой заключенных-иностранцев я пытался организовать восстание в Норильском лагере (приводились фамилии этих других «зеков»-иностранцев). В связи с этим предлагалось вынести мне смертный приговор. Документы эти были подписаны Поликарповым и местным прокурором. Следующим документом в моем деле был сам смертный приговор. В нем снова излагались указанные выше причины и говорилось: «Бергер И. М. приговаривается к высшей мере наказания — расстрелу без конфискации личного имущества, поскольку такового не имеется». Приговор был подписан местной «тройкой». К их именам прибавили подписи нескольких сотрудников Красноярского краевого управления. Затем следовал документ, в котором говорилось, что дело № 5 возвращается в Оперчека Норильска для доследования. Приговор не был утвержден по двум причинам: во-первых, в деле не оказалось подписи самого обвиняемого, во-вторых, в Москве, в материалах не нашлось объяснения пятидесятишестидневной голодовки обвиняемого.
Можно только гадать, каким образом отсутствие подписи помогло сохранить мне жизнь. Дело, по-види-
мому, обстояло так. Вне всякого сомнения, в Москве было хорошо известно, что тысячи людей расстреливаются на местах, в лагерях и в тюрьмах, совершенно произвольно и самосудно. Поэтому отсутствие подписи в моем деле сразу наводило на сомнения. Приговор, видимо, не был утвержден не потому, что под сомнение была поставлена моя «вина», а просто из-за того, что в центре стремились не выпускать контроля из своих рук. Там пытались пресекать следователей, не соблюдающих инструкций. Что же касается заключенного, то его можно было подвергнуть новому следствию.
Так и мое дело отложили из-за неточного оформления (отсутствие моей подписи), а тем временем обстановка на фронте и в стране резко изменилась. Так я могу объяснить мое избавление.
Люди часто спрашивают меня, что я ощущал, находясь в течение двух лет между жизнью и исполнением смертного приговора. Поскольку человек не может постоянно находиться в состоянии крайнего напряжения, он постепенно привыкает даже к такому положению. То же относится и к долгим срокам заключения. Когда в лагерь или в тюрьму прибывает человек с десяти- пятнадцати- или двадцатипятилетним сроком, другие заключенные обычно утешают его: «Ничего, труден только первый год». Человек сначала думает, что над ним шутят, а потом убеждается, что это совершенная правда.
И все же, даже когда в камере смертников мы постепенно свыкались со своим положением, нет-нет да и происходили события, которые обостряли нашу тревогу: лишь только кого-нибудь уводили на расстрел, напряжение становилось невыносимым. От скрипа открываемых замков, хлопания дверей и сознания, что уводят на расстрел человека, соседа — как бы часто такое ни происходило, — сердце пустело будто от крутого провала самолета в воздушную яму...
После присоединения в 1940 году Эстонии, Латвии и Литвы все бывшие офицеры армий этих стран получили соответствующий ранг в Красной армии. Бывали случаи, с генералами в частности, что за ними сохраняли их собственные балтийские части. Такое положение продолжалось, однако, недолго: стали распространяться слухи об измене и дезертирстве некоторых из этих офицеров. Несомненно, немцам удалось организовать Пятую колонну в Прибалтике: это подтверждается хотя бы тем, что снайперы в Риге из окон стреляли по красноармейцам во время немецкого наступления, и тем, что на ключевых позициях, таких, как радиостанция, сидели нацисты.
Вскоре после начала войны офицеры-прибалтийцы были срочно вызваны в Москву. Те из них, кто был в контакте с немцами, немедленно ушли в подполье, остальные повиновались приказу без колебаний. В числе последних был генерал артиллерии эстонец Бреде. Бреде в свое время окончил Сорбонну, прекрасно знал несколько европейских языков, был политически очень развитым человеком. Он служил еще в царской армии, а потом принял участие в создании независимого эстонского государства. Позднее занимал высокие посты в эстонском правительстве, поддерживая либеральную партию генерала Лайдонера.
Здесь я должен упомянуть, для большей ясности, что в 1924 году в Эстонии была предпринята попытка коммунистического переворота во главе с Яаном Анвельтом. В Коминтерне был выработан план, по которому в определенный момент, ночью, должны были быть захвачены ключевые стратегические пункты страны и провозглашено объединение Эстонии с Советской Россией. Однако эстонская контрразведка сумела обнаружить заговор, помешать его осуществлению и захватить руководителей. Часть их была расстреляна, другая —
приговорена к длительному сроку, а некоторым, в том числе Анвельту, удалось бежать в СССР.
Я познакомился с Анвельтом в феврале 1925 года. Тогда оба мы принимали участие в работе расширенного пленума Исполкома Коминтерна. Анвельта поселили в мою комнату, в гостинице «Люкс», где в то время размещали членов иностранных делегаций Коминтерна. У Анвельта на голове была повязка — его ранили в ходе уличных боев в Таллине. В тот период мы обсуждали вопросы как теоретического, так и практического характера, касавшиеся коммунистического движения. Анвельт был очень образованным человеком, прочитал уйму марксистской литературы, но догматиком не стал. Он сказал мне, что коммунистам в Эстонии была обещана помощь из Советского Союза. Его заверили, что в районе Ленинграда сконцентрированы советские войска, которые войдут в Таллин, как только там будет объявлено о сформировании советского правительства. Казалось странным встретиться, через 16 лет, как раз с теми эстонцами, против которых в 1924 году было направлено возглавлявшееся Анвельтом восстание. Сам Анвельт, разумеется, погиб во время чисток.
В 1940 году, когда Эстония вошла в состав СССР, офицеры и генералы, включая Бреде, заявили о своей полной лояльности советской власти. Поэтому, когда в июне 1941 года их вызвали в Москву, значительная часть офицерского корпуса (примерно 250 эстонцев, 400 латышей и 400 литовцев) прибыла туда якобы для переподготовки. В Москве эти офицеры были немедленно разоружены, арестованы и отправлены в Сибирь по железной дороге, оттуда пароходом по Енисею в Норильск, где им сообщили, что их будут судить. Офицеры были возмущены.
Некоторые писали в Военный Совет, снова заявляя о своей полной лояльности и выражая готовность продолжать службу в любых частях. На эти протесты не обратили ни малейшего внимания.
Несколько прибалтийских офицеров попали в тот же каземат, что и я. НКВД предпочел бы держать их подальше от посторонних взглядов, но внутренние тюрьмы в лагере были так переполнены, что это оказалось невозможным. Так что трагедия этих офицеров разыгрывалась на наших глазах.
Некоторые из них до конца надеялись, что за них вступятся из-за границы. Мы даже в лагере слышали об Атлантической Хартии, подписанной не только Рузвельтом и Черчиллем, но и Сталиным. Нас заверяли, что мир, наконец, будет избавлен от страха и невзгод. У кое-кого из офицеров имелись родственники в Америке и Англии, с которыми они пытались как-то связаться, но безуспешно. Люди были в отчаянии. Каждые две недели из нашей камеры уводили на расстрел группу офицеров. Их выводили по одному, и «суд» происходил тут же, в тюремном переходе. Сотрудник НКВД при этом зачитывал обвинительный акт и те статьи, по которым они судились.
Офицеров обвиняли либо в связях с пятой колонной, либо в антисоветской агитации, либо в преступлениях, якобы совершенных ими в далеком прошлом. Бреде, например, и некоторых других эстонских офицеров в том, что они участвовали в подавлении коммунистического восстания в 1924 году, то есть почти двадцать лет назад. Офицерам давали возможность в течение пяти-десяти минут выступить в собственную защиту, затем их приговаривали к расстрелу, а после утверждения приговора Москвой, что обычно происходило быстро, расстреливали. Так было расстреляно не менее 400 офицеров, начиная с самого генерала Бреде и кончая молодыми лейтенантами. Вынося смертные приговоры, мало считались с политическими взглядами прибалтийских офицеров. Бреде, например, который был либералом и антифашистом, расстреляли, а его близкого друга, получившего «только» восемь лет, в конце концов освободили, и он вернулся в Таллин, где его поставили на ответственную работу. Похоже,
что имелся приказ расстрелять точно определенное число офицеров-прибалтийцев. И когда подошли к заданной цифре прекратили и ликвидацию. Это уничтожение произвело в лагере жуткое впечатление.
Наблюдая за оставшимися в живых прибалтийцами, мне удалось уловить и некоторые характерные национальные черты, отличавшие их друг от друга. Литовцы в большинстве своем не знали русского языка и были настроены в духе самого крайнего национализма. В то же время они довольно хорошо приспособились к условиям лагеря, организовали свои собственные рабочие бригады и, работая очень добросовестно, даже в труднейших условиях добивались перевыполнения норм. В основном они происходили из довольно богатых крестьянских семей, окончили среднюю школу, а затем были призваны в литовскую армию. Было среди них и несколько очень интеллигентных людей.
Латышей было две группы. Одни вели себя, в общем, так же, как и литовцы. Другие постоянно писали протесты и жалобы, обвиняя органы безопасности в нарушении их собственных, то есть советских, законов. Эти отказывались говорить по-русски.
Что касается эстонцев, то они, по-видимому, пришли к выводу, что поскольку независимая Эстония больше не существует, не имеет смысла и их собственная жизнь. Они отказывались работать, объявляли голодовки, кончали жизнь самоубийством в одиночку и даже совершали жуткие групповые самоубийства. По прошествии нескольких лет только очень немногие из них остались в живых.
Однако расправа с прибалтийскими народами не ограничилась только уничтожением их офицерских корпусов. В месяцы, предшествовавшие нацистскому вторжению, из Прибалтики в Сибирь были сосланы сотни тысяч гражданских лиц, многие из которых там и погибли.
После смерти Сталина большинство оставшихся в живых представителей прибалтийской интеллигенции,
члены парламентов, журналисты, писатели и даже те, кто участвовал в политической жизни своих стран и выступал с антисоветскими заявлениями, были освобождены и получили возможность вернуться домой. В 1956 году, когда меня освободили, в Сибири оставались еще некоторые граждане прибалтийских стран, но, видимо, и им разрешили вернуться в 1957-58 годах.
В лагере я встречал и многих представителей католического литовского и протестантского латышского духовенства. У них было много общего, особенно их честность и навык к физическому труду.
Я познакомился и с совсем еще молодыми людьми, многим из которых, когда их вывозили, не было и двадцати лет. Они тяжело переживали утрату независимости их стран, часто бывали глубоко подавлены. Эти люди понимали, что в период между войнами была восстановлена национальная самобытность их народов, язык, государственные и правовые нормы, отвечавшие национальным традициям и запросам. Они гордились успехами своих соотечественников за этот довольно краткий исторический период в культуре, науке, искусстве, спорте.
Они были убеждены, что слияние с СССР — это шаг назад в историческом развитии их народов. Однако большинство погибших в Сибири прибалтийцев не были настроены антирусски. То были крестьяне, смотревшие на прибалтийских баронов, как на своих главных врагов, поскольку считали их жестокими и высокомерными. Немцев они ненавидели. Многие из них поддерживали связь с Россией, считали русских друзьями, но после оккупации, как они говорили, почти все стали руссофобами.
Все они были горько разочарованы Западными союзниками, в частности, Великобританией, которые не пришли им на помощь и ничего не сделали, чтобы добиться хоть какой-то культурной независимости после захвата Советским Союзом. Многие тяжело переживали разрыв связей с Западным миром, в частности, культур-
ных связей. Им трудно было ассимилироваться в советских условиях. Многие считали, что в культурном отношении прибалтийские народы ближе всего к Соединенным Штатам и к Франции. Их возмущал и тот факт, что их как бы приравняли к «отсталым» народам СССР — таким, как туркмены, узбеки.
Моим самым близким другом среди прибалтийцев стал военврач, бывший начальник Медицинской службы эстонской армии, доктор М. К моменту нашей встречи ему было лет пятьдесят с лишним. Это был стройный, красивый мужчина, высокогуманный либерал в английском понимании этого слова. Он с огромным уважением относился к британской конституции и социально-политической структуре, хотя сам не состоял ни в одной из политических партий. Он часто спрашивал меня, почему все, что происходит в России, так сложно, мрачно, зловеще. Я пытался объяснить ему свои взгляды на историю партии и революции, на то, что было правильным, и где и когда многое стало неверным, ошибочным.
Слушал он внимательно, задавал толковые вопросы, но, конечно, переубедить его мне не удавалось. То ли в результате наших бесед, то ли будучи пессимистом по натуре, доктор М. все больше убеждался, что пути развития России и связанных с ней народов будут и дальше намного сложнее и трагичнее, чем у всех других народов, которые, как он думал, будут развиваться ровно, без особых трудностей.
Доктор М. изучал медицину под руководством известного французского специалиста по сердечным болезням; он основательно знал французскую, русскую и немецкую литературу XIX и XX столетий, в общем, был интеллигентом в лучшем смысле этого слова. Кроме того, доктор был исключительно хорошим человеком.
Он пользовался огромным уважением в нашем лагере и как врач и как человек. И не только у заключенных, но и среди вольнонаемных. Очень многие
обращались к нему за помощью и получали ее быстро и эффективно. К работе он относился не просто как к профессии, а как к служению людям, к помощи им в беде. В лагере это имело огромное значение. Он постоянно добивался от лагерной администрации улучшения медицинского снабжения. Его близко и глубоко трогали страдания людей вообще, а особенно — «зеков». Он очень огорчался, когда был бессилен помочь.
Мы сблизились благодаря тому, что у нас нашлись общие знакомые. В дальнейшем мы часами просиживали за разговорами об общих друзьях, о лагере, о том, что происходит в Советском Союзе. Он не испытывал ненависти ни к русским, ни даже к НКВД, был глубоко верующим протестантом и относился ко всем и ко всему с позиции всепрощающего христианства.
Доктор М. сказал мне однажды, что из всех заключенных, с кем ему приходилось иметь дело, я был единственным, сохранившим оптимизм. Сам доктор, у которого на глазах, помимо расстрелянных, умирали тысячи и тысячи заключенных от болезней, сурового климата, непосильной работы, полагал, что живыми из Норильска уйдут только очень немногие. Себя он считал недолговечным.
Я же утверждал, что многие не только выживут, но что наступит день, когда они вернутся домой, к своим семьям. Мои предсказания, думаю, были оправданными: те, кто не выжил, ничего уже не могли сказать, но зато кто выжил — был мне благодарен, потому что даже в самые страшные и беспросветные минуты слышал хоть и одинокий, но ободряющий голос.
А кроме того, мои предсказания строились на совершенно реальной основе, так как я действительно считал, что если человек сохранит выдержку и самодисциплину в лагере, то у него есть определенные шансы выйти оттуда. Правда, по отношению к себе я был далеко не так уверен: при моем здоровье трудно
было выжить. И тем не менее, я продолжал горячо убеждать других, что мне удастся выжить.
Доктор М. даже в лагере продолжал повышать квалификацию. Хотя книги в лагере были запрещены, периодические издания научного характера были доступны и на иностранных языках. (Только через несколько лет после войны Сталин объявил, что все великие открытия сделаны русской наукой, и тогда изъяли все иностранные книги и журналы).
Доктор М. из Эстонии был далеко не единственным крупным специалистом в нашем лагере. Были и другие выдающиеся медики и ученые, некоторые после освобождения получили награды за свои научные труды. А вольнонаемные молодые врачи многому научились, работая бок о бок с выдающимися врачами-заключенными.
Эстонскому врачу удалось добиться доставки в лагерь только что открытого антибиотика — пенициллина и сульфамидов. Пенициллин, конечно, в первую очередь предназначался для фронта, и только очень немногим тыловым больницам удавалось его достать. Пенициллин спас жизнь многим «зекам» в Норильске, страдавшим в условиях Крайнего Севера от тяжелых легочных заболеваний.
В 1943 году доктор М., потерявший временно, как и остальные прибалтийцы всякую связь с семьей, впал в глубокую депрессию: он уверил себя, что никогда уже не выйдет на волю. Я тогда был очень болен. Доктор пришел ко мне в палату, и у нас завязался памятный разговор. В то время нацисты уже потеряли надежду на молниеносную победу. Даже мы узнали, что немцы понесли поражение под Эль-Аламейном, и я был совершенно убежден, что войну они проиграли. Поэтому я уверял доктора, что после победы над Германией настанет день, когда он вернется домой в свой Таллин.
Частично мне удалось убедить его, что Германия
проиграет войну, но он не верил, что выживет и вернется домой.
— Давайте держать пари, — предложил я доктору. — Если вы вернетесь домой и встретитесь с семьей, вы ставите мне бутылку вина.
Итак, мы поспорили на бутылку вина: тот, кто выйдет из лагеря первым, пошлет вино другому. (Всякие спиртные напитки были в лагере запрещены. Только вольнонаемные приносили иногда в зону водку и в исключительных случаях давали глоток заключенному).
Шли годы. 1944, 1945, 1946. К тому времени меня перевели в другую лагерную зону — за несколько километров от больницы — у рудников. С доктором М. мы изредка обменивались приветами через вольных врачей, но встречаться больше не удавалось. И вот однажды начальник санитарной части секретной запиской вызвал меня к себе. Когда я пришел, он вручил мне письмецо и сказал, что у него есть для меня и еще кое-что. После этого он протянул мне большую бутылку красного вина, предупредив, что я не должен показывать ее в зоне. А письмо было о том, что мой друг, доктор М., за самоотверженную работу в лагерной больнице досрочно освобождается из заключения и уезжает домой в Таллин. Доктор писал, что перед отъездом хочет отдать мне свой «долг».
В 1947 году я получил от него письмо, где он описывал теплую встречу с семьей, и где сообщал, что у него все наладилось в Таллине. А примерно через год-два я узнал, что его снова сослали на Крайний Север. Я пытался его найти, но — тщетно. И только в 1956 году я с радостью услышал, что его освободили, и он вернулся в Эстонию. Дружба с доктором М. доставила мне много радости и утешения. Я глубоко уважал его. Встречи и разговоры с ним — самые светлые воспоминания о моем пребывании в Норильске. Сотни заключенных обязаны жизнью доктору М. Недавно я узнал, что в начале шестидесятых годов он скончался в Таллине.
Здоровье мое было подорвано голодовками и болезнью. Из-за своей конституции я так и не смог привыкнуть ни к суровому климату Заполярья, ни к лагерному питанию. Поэтому я провел в общей сложности несколько лет в больнице. Я постоянно находился на грани между жизнью и смертью, и мне предсказывали, что я не дотяну до следующей весны или даже до следующего месяца. Часто и врачи прогнозировали мою близкую смерть.
Замечу, что одним из главных различий между гитлеровскими лагерями и сталинскими было отношение к слабому и больному. В Освенциме у больного не было иного выбора — расстрел или газовая камера. В сталинских же лагерях, при всей их жестокости, отношение к больному, предписанное сверху, было (если такое слово здесь уместно) почти гуманным.
В сталинских лагерях, как и в гитлеровских, происходило массовое уничтожение. Но тут оно шло как бы само собой. Существование «лагерей смерти», как таковых, не признавалось, не допускалось даже мысли об этом. Так, зимой 1935-36 г. г. в одном из лагерей в Горной Шории, где я в то время находился, погибло около 80% заключенных. Они работали на прокладке железнодорожной ветки, прорубали в горах туннели. Люди работали несколько лет, оторванные от жилья, больные и хронически недоедавшие. Но это, собственно, не входило в планы. Тех, кого намерены были ликвидировать, расстреливали сразу же, другие же погибали из-за дезорганизации и преступно-небрежного отношения к заключенному. Я уже объяснял, что когда «смертность» превышала намеченный уровень, то в дело вмешивалось начальство, производилось расследование, виновника иногда наказывали. Так случилось в Горной Шории. 80% было многовато. Отстранили от работы всю лагерную администрацию. Начальника лагеря Разина судили и не то расстреляли, не то дали
большой срок. Лагерная система была рассчитана так, чтобы изолировать «нежелательные» элементы, заставить их работать на отдаленных объектах, но она не была специально рассчитана на массовое уничтожение. Корректирующим фактором служил медицинский отдел. Врачи, которых набирали главным образом из среды самих заключенных, были, как правило, преданными квалифицированными специалистами. Были, конечно, и среди них выродки, но то было исключением. Поэтому медпункты, больницы славились поистине островами гуманности.
Многие годы мне приходилось наблюдать, как здоровье людей в больницах восстанавливалось до такой степени, что они снова могли работать, но часто случалось, особенно во время войны, что заключенных привозили в больницу слишком поздно — сделать уже ничего было нельзя, медицина оказывалась беспомощной. В больницах я наблюдал процесс медленного умирания. Таким примером был я сам. Мне удалось сделать очень интересные, на мой взгляд, наблюдения над людьми, находившимися между жизнью и смертью. Вывод, который я сделал в отношении русских людей, справедливо отражен в эпиграфе из Петрарки в шестой главе «Евгения Онегина»:
«Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно»
(Петрарка)
Безграничный фатализм, примиренность с судьбой и с самой смертью показались мне вначале совершенно неожиданными чертами русского характера. В 1942 и в 1943 годах мне приходилось в этом убеждаться снова и снова, когда сам я лежал почти при смерти в Норильской лагерной больнице, в период голодовки. Меня поместили тогда в палату, где лежало 36 больных. Из них только очень немногие выжили: в ту палату помещали безнадежных. За два-три месяца не меньше трех раз полностью обновлялось население палаты:
персонал и больные из других палат с полным равнодушием относились к нашей палате, врачи считали, что сделали уже все, что могли. Лечения уже не назначали, события шли своим чередом. У одних была последняя стадия цинги, другие умирали от гемоколита, полностью парализовавшего пищеварительный тракт, у некоторых была пневмония, абсцесс легких, тогда как ни антибиотиков, ни достаточного количества сульфамидов в распоряжении врачей не было. Только к концу войны удалось понизить смертность от легочных заболеваний, таких, как крупозная пневмония и абсцессы легких, достигавшую в условиях 1942-43 годов восьмидесяти процентов.
Людей привозили в нашу палату умирать, и они с этим полностью смирялись. Среди них были крестьяне, рабочие, интеллигенты. У всех — самая крайняя степень истощения, исхудания — живые скелеты ожидали смерти с часу на час, но были совершенно спокойны, примиренные с судьбой. Каждое утро санитары обнаруживали в палате несколько трупов, выносили их ногами вперед, а на их место тотчас же прибывали новые больные. Удивительное дело — в первые дни я наблюдал за всем этим в крайней тревоге, но потом тоже привык — будто так и нужно.
Люди знали, что в нашу палату их переводят в ожидании смерти, и относились к этому совершенно спокойно. Знали они также, что никто не исполнит их последнюю волю, никто не даст знать об их смерти родственникам, не отошлет им их нехитрый скарб — человек умрет, как и жил, в полной изоляции от внешнего мира, в полном одиночестве... Многие видели в смерти избавление. Когда человек поступал в эту палату, казалось, он уже обо всем передумал, смирился и успокоился. Некоторые молились, осеняли себя крестом, но таких было немного, может, один-два из ста. Люди умирали молча, испив свою чашу страданий. В большинстве своем это были еще совсем молодые люди, и умирали они быстрее старых. Вообще большая
часть лагерей Крайнего Севера была заполнена молодыми. Мне самому не было тогда и сорока лет, а остальным — не больше тридцати. Для нашего лагеря существовал определенный возрастной лимит: кажется, предел этот был сорок лет.
Умирали люди, жизнь которых должна была только начаться. И если бы этих молодых людей не вырвали из их среды, если бы они жили. в другое время, им бы жить да жить, и были бы у них семьи, дети. По существу происходило массовое уничтожение людей, что казалось особым безумием, поскольку в большинстве своем это были простые люди, не представлявшие никакой опасности для советской власти, наоборот, они могли бы стать полезными гражданами. Еще до 1930 года, а тем более в течение двух последовавших десятилетий погиб не только цвет русской интеллигенции, но, что более непонятно, погибла и масса простых людей, простых рабочих, стремившихся к созидательной работе, к высоким идеалам. Погибла и огромная масса крестьян, которым, как предполагалось, революция принесет освобождение.
Одним из тех, кто умирал в непосредственной близости от меня, был инженер, человек лет тридцати, член или кандидат партии. История его проста. Жена решила от него избавиться, чтобы уйти к другому. Она прибегла к испытанному средству, которым многие в те времена пользовались: донесла в НКВД, что будто в разговоре с ней муж сказал то-то и то-то о Сталине. Через несколько дней этого человека арестовали, допросили всего один раз и приговорили заочно (как в десятках тысяч других случаев) к заключению в лагерях. Поскольку был он тогда молодым инженером, его послали в Норильск. Он делал то, что до него и после него делали почти все — писал письма Сталину, продолжая надеяться, что в его деле разберутся, хотя то, что он видел вокруг, должно было убедить его в бесполезности этого занятия и в том, что пути назад нет. В результате непосильного труда, голода и тяжелых
климатических условий он через несколько месяцев попал в больницу и после безуспешного лечения доживал свои дни в нашей палате, рядом со мной. Он чувствовал, что умирает и не увидится больше с семьей. Ему прислали фотографию его маленького сына, а также сообщили, что его младший брат тоже объявлен «врагом народа». Значит, и брата ждет та же судьба. В последнюю ночь перед смертью, когда в палате слышны были только стоны и хрипы умирающих, этот инженер вдруг произнес громко: «Человек, это звучит гордо». Кто-то подошел к его кровати, но он был уже мертв. Была ли это ирония? Не знаю. Может быть, тут был весь опыт его жизни, все, что ему пришлось пережить. Конечно, если учесть, что эту горьковскую фразу затаскали до тошноты, то в тот момент и в той обстановке она прозвучала страшным, диким издевательством. А может быть, инженер полагал, что так оно и есть, или по крайней мере, так быть должно?
Тогда как русские «умирали без боли», южане, как например, армяне и грузины, цеплялись за жизнь до последнего вздоха. Если человек стонал, бился, звал врачей — это, наверное, был южанин, лишенный русского стоицизма. Помню, мы обсуждали вопрос о презрении русских к смерти с другим молодым инженером, Лопатиным, еще в 1939 году. Он был человеком образованным, наблюдательным, умным. Лопатин пытался объяснить мне причины видимой пассивности русского народа перед лицом насилия и бесчеловечности сверху. Он рассуждал примерно так:
— Нужно этот народ знать. Русские заняли свое место в мире именно благодаря тому, что они могут довольствоваться очень малым. Нигде в мире не найдете вы людей с такой способностью подняться над материальными нуждами, даже самыми насущными. Все, что нужно, — это держать хлыст над головой этих людей и кормить их как можно хуже. Если вам это удастся, они дойдут не только до Тихого Океана, но и завоюют весь мир.
Лопатин полагал, что это — результат многовекового крепостного строя. Сила Сталина в том и заключалась, что он понимал это, ненавидел русский народ и считал, что может сделать с этим народом все, что захочет. Лопатин полагал, что Сталин сознательно идет по стопам Чингис-Хана, Ивана Грозного, Петра Первого: успех этих людей, также как и успех Сталина, нельзя считать чистой случайностью.
Русский народ, утверждал Лопатин, привык считать безграничную жестокость признаком величия государственного мужа, расценивая ее как вполне оправданное средство для достижения «великой цели».
Лопатин считал Сталина величайшим контрреволюционером всех времен, поскольку тот убил всякую надежду на лучшую и свободную жизнь и, прикрываясь революционными фразами, восстановил, по сути дела, ту власть кнута, к которой на протяжении столетий привык русский народ.
От постоянно прибывающих в лагерь с фронта «пополнений» новых заключенных мы хорошо знали о развитии военных действий, об обстановке на фронте и в стране. Может быть, мы знали даже несколько больше, чем люди на воле.
Вновь прибывшие были либо дезертирами, либо арестованными за «экономические преступления», или за «контрреволюцию», то есть «болтовню». А после 1942 года стали прибывать и первые военнопленные, то есть солдаты и офицеры, побывавшие в плену у немцев. Эти люди обычно бежали из немецких лагерей, пробирались к своим, а там их арестовывали и судили на том основании, что, попав в плен, они вели себя якобы недостаточно «геройски». С особым подозрением относились к военнослужащим — евреям: считалось, что если такой человек возвращался из немецкого лагеря, он обязательно должен быть изменником, и с ним поступали соответствующим образом.
В результате получалось, что над каждым военным
на фронте нависала двойная угроза: погибнуть от немецкой пули или, если человек попадал в плен и выживал, испытать на себе месть НКВД. Таким образом террор распространился и на армию.
Происходили просто фантастические случаи: я, например, слышал об одном командире танкового соединения, который попал в окружение, прорвался к своим, стал героем, а через три месяца был арестован и осужден.
Между армейской разведкой СМЕРШ и НКВД существовали трения. Я слышал о случаях, когда СМЕРШ брал под защиту солдат и офицеров, арестованных НКВД, иногда даже добивался возвращения их в армию. НКВД вел бы себя еще более нагло, если бы во время войны в дело не вмешивались армейские командиры. Что касается НКВД, то его сотрудники постоянно следовали за армией, хотя и не приближались к передовой, где власть была в руках у военных. Следует признать, что после военных побед могущество НКВД несколько уменьшилось.
Несмотря на все страдания, политзаключенные проявляли исключительный патриотизм, были готовы поддержать правительство в его борьбе с врагом. Другое дело уголовные — они не только были решительно против всякой власти, но и против всякого общества вообще. Это были люди, совершенно утратившие нравственный облик. Тот факт, что они отбывали наказание, был для них лишь свидетельством их недостаточной ловкости — не сумели во время скрыться. Они открыто заявляли о своих симпатиях к Гитлеру, желали его победы. Только в некоторых случаях их взгляды разделяли работавшие бок о бок с ними заключенные, которые старались помалкивать, чтобы еще больше не осложнять себе жизнь.
Помимо фактов, имевших место в лагере, мы узнавали о многих событиях в мире от заключенных — бывших военнослужащих. Они рассказывали, в частности, что зверства, приписываемые немцам, на деле
часто совершались советской стороной. Например, если в какой-нибудь деревне отказывались поддержать партизан, то жителей истребляли, а потом сваливали вину на немцев. Мы этому не верили, как, впрочем, не верили и пропагандистским басням о том, будто небольшие советские отряды одерживают фантастические победы над огромными немецкими полчищами. По мере того как шла война, мы все больше узнавали о немецких зверствах, и это усиливало у политзаключенных желание принять участие в войне. Сотни тысяч политзаключенных из лагерей со всех концов страны обращались с просьбами послать их на фронт. Но политических на фронт не брали, брали только уголовников. Тогда многие из них добровольно соглашались работать по 12 часов в день в трудных условиях Заполярья.
Убедившись в лояльности того или другого политзаключенного, сотрудники НКВД иногда использовали его энтузиазм и преданность в своих целях. Приведу такой пример: по соглашению о ленд-лизе из США были доставлены во Владивосток экскаваторы. Но там не оказалось советских специалистов, которые могли бы их принять. В нашем лагере таких специалистов было несколько. Поэтому комендант лагеря, старый член партии Николай Васильевич Волохов, попросил одного из них, инженера-электрика с пятнадцатилетним сроком, выехать вместе с ним во Владивосток для приемки оборудования.
Не знаю, имел ли он на это разрешение из Москвы, но вылетели они в Красноярск, а оттуда во Владивосток. Так как инженер знал английский язык, а комендант — нет, то ему по существу пришлось вести все переговоры. В течение шести недель «на воле» никто и не догадывался, что инженер этот — политзаключенный и что ему предстоит вернуться в лагерь.
Я знал этого человека, украинца по национальности, очень хорошо. Был он сначала комсомольцем, потом вступил в партию. Когда его арестовали, он был в звании
полковника инженерных войск. Мысль о побеге ни разу не приходила ему в голову — и не потому, что его семья и родственники подверглись бы жестоким репрессиям, а главным образом потому, что он надеялся, что со временем в деле его разберутся и справедливость восторжествует. С другой стороны, не мог же он не видеть, в каких масштабах совершаются репрессии. Но он продолжал считать происходящую трагедию чисто внутренним делом и, оставаясь стойким коммунистом, не мог допустить и мысли, чтобы в это дело вмешивались иностранцы. Он, вероятно, желал устранения Сталина, но в первую очередь — разгрома Гитлера.
Была еще одна страшная примета, по которой заключенные могли судить о ситуации на фронтах — массовые расстрелы, связанные с поражениями в первый период войны.
Я помню три таких массовых расстрела в Норильлаге. Первый — в ноябре 1941, когда немецкая армия вплотную подошла к Москве. Тогда десятки людей ночью были выведены за зону и тут же расстреляны. Следующий массовый расстрел был 10 июня 1942 года и третий — 23 сентября того же года, когда поступило сообщение, что немцы на окраинах Сталинграда.
Расстреливали в лагере вообще чуть не каждую ночь, но подобные групповые расстрелы были определенно связаны с событиями на фронте. Я лично могу засвидетельствовать только то, что происходило в Норильске, но мне известно, что аналогичные массовые расстрелы проходили одновременно в сотнях лагерей по всему Союзу. Цель расстрелов заключалась в том, чтобы продемонстрировать так называемой «пятой колонне», что ей не стоит радоваться. Впрочем, подобный прецедент имел место гораздо раньше — в 1935 году, когда в день похорон Кирова расстреляли сотни людей, главным образом— «бывших оппозиционеров». Помню, списки их опубликовали на следующий день в «Правде» под заголовком «Возмездие». Некоторые из жертв были арестованы раньше и находились в тюрьмах по
делам, не имевшим никакого отношения к убийству Кирова. Расстрелы были просто частью террора. НКВД получало приказ расстрелять столько-то человек, и многих даже не судили.
В древние времена, в примитивных обществах, когда страну постигало бедствие, приносили в жертву людей, чтобы посеять страх среди народа и лишить «врагов» возможности радоваться. Примерно то же происходило в наши дни в Советском Союзе.
Несмотря на эти ужасы, большинство политзаключенных оставалось убежденными патриотами в течение всей войны, включая и самые трудные времена, когда голод и эпидемии уносили бесчисленные жертвы.
Весна 1943 года была наиболее тяжелым периодом из-за нехватки продовольствия. Не только в лагерях, но и все население страны страдало от недостатка продуктов, в том числе и хлеба. Мы же почти умирали с голоду и умерли бы, если бы летом того же года не стали прибывать первые пароходы с пшеницей из США, благодаря чему многие заключенные выжили. По дороге пароходы были торпедированы немецкими подлодками, и некоторые из них - потоплены. Позднее в наш район прибыли суда советского военно-морского флота, а неподалеку от устья Енисея произошло одно из морских сражений минувшей войны.
Для оказания помощи раненным в этом сражении вызвали врачей — «зеков» из лагеря. Среди них был талантливый хирург Родионов, которому удалось спасти, в числе других, жизнь командующего советской эскадрой. За это Родионов был освобожден досрочно из заключения и назначен главврачом военного госпиталя береговой охраны НКВД.
К концу войны мы, заключенные, жили исключительно на американских продуктах. До сих пор помню банки с американскими консервами с этикетками на английском и русском языках.
Политзаключенные, как я уже говорил, были лишены возможности принимать непосредственное участие в
обороне страны. Но тем не менее, они внесли серьезный вклад в усилия всего народа, направленные на борьбу с Гитлером.
Их руками, в основном, выстроен гигантский промышленный комплекс в Норильске с его шахтами, где разрабатывались богатейшие залежи цветных металлов и где был создан огромный металлургический комбинат, обеспечивавший военную промышленность особо дефицитным в то время никелем и другими металлами. Трудно переоценить значение Норильского комбината. Он принес стране не только огромные доходы, но и обеспечил нужды оборонной промышленности и промышленности в целом, на многие годы.
Обладая все же и человеческими «слабостями», заключенные ожидали, что их труд и преданность будут в конце концов оценены, а приговоры по крайней мере — смягчены. Однако я могу засвидетельствовать, что главным стимулом в их работе была победа над Гитлером.
В конце войны вольнонаемные, работавшие по договорам и руководившие строительством Норильского комбината, получили награды и повышения, а некоторым заключенным, постоянно перевыполнявшим нормы, были снижены сроки на один, два, три или четыре года. Конечно, если принять во внимание, что у большинства сроки были 15, 20 или 25 лет, то такое сокращение практически мало что значило; и все же это считалось хорошим предзнаменованием.
К сожалению, послевоенные годы не принесли долгожданного улучшения нашего положения. Наоборот, в некотором смысле стало еще хуже.
ГЛАВА 10 Послевоенные годы
ГЛАВА 10
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
Новая волна террора прокатилась по стране в 1948 и 1949 годах. Целью органов безопасности было оконча-
тельно завершить террор 1937 года: заключенных вроде меня, оставшихся в живых после тюрем и лагерей, на этот раз решили изолировать и впоследствии Ликвидировать. Поэтому меня, после девяти лет в Норильске, вместе с «этапом», состоявшим из 250 «ветеранов», перевезли в знаменитый Александровский централ близ Иркутска. Мы думали, что власти решают вопрос о нашем расстреле. Но «органы» ограничились в данном случае еще более строгой изоляцией.
Сам по себе этап был неимоверно тяжелым. Сначала нас доставили в пересыльную тюрьму в Иркутске, а оттуда переправляли в Централ. У узкого выхода стоял грузовик, вокруг — вооруженная охрана. Прежде чем нас погрузить, нам надевали наручники, сковывая попарно. Делали это в спешке, грубо, причиняя жестокую боль. Наручники впивались в тело с такой силой, что лилась кровь. В кузов нас забрасывали, точно кули — одну пару на другую, пока грузовик не набили до отказа. Мы лежали как селедки, не в силах шелохнуться; стонать было запрещено. Затем в кузов забрался вохровец и, пересчитав нас как скот, продел одну из заржавленных цепей (говорили, что эти цепи пролежали десятки лет в бывших царских тюрьмах) через кольца всех наручников и прикрепил ее к борту грузовика.
Было это утром, ранней осенью. Только что взошло солнце, воздух был чист и мягок. Мой напарник по наручникам был намного крупнее меня: наручники впивались ему глубоко в тело, причиняя сильную боль. И все же он прошептал:
— Проклятые садисты, по крайней мере они не отняли у нас света и солнца.
Мой напарник ошибся. Как только водитель сел в кабину и завел мотор, на нас накинули брезент. А начальник этапа потом сказал кому-то, что у него был приказ не только заковать нас и как можно плотнее набить нами грузовик, но и принять меры, чтобы не смогли определить, куда нас везут.
И нас повезли. Ни одна живая душа не сумела бы
догадаться, что за груз находится под брезентом. Один заключенный стонал всю дорогу от глубоко впившихся в него наручников. Когда мы прибыли, и с нас стали снимать их, этот несчастный уже громко кричал от боли: оказалось, что его наручники не снимаются. Тогда принесли пилу. Когда же и пилой не удалось перепилить железо, принесли топор, которым и разбили оковы: Но к тому времени руки заключенного были сплошь покрыты кровавыми ранами. Человек потерял сознание, и его унесли на носилках.
В этой тюрьме я встретил людей, которые, по идее, должны были навсегда исчезнуть из жизни. Среди них были видные нацисты, которых по тем или иным соображениям не судили открыто как военных преступников. Некоторых схватили в Западной Германии, другие, как например, дипломаты, находившиеся при посольстве Шуленберга, сидели уже давно. Были тут и японцы, захваченные в Харбине.
Режим в Александровском централе был до предела жестоким. Ни писем, ни газет. Кроме обычных наказаний и карцеров, в каждую камеру помещали не только одного сексота, но еще и другого сексота, чтоб следить за первым. Таких на тюремном лексиконе называют «наседками».
В Александровском централе, как и в других советских тюрьмах, настроение заключенных было пассивным, безнадежно подавленным. Меня долгое время удивляло, что люди, не знающие за собой никакой вины, так пассивно и покорно относятся к случившемуся с ними. Со временем же я убедился, что многие рады и тому, что их держат в тюрьме: ведь их могли бы просто взять и расстрелять. Поэтому сроки в десять, двадцать и двадцать пять лет казались иным почти милостью.
На деле же условия в тюрьме были таковы, что сроки эти вряд ли могли казаться милостью. Просто это означало медленное умирание вместо быстрой смерти. Старая русская поговорка «От сумы да от тюрьмы не зарекайся» отражает нищету и бесправие русского народа.
Эту поговорку я слышал в заключении много раз от молодых и старых, от крестьян и рабочих, врачей, инженеров, профессоров. Тот же деловой фатализм прозвучал и в спокойном голосе одного из политкомиссаров, выразившего точку зрения властей:
— Мы не стремимся снижать показатель смертности. Хотя некоторые из заключенных Александровского централа дожили и до смерти Сталина и до реабилитации, никто не имеет права забывать о тех чудовищных преступлениях, которые совершались по отношению к русскому народу и к людям других национальностей. Никто не должен чувствовать, что совесть его чиста, до тех пор, пока вся правда о сталинских преступлениях не будет сказана.
В середине пятидесятых годов, уже на воле и после реабилитации, я встретил человека, бывшего заключенного Александровского централа, восстановленного в партии и получающего пенсию. Он сказал, что не может больше радоваться жизни, так как «по политическим причинам » не может рассказать об известных ему страшных фактах:
— Не значит ли это, — заметил мой собеседник, — что есть еще люди, рассчитывающие возобновить эту пляску смерти?
Одним из последних и наиболее чудовищных преступлений Сталина была ликвидация ленинградской парторганизации в конце сороковых годов. В каком-то смысле 1948 год был переломным. Страна только что начала оправляться после войны и в то же время появились в народе признаки разочарования в партии и системе. После немыслимых лишений военного и послевоенного периода люди ожидали каких-то изменений, улучшения материальной и духовной жизни. В партийных, военных, литературных кругах люди спрашивали себя, действительно ли Советский Союз одержал победу для своего народа или же только для укрепления диктатуры
Сталина. Сталин тоже понимал, что народ после победы над Гитлером, стоившей таких гигантских жертв, ожидает чего-то нового и лучшего. Поэтому Сталину и органам безопасности надо было снова показать народу, что они не намерены выпускать из рук бразды правления. А для этого они решили провести очередное «кровопускание».
Чтобы описать фон, на котором в тот период происходили события, подчеркну, что в своем разочаровании и недовольстве интеллигенция и народные массы были едины. Сотрудники «органов», естественно, не могли пойти навстречу требованиям интеллигенции о свободе творческой и критической мысли. Но большее опасение вызывали чаяния, хотя и плохо сформулированные, многомиллионного колхозного крестьянства. Многие связывали надежды на какие-то перемены с именем очень популярного в то время героя войны Жукова. Думали, что если Жуков и не сможет добиться политической власти, то он все же сможет убедить Сталина распустить колхозы. У колхозников были иллюзии, что роспуск колхозов не только возможен, но и необходим, чтобы вывести сельское хозяйство из катастрофического состояния. Замечу из собственного опыта: в 1952 году, после освобождения из тайшетского лагеря, меня отправили в вечную ссылку в Красноярский край, в колхоз «Заветы Ильича». В этом колхозе из нескольких сот его членов было всего четверо мужчин (кроме меня): два инвалида, бригадир из немцев и еще один, по каким-то соображениям вернувшийся в колхоз после демобилизации.
Другой очень распространенной в послевоенный период иллюзией, особенно у интеллигенции и молодежи, была надежда на ослабление изоляции Советского Союза от Запада, в связи с основанием ООН и участием в ней СССР. С этим же были связаны и надежды широких трудящихся масс, полагавших, что сокращение военного бюджета поведет хотя бы к некоторому повышению уровня жизни.
Разумеется, в МГБ обо всем этом прекрасно знали, но ждали сигнала к действию от Сталина. Сигнал был получен и привел в 1948 году к особенно одиозному «Ленинградскому делу». Подробности о нем я узнал лишь через несколько лет из очень надежных источников.
Сталин вызвал к себе Хрущева и Маленкова (Хрущев был тогда первым секретарем московской парторганизации, а Маленков - секретарем ЦК) и заявил им, что располагает сведениями об «антисоветских заговорах» в московской и ленинградской парторганизациях. Хрущев попросил несколько недель для расследования, а Маленков тут же вызвался ехать в Ленинград для «следствия по делу». Хрущев стремился выиграть время в надежде, что Сталин забудет об этом деле, изменит свои намерения. Этим он пытался спасти себя и свой аппарат. Он в срочном порядке провел перетасовку внутри аппарата, стараясь создать впечатление о проявляемой им «бдительности». Маленков поступил иначе, и тем самым он несет прямую ответственность за аресты и расстрелы, так как лично и весьма активно участвовал в этом деле.
Массовые репрессии против ленинградской парторганизации проводились и в двадцатых и тридцатых годах. Но многие считали, что в Ленинградском партаппарате все еще бытует элемент некоторой независимости.
Конечно, внешне все выглядело тихо и спокойно. Но если бы началась критика генсека, то ожидать ее скорее всего можно было бы со стороны ленинградских коммунистов — по крайней мере так как будто полагал сам Сталин. Он, по-видимому, опасался, что в 1941 году многие в Ленинграде ждали прихода Гитлера и считал, что не следует слишком стараться спасти город от немцев. Чем больше населения Ленинграда погибнет, тем скорее будет навсегда разрешена проблема оппозиции центральной власти. Вполне вероятно, что Маленков собрал в Ленинграде достаточно материалов, чтобы подтвердить факт брожения и недовольства в ленин
градской парторганизации. Напомню, что в то время обострилось недовольство и в ряде стран «народной демократии». Урок Тито, по-видимому, убедил Сталина в необходимости предотвращения подобных «измен» в других странах «народной демократии». Что касается самого Советского Союза, то тут тактика сталинских органов безопасности состояла в том, чтобы не выжидать, а, так сказать, в виде профилактики подавлять малейшие потенциальные очаги недовольства и сопротивления. Теперь на очереди была ликвидация ленинградской парторганизации — в частности, путем интенсификации системы слежки-доносов, запугивания людей — как десять лет назад — до такой степени, чтобы они и в мыслях боялись поставить под сомнение сталинское руководство.
Я не удивился поэтому, когда знакомый профессор ленинградского университета рассказал мне, что следователь спросил его на допросе, не забыл ли он 1937 год. При этом следователь добавил, что 1937 год — не дело прошлого, дух его и сейчас жив. И действительно, снова, как в 1937 году, людей арестовывали, предъявляя им ложные и фантастические обвинения, снова пытали, духовно и физически. Но разница была в том, что происходило это только в Ленинграде; поэтому «Ленинградское дело» напоминало скорее Варфоломеевскую ночь. Хотя весть о событиях в Ленинграде распространялась по всему Союзу с быстротой молнии, в печати и по радио об этом почти ничего не сообщали — ни лжи, ни правды.
Как и в тридцатые годы, пострадали семьи и родственники арестованных и расстрелянных. К тому же их еще и запугивали, видимо, для того, чтобы конкретные обстоятельства дела были известны как можно более узкому кругу и оставались окутанными зловещей тайной. В июле 1951 года мне довелось встретиться с семьей одного из фигурировавших в «Ленинградском деле». Было это на пересылке в Красноярске. При чтении длинного списка заключенных в нашей камере я услышал
фамилию «Капустин». Я знал, что Капустина, бывшего второго секретаря ленинградского обкома, ликвидировали два года назад в Ленинграде. Заключенный оказался мальчиком лет десяти. От него я узнал, что он — сын бывшего секретаря обкома Капустина, и что семьи всех расстрелянных в Ленинграде в 1948-49 годы были арестованы два года спустя. Сына Капустина немедленно перевели в другую школу, его вместе с младшей сестрой взяли к себе родственники. Потом дошла очередь и до приютивших их родственников, которые были репрессированы за помощь семье «врага народа». Мальчика арестовали в январе 1951 года и после следствия отправили в «вечную ссылку» в Красноярск, где уже находились члены семей других ликвидированных по «Ленинградскому делу».
Мы научили Капустина писать заявления о том, что по закону дети до двенадцати лет не должны содержаться в одной камере со взрослыми, в «общих» камерах. Мальчик написал несколько таких заявлений. В конце концов его увезли в какой-то отдаленный пункт в Сибири, где он, вероятно, находился до смерти Сталина.
Еще больше я узнал о «Ленинградском деле», когда, уже в ссылке, меня навестила моя семья и один знакомый журналист из Москвы.
Когда я прибыл на место ссылки в село Пятково, я не мог даже сообщить об этом семье, так как не имел денег на марку. Занять же было не у кого, потому что в колхозе платили раз в год, а у других ссыльных тоже не было ни копейки.
Наконец мне удалось собрать на почтовую марку, и я написал семье в Москву, что из лагеря освободился и нахожусь в ссылке. Жена незамедлительно ответила телеграммой, что вместе с сыном едет повидаться со мной. Мы не виделись больше 15 лет. Из разговоров с ними выяснилось: мое представление о том, что происходило в Москве за время моего отсутствия, было не очень точным. В частности, я и не мыслил, что пришлось пережить моей жене — жене «врага наро-
да». (Моя жена писала об этом в своей книге воспоминаний, вышедшей на иврите в Тель-Авиве).
Моя семья, в отличие от меня, а сын в особенности, воспринимали события вне рамок партийности и марксистской идеологии, и поэтому у нас часто не находилось общего языка.
С семьей, а также с моим другом, московским журналистом, хорошим, между прочим, знакомым Фадеева, мы много говорили и о «Ленинградском деле». Мой друг объяснял, что хотя культ Сталина достиг небывалых масштабов, тем не менее усилились признаки деморализации в партии благодаря чувству беспомощности перед лицом НКВД. Что касается «Ленинградского дела», то руководители парторганизации « признались» не только в преступлениях экономического характера, но и в заговоре против Сталина. Причем они якобы собирались арестовать московское начальство, включая руководителей МГБ, за преступления, совершенные по указаниям Сталина. Некоторые из обвиняемых признались, что их вдохновил пример Тито. Арестованные по «Ленинградскому делу» были, видимо, повешены, а не расстреляны.
Мне рассказывали, что одним из главных следователей по «Ленинградскому делу» был Епишев, посланный туда специально из Москвы (поскольку местному аппарату не доверяли) и игравший прежде видную роль в СМЕРШе, фамилию Епишева я с тех пор встречал в печати. Епишев участвовал в ликвидации Берия, преуспевал при Хрущеве и в последнее время играл важную роль в осуществлении политического контроля как в СССР, так и в Восточной Европе. Когда Епишев в 1968 году поехал в Прагу, я понял, что положение в Чехословакии вызывает серьезную тревогу в Москве. Разговоры, которые я вел с людьми в 1951 году, убедили меня в одном: если бы в конце сороковых годов действительно возникло « ревизионистское » движение, оно получило бы поддержку и в самой Москве. Но Епишев и многие другие именно о том и позаботились, чтобы ничего подобного не случилось,
Из Александровского Централа я был переведен в Тайшет. После революции там существовал обычного типа исправительно-трудовой лагерь. В сороковых же годах его превратили в спецлагерь особого режима. «Спецлаги» возникли с возобновлением террора в конце сороковых годов, и тайшетский лагерь был одним из самых крупных.
Режимы в этих лагерях были исключительно крутые. Мы беспрерывно находились под наблюдением. На ночь бараки запирались, но и днем заключенным не разрешали свободно ходить даже внутри зоны. Заключенные носили особую лагерную форму с номерами и буквами на фуфайках и брюках, наподобие той, какую носили каторжники в царское время. Эти номера и буквы позволяли вохровцам определять, из какой части лагеря тот или иной заключенный. Строго ограничивалась и контролировалась переписка. В некоторых спецлагерях заключенным разрешали писать домой только два раза в год, в результате чего часто окончательно порывались связи между ними и их семьями. Очень немногие рассчитывали когда-нибудь выбраться на волю: люди были пожилые или средних лет, а сроки — у большинства — до двадцати пяти лет.
Если в других лагерях наиболее квалифицированные работали по специальности, то в спецлагах все, даже крупнейшие специалисты, работали на общих работах, подносили шпалы, прокладывали дороги, рыли котлованы.
В то время как раз начиналось сооружение Братской ГЭС. Заключенные строили железнодорожную линию к Братску. Работали в неимоверно трудных условиях, при жестоком морозе, без теплой одежды, полуголодные. Они считались особо опасными, и вряд ли предполагалось выпустить кого-либо живым из этих спецлагов.
В Тайшетском спецлаге оказались люди совсем непохожие на тех, каких я встречал за последние пят-
надцать лет. Прежде всего, в лагере не было уголовных, а большинство заключенных — иностранцы. Из советских граждан многие побывали на фронте, занимали прежде ответственные посты в армии, в промышленности и на транспорте. Военнослужащие были арестованы за «антисоветскую» пропаганду, либо за сотрудничество с немцами, либо за шпионаж в пользу союзников. Таких судили по статье 58-6 за шпионаж. В тридцатых же годах большинство наиболее суровых приговоров выносилось по статье 58-8 (за «террор» и связанные с ним «преступления»).
То, что в Тайшете, да и в других спецлагерях, было собрано такое множество самых разных «преступников», свидетельствовало о лихорадочной работе, которую в то время проводили органы госбезопасности. При этом «органы» взяли на себя «заботу о безопасности» не только Советского Союза, но и стран «народной демократии», где тогда начался государственный террор и откуда уже стали поступать первые его жертвы в Тайшетский лагерь.
В Тайшетском спецлагере находилось около ста тысяч человек. Этот лагерь был лишь одним из многих спецлагов, расположенных в Сибири, Казахстане, на Крайнем Севере. Мы прикинули, что в одних только спецлагах должно сидеть несколько миллионов человек, и это не считая политзаключенных других, «обычных» лагерей, число которых тогда резко возросло.
Лагерь был разделен на несколько зон, в каждой из них — установлен особый порядок дававший возможность, лучше наблюдать за заключенными.
В Тайшете я впервые услышал слово «чифир» (китайского происхождения). Чифир — напиток, действующий вроде наркотика и помогавший заключенным забыться, отрешиться от страшной действительности.
В обычных лагерях, как я уже говорил, алкоголь и наркотики были строжайше запрещены, и все-таки, благодаря некоторым связям с внешним миром, заключенным иногда удавалось добыть не только спиртные
напитки, но даже опиум и кокаин. В спецлаге это было совершенно исключено. Поэтому заключенные открыли для себя чифир. К моменту моего прибытия в лагерь употребление чифира приняло уже такие размеры, что администрация в срочном порядке повела борьбу с ним. Чифир содержит таннин и кофеин. В больших концентрациях его эффект напоминает действие кокаина или опиума. Обычно он получается просто из чая. Целую пачку чая заваривают так круто и кипятят так долго, что получаются две-три чашки напитка. Концентрация таннина в чае при этом такова, что эффект поистине поразителен. Человек впадает в транс, забывает обо всем. Администрация лагеря делала все возможное, чтобы лишить заключенных и этой отдушины — проверяла тщательно посылки (разрешалось посылать только одну маленькую пачку чаю). За употребление чифира и за нелегальное хранение чая людей строго наказывали.
Несмотря на это, в лагере широко распространилась торговля чаем, а в некоторых секторах образовались даже своего рода «клубы» чифиристов¹.
Люди «чифирили» поздно ночью, когда никто не мешал им пребывать в состоянии нирваны. В моей зоне таким «клубом» стала сушилка, куда «зеки» приносили сушить свою одежду после работы. Было это в подвале, нечто вроде котельной, причем работу в сушилке получали, конечно, по исключительному «блату». «Хозяином» сушилки был довольно интересный человек. Он происходил из семьи состоятельных промышленников, переселившихся после революции в Корею. Здесь-то и родился Элас. Родители дали ему русское образование. Элас говорил мне, что всегда считал себя русским, а Россию — своей родиной.
В молодости Элас собрал немного денег и переехал в Китай, в Кантон, а затем в Шанхай, где изучил китайский язык, познакомился с китайскими обычаями,
¹ В каждом секторе было по 500-600 заключенных.
культурой и образом жизни. Когда создалась Корейская народная республика, Элас предложил свои услуги новой администрации и был принят на работу. Однако вскоре он попал под подозрение, как выходец из Китая времен Чан Кай-ши, а также потому, что никогда не жил в России, но зато успел побывать в Южной Корее и в Японии. В 1947 или 1948 году его арестовали и сослали в Сибирь.
Завидную должность сушильщика Элас получил, помимо « блата», благодаря незаурядному уму и деловитости. Должность эта, как я сказал, избавляла его от общих работ, а кроме того, обеспечивала ему возможность полностью отдаваться своей «чифирной» страсти. Мало-помалу вокруг Эласа образовалось нечто вроде клуба чифиристов. К нему в камеру приходили люди, присаживались на койку, совершали «чайные торговые сделки» и тут же требовали чифир. Чай ценился очень высоко: его выменивали на много лагерных «паек» хлеба, супа и пр. Люди готовы были отдать все — только бы забыться, уйти от безнадежной действительности.
Странно, что Элас избрал себе в помощники немца, майора СС Гедеке, молодого еще человека, лет 27, захваченного НКВД в Восточном Берлине, где он возглавлял один из отделов американской контрразведки. Майор Гедеке имел срок в 25 лет.
Это был высокий стройный человек с военной выправкой. За свою короткую жизнь он перевидел многое. В детстве — Гитлерюгенд, потом — служба в СС, Восточный фронт. Вскоре после войны он разочаровался в нацизме, перешел в Западную зону, откуда ЦРУ направило его в Восточный сектор Берлина.
Гедеке рассказывал, что в Восточном Берлине для него работало много немцев, в том числе и некоторые юнцы, попавшие затем в наш лагерь. Прежде они были в Гитлерюгенде, и Гедеке завербовал их для таких простых поручений, как например: записывать номера машин, узнавать номера советских частей, к которым принадлежали служившие в Берлине военные. Неко-
торые из этих юношей были еще совсем подростками, и они никак не ожидали, что им дадут такой же срок — 25 лет — как и их шефу, Гедеке.
Все-таки некоторые из них выжили и после смерти Сталина они были освобождены¹.
В нашем лагере было много немцев. Все они стали скромными и послушными, утратили былое высокомерие, заносчивость, вели себя очень вежливо, скрывали свою ненависть к русским, которые, в общем, относились к ним с глубокой враждебностью и обращались с ними весьма грубо. Немцы переносили голод намного тяжелее, чем остальные, и готовы были на любую грязную и унизительную работу в обмен на ничтожные добавки.
Большинство из них, включая и старших офицеров, занималось в лагере торговлей и мелкой спекуляцией. А в их собственных лагерях в Германии и на оккупированных территориях за «экономическое преступление» заключенных очень строго наказывали, сурово карали человека, укравшего картошку или кусок хлеба, жестоко пытали и даже расстреливали за малейшее проявление нечестности. Других, значит, немецкие офицеры наказывали, а сами на моих глазах крали и спекулировали. Это еще раз доказывает бессмысленность
¹ Репатриация немцев-заключенных началась уже в 1953 году. Насколько мне известно, последние немцы из Тайшета были освобождены во время официального визита Аденауэра в Москву в 1955 г. Однако твердого убеждения в том, что все они были репатриированы, у меня нет: ведь, когда заключенного освобождают из лагеря, с ним могут еще сделать все, что угодно. Хотя и имелся общий приказ об освобождении немцев, повидимому, тех из них, которые раньше работали на американцев, старались задержать. Так что некоторые все еще оставались в лагерях до 1956 года, после чего приговоры были пересмотрены. Были снижены с 25 до 10 лет и приговоры за шпионаж на территории СССР. Поэтому, видимо, тех немцев которые дожили до середины пятидесятых годов, все же освобождали и в большинстве случаев репатриировали.
и лживость тех расовых теорий, согласно которым лишь « торгашеские» народы, такие, как евреи, поляки, люди нечестные, а потому их следует отнести к «низшей расе».
Сразу после войны с немцами обращались особенно жестоко и бесчеловечно: в лагерях их били, не оказывали медицинской помощи. Наша охрана состояла главным образом из деревенских парней, демобилизованных после войны из армии и избравших службу в МГБ вместо того, чтобы вернуться в свои колхозы, где люди буквально гибли от голода.
Немцев они ненавидели, кое-кто из них своими глазами видел лагеря для советских военнопленных, видел, как немцы с ними обращались. Жалости к немцам у них не было. Единственными в Тайшете, кто относился к немцам по-человечески, помогал им выжить, были евреи. Например, если немцу не удавалось добиться медицинской помощи от русского врача, он обращался и получал ее от врача-еврея.
Мировоззрение евреев, в основном, гуманное. Евреи выступали в защиту человеческих прав и человеческого достоинства, клеймили всякое угнетение одних людей другими. Большинство русских евреев, с которыми я разговаривал, считало, что главное зло — это не национальный вопрос, а та идеология, на основании которой человека лишают его неотъемлемых прав. Немцы же, помня о злодеяниях, которые совершались против евреев в нацистской Германии и на оккупированных территориях, опасались больше всего именно евреев. Их особенно страшило столкновение с евреями, находившимися среди лагерного начальства. На деле же евреи из лагерной администрации были единственными людьми, относившимися к ним по-человечески. Конечно, не все евреи: были и такие, в особенности среди техников и инженеров из ранее оккупированных западных областей, которые относились к немцам совершенно непримиримо. Но их было меньшинство.
Поскольку я знаю немецкий, то мог говорить со многими немцами — заключенными, и оказалось, мы
говорим на одном языке, и не только в смысле лингвистическом. Люди эти не были нацистами, и я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми из них. Гедеке к таким не принадлежал, но от него я узнал, что происходило в умах тех молодых немцев, которые становились нацистами, а потом, меняя свои взгляды, пытались снова обрести почву под ногами.
Еще одним членом «чифирного» клуба был человек, которого я назову Ваней. Этот Ваня первым представил меня Эласу, а это считалось, как я уже говорил, большой честью. Ваня был довольно известным писателем (я читал несколько его книг), происходил из дворянской семьи, получил хорошее образование. Сразу же после февральской революции Ваня, тогда еще подросток, стал ярым большевиком и принимал участие в революционном движении в своем родном городе, где-то в центральной части России. Он был комсомольцем, потом — преданным членом партии. Писал статьи — сначала в пионерской и комсомольской печати, потом в партийной, стал весьма « левым » членом РАППа¹ возможно для того, чтобы под крайнепролетарскими взглядами глубже похоронить свое непролетарское происхождение. Он писал романы, эссе, литературные обзоры и имел много друзей среди писателей.
В начале тридцатых годов у него произошло, как он выражался, «недоразумение с партией». Он написал крупное произведение о троцкистах, полное ненависти к ним и «разоблачений» их взглядов. В книге в качестве ортодоксального коммуниста фигурировал и он сам, критически переоценивающий свои взгляды — взгляды рапповца. К его изумлению, — а от этого изумления Ваня, кажется, так и не смог отделаться в последующие годы, — роман его не напечатали. И это невзирая на то, что он не только следовал «правильной» партийной линии, но роман в целом был уже одобрен несколькими видными партийцами и даже самим ЦК. В романе
¹ Российская Ассоциация Пролетарских Писателей.
всячески восхвалялся Сталин, а Троцкий и его сторонники представали в отвратительном свете. Я доказывал ему, что в тридцатые годы его биография была недостаточно подходящей для публикации книги, а во время и после войны тему троцкизма старались вообще замолчать.
Больше того, троцкизм был чисто партийным идеологическим вопросом, но никак не темой для романа. Вопрос этот касался Сталина лично и поэтому совсем не подходил для беллетристики. Можно было, подобно Шолохову, писать о коллективизации, но о троцкизме, борьба с которым проводилась путем террора и массовых расстрелов, писать не полагалось — это никак не походило на развлечение. Более того, даже обозвать беспартийного «троцкистом» считалось в то время недопустимым. Следовало говорить о троцкизме и троцкистах либо так, как о них писала «Правда», то есть называя их бешеными цепными собаками империализма, либо вообще не упоминать о них — было в этом что-то от религиозно-церковного обряда. Мне это всегда напоминало то место в Библии, где строжайшим образом запрещается добавлять хоть одно слово или сокращать хотя бы на одно слово «Десять заповедей».
Это была как бы наглядная иллюстрация к тому, как Сталин превращал коммунистическое движение в какой-то религиозный орден с псевдо-религиозными обрядами. Священным писанием, в частности, становились собственные писания Сталина. Кое-что от этого сохранилось и в послесталинское время. Вспомните внутрипартийную борьбу с группой Молотова в пятидесятых годах. Тогда была пущена в оборот формула об «антипартийной группе Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова». О Шепилове нельзя было говорить отдельно. То же получалось и с книгой Вани о троцкистах.
Ваню не взяли на фронт из-за последствий детского паралича — одна нога у него была короче другой. Но в 1942 году его приняли на работу в СМЕРШ. Для
видимости он сделался редактором одной из армейских газет, а на самом деле — работал в контрразведке. На этой работе он пробыл до конца войны, после чего вернулся в Ленинград, где вновь взялся за журналистскую и писательскую деятельность. Ваня живо интересовался современной иностранной литературой, у него были контакты с зарубежными писателями-марксистами, такими, например, как Дж. Олдридж и Дж. Линдзи. Он встречался с корреспондентами газет «Унита» и «Юманите». Эти корреспонденты бывали в доме у Вани, и у одного из них начался роман с его женой, молодой еще актрисой. Позднее корреспондента выслали из СССР за шпионаж, а жену Вани — арестовали. Ей дали всего десять лет и отправили в один из лагерей неподалеку от Ростова, где она стала активной участницей лагерной самодеятельности. Такое либеральное отношение к ней объяснялось, видимо, тем, что она дала много всякой информации о разных людях.
Вскоре арестовали и Ваню, по обвинению в шпионаже. Он протестовал, доказывая свою непричастность, но его заставили подписать «признания», факт его невиновности подтверждается хотя бы уже тем, что после смерти Сталина Ваня был полностью реабилитирован. Тогда же его приговорили к 25 годам лагерей, возможно, еще и потому, что он был связан с «органами» даже и после ухода из СМЕРШа. В лагере он снова работал в контакте с «органами» и был «секретным сотрудником». Поэтому он и проявлял такой интерес к «клубу» Эласа — под влиянием чифира люди охотнее раскрываются. Кроме того, Ваня надеялся собрать материал для новой книги.
По-видимому, в своих действиях Ваня не видел ничего зазорного — он и раньше сотрудничал с «органами», то же самое можно делать и в лагере.
Он считал, что его самого взяли по ошибке, но что остальные — действительно «контра», и поэтому за ними нужен надзор. В этом причина его особого интереса ко мне. Мы все были убеждены, что Ваня — сексот.
Меня даже предостерегали от общения с ним. Но из своего долгого лагерного опыта я знал, что избегать сексота столь же опасно, как и общаться с ним, опасно и просто бесполезно. Вспомнить хотя бы случай, когда мой отказ «прокомментировать» известие о смерти Троцкого едва не стоил мне жизни. И тогда я поставил себе за правило таких людей не избегать, хотя зачастую разговоры были рискованными — но и интересными. Мы с Ваней разговаривали подолгу, в некотором роде даже подружились. Он все больше убеждался в том, что и мой приговор был ошибкой, что я, подобно ему, остаюсь верным и преданным коммунистом, и не сомневался, что настанет день, когда нас обоих освободят.
Однажды Ваня в полном смысле слова спас мне жизнь: против меня готовили новое дело, и только благоприятный отзыв Вани предупредил новый процесс.
Дружба с Ваней имела и отрицательную сторону: меня стали избегать другие заключенные, но это было меньшим из двух зол. Многое в Ване было мне чуждо, но он, несомненно, был интересной личностью.
Не менее интересным членом «чифирного» клуба был Алипий Андреевич Кравцов. Встретились мы в Тайшетском лагере перед распределением по «зонам». Кравцов сразу же обратил на себя внимание своей необычайной в этих условиях внешностью. Алипий был высок, с типично русским лицом, обрамленным бородой. Бороды в лагере были запрещены, борода Кравцова выглядела настолько внушительно, что, по-видимому, даже лагерное начальство не решалось убрать ее. Одет он был в черную флотскую шинель, казался в ней очень импозантным, держался прямо, говорил с достоинством. Было ему тогда лет тридцать. Вырос он уже при советской власти, и поэтому не принадлежал поколению, о котором написана эта книга. Его самообладание и память были исключительными, а взгляды — необычными.
Алипий был сыном православного священника. Типичный интеллектуал, он уже в возрасте десяти лет изучил несколько европейских языков. Живо интересовался также гуманитарными науками и техникой. После окончания школы пошел в технический вуз. Не был ни пионером, ни комсомольцем, сторонился политики. Кравцов рассказывал, что на него повлияли процессы тридцатых годов, в которые он с самого начала не верил. Он считал, что люди, пассивно голосующие за политическую линию, то есть молча поднимающие руку, являются соучастниками.
Поэтому Алипий избегал всяких собраний и митингов. Такое отношение было характерно для многих из его поколения.
Он и в лагере не думал менять своих взглядов, и поэтому, когда узнал, что я — бывший партийный, арестованный в тридцатых годах, да еше бывший сотрудник Коминтерна, то сразу насторожился.
Сначала он принял меня за иностранца-интеллигента, потом за человека, побывавшего за границей и именно поэтому попавшего в беду, и был расположен дружески. Алипий был бригадиром бригады, в которой я работал. Но узнав о моем партийном и коминтерновском прошлом, он сильно охладел: у него было очень сильное предубеждение против всех тех, кто имел хоть какое-то касательство к партийным и политическим делам. Такое отношение, впрочем, характерно для многих интеллигентов. Но затем его отношение ко мне переменилось, и в течение почти полутора лет мы были близкими друзьями. Кравцов рассказывал мне о своей семье, показывал письма от родных и свои к ним. Когда мы узнавали о таких событиях, как, например, корейская война, Кравцов слушал меня внимательно, но сам никогда никаких замечаний не делал.
Он рассказал мне историю всей своей жизни, включая и то, как он попал в лагерь. В самом начале войны его призвали в армию. Через год он уже был капитаном.
Потом его перевели в Генеральный штаб военно-морского флота. Он производил впечатление честного, надежного, инициативного человека, и ему поручили важную секретную работу в шифровальном отделе. Оттуда его послали на Дальний Восток ответственным за работу шифровальщиков в Тихоокеанском флоте. В этой работе ему сильно пригодилось знание английского языка.
В то время американские союзные суда обходили по пути во Владивосток японскую блокаду. Их с нетерпением ждали советские моряки, защитники Владивостока. В обязанности Кравцова входили контакты с американскими судами и персоналом.
Работа Кравцова была крайне трудной и утомительной; иногда он целыми сутками расшифровывал приказы и донесения, перехватывал радиосвязь японцев. Алипий стал заядлым курильщиком, много пил, но алкоголиком не был. По работе он имел дело с огромным количеством строго секретной информации и понимал, что для не члена партии это очень опасно. Поэтому он пытался перейти на другую работу, но безрезультатно.
Командование очень ценило Кравцова и вскоре его представили к награде. Когда он сказал, что в качестве беспартийного не считает для себя возможным быть на такой ответственной работе, ему ответили:
— Это можно исправить. Вот бумага, пишите заявление о вступлении в партию.
На это Алипий ответил командующему флотом, что с партбилетом или без него не хочет иметь ничего общего с политикой. И это не подействовало на командующего, который терпеливо внушал Алипию, что сам он тоже не очень интересуется политикой, но что партия, государство и товарищ Сталин — это одно целое, что он совершенно убежден в верности и преданности Алипия. Кравцов подписал заявление, был принят в партию, после чего его перевели на еще более ответственную и секретную работу в Москву. В Москве их с женой посе-
лили на государственный счет в одну из самых больших гостиниц, которая стоила полторы тысячи рублей в месяц. На новой должности заместителя начальника отдела Генштаба Алипий не занимался шифровкой сам, а только проверял работу своих подчиненных. Работу его ценили, хотя кое-кто жаловался, что он не общителен и малоразговорчив. На это Кравцов обычно отвечал, что работа занимает почти все его время и что в свободные часы он хочет быть с семьей. От своих друзей-американцев Кравцов получал множество детективных романов и зачитывался ими в свободное время. Даже в лагере он рассказывал мне содержание некоторых из этих книг, в частности, книг Агаты Кристи.
Все казалось в порядке, пока однажды ночью не раздался стук в дверь. Его арестовали по обвинению в измене родине (ст. 58/1а). Это случилось в 1949 году. Ему предъявили обвинение в том, что во время войны он сотрудничал с американской разведкой, передавал им секретные советские шифры. Обвинения эти были чудовищны — ведь, если бы он действительно это сделал, американцы могли бы расшифровать все донесения, и это немедленно бросилось бы в глаза контрразведке.
Алипия допрашивали на Лубянке. При допросах присутствовали не только сотрудники МГБ, но и представители штаба военно-морского флота. Поскольку Алипий был абсолютно невиновен и никакие методы физического воздействия не выжали из него признаний, решили использовать старый прием, применявшийся НКВД в тридцатых годах: стали вызывать его жену и от нее пытались добиться компрометирующих Кравцова показаний. В ходе допросов ей делали непристойные предложения, о чем впоследствии ей удалось сообщить в лагерь.
Алипий тогда ничего не знал о том, что параллельно допрашивают и его жену. Но ни она, ни его непосредственный начальник не дали требуемых следствием показаний, и Алипия присудили всего к трем годам лагерей. Необычная краткость срока явилась еще одним свиде-
тельством того, что у МГБ, в генштабе военно-морского флота и даже у судившей «Тройки» не было никаких данных против него. Но так полагалось — раз дело было возбуждено, человека следовало присудить хотя бы к какому-то сроку. МГБ не могло ошибаться.
На одном из последних допросов следователь так прямо и объяснил, что приговор, видимо, будет мягким, но поскольку распоряжение об его аресте было дано свыше, и много высокопоставленных лиц под ним подписалось, оправдать его не смогут, тем более, что он находился на строго секретной работе. Вероятно, Алипия действительно заподозрили в чем-то, когда он работал на Дальнем Востоке, и вполне возможно, что его перевод в Москву был связан с проверкой дела. В то время всякие контакты с американскими гражданами были крайне опасны, а Алипий как раз имел такие контакты, да к тому же он отзывался об американцах просто как о людях, а не так как предписывалось партийными традициями. Спустя какое-то время после моего знакомства с Алипием в лагере мне удалось через знакомых в Москве установить связь с его женой. Кравцов, естественно, был очень рад весточке от жены, но затем, всякий раз по получении известий, он хмурился все больше и больше. Пятое, кажется, от нее письмо он показал мне. Жена спрашивала, почему, если он не виноват, дело его до сих пор не пересмотрели. И это интересует не только ее, но и всех его друзей по работе, а также бывшее начальство.
Сначала он пытался намеками объяснить, насколько запутано и сложно его дело. Но она, видимо, не понимала и предупреждала, что от немедленного пересмотра его дела зависит судьба семьи и будущее их ребенка. Он ответил, что из лагеря бессилен что-либо предпринять. В конце концов, жена написала ему примерно следующее: «Одно из двух — либо ты виновен, и я должна сделать из этого соответствующие выводы, либо произошла ошибка. И эту ошибку следует как можно скорее исправить». Это было нечто вроде ультиматума,
и Кравцов глубоко задумался над этим письмом. Выходило, что только в случае, если ему удастся доказать свою невиновность, у него есть перспективы сохранить свою семью. Алипию с огромным трудом удалось организовать встречу жены с одним из своих друзей, и тот долго пытался разъяснить ей все обстоятельства, связанные с положением Алипия. Однако и это, кажется, не помогло. Причем Кравцов с иронией вспоминал, как он сам в свое время говорил жене, что МГБ справедливо подозревает всякого, имеющего контакты с иностранцами, в том числе и его. А в ответ на вопросы жены о чистках и расстрелах Алипий говорил, что лучше всего об этом не думать, ибо все проводится с одобрения людей, стоящих у власти и пользовавшихся в свое время доверием самого товарища Ленина.
Так что Алипий сам, в какой-то степени, повлиял на мировоззрение жены, и тем труднее было разубедить ее сейчас, да еще на расстоянии.
Летом 1950 года Алипий серьезно заболел, и его положили в лагерную больницу. Мы стали встречаться реже. Выйдя из больницы, Кравцов стал усиленно хлопотать о месте учетчика в санчасти, что дало бы ему возможность следить за поступлением и выпиской больных, за лечением, которое они получали, читать истории болезней. Сначала это меня удивило, но потом я понял, зачем Алипию понадобилась эта работа.
В том же году, поздней осенью, я сам серьезно заболел. Тогда мне пришлось пережить самое жуткое за все двадцать два года моего пребывания в заключении. Я попал в лагерную больницу. К тому времени был издан приказ подвергать заключенных различным издевательствам. Были случаи самосуда, избиений и жестоких истязаний.
Меня избили прикладами, изваляли в снегу, стреляли над головой. А однажды меня раздетым заставили носить воду из реки, наполовину уже покрытой льдом. Я провел в ледяной воде два часа, черпая воду для бани вохровцев. В результате я заболел воспалением легких,
перешедшим в плеврит, и провел двадцать дней в лагерной больнице — на грани жизни и смерти. Даже когда кризис миновал, я все еще испытывал сильнейшие боли в груди и не мог спать. Однажды в состоянии глубочайшей депрессии я поднялся с койки и добрался до комнаты, где работал Кравцов. Вид у меня, видимо, был очень страшный: до крайности истощенный, с посиневшими губами. В отчаянии я попросил Алипия дать мне снотворных порошков. Алипий подумал, что я решил уснуть и никогда больше не проснуться.
Тогда Кравцов заговорил, и говорил он долго, убедительно. И то, что он сказал, навсегда осталось у меня в памяти. Кравцов знал, что я уже больше 15 лет в заключении. Он заклинал меня сделать еще усилие, чтобы остаться жить. Он просил, убеждал, умолял, употребляя какие-то необычные выражения. Он говорил, что, работая в больнице, видел многих больных, впавших в полное отчаяние и уже ушедших из жизни. Он говорил, что мне следует уйти от этой мысли, что многих несчастных, которые хотели смерти, он мог понять. Но мой случай — особенный, потому что я столько знаю, столько видел, помню людей, факты, события, и я обязан и буду — он уверен — в состоянии когда-нибудь рассказать людям обо всем этом. Мой долг - рассказать все тем, кто не знает, но кто должен узнать. Кравцов сказал, что именно эта уверенность и навела его на мысль поговорить обо мне с врачами больницы, и те обещали помочь. И теперь я должен сделать все, чтобы выжить, чего бы это ни стоило.
Слова его звучали так дружески, так тепло, что даже физическая боль несколько ослабла, и может быть благодаря Кравцову я выжил в ту ночь и пережил следующие. А еще через две недели меня выписали из больницы. Тем, что я жив и сегодня, невзирая на больные легкие и частые боли, я во многом обязан этому человеку. В декабре Алипий, присоединившись к театральной самодеятельности, поставил «Лес» Островского. В этой пьесе он играл роль Несчастливцева, честного человека,
которому нет места в окружающем мире. «Лес» — не только пьеса XIX века, многое в ней звучит злободневно. Алипий оказался очень способным актером. Вообще на вечера лагерной самодеятельности я не ходил, считая их унизительными при нашем положении. Но большинство «зеков» находило большое удовольствие в этих мероприятиях, осуществлявшихся под эгидой КВЧ¹. Они готовили концерты, литературные чтения и « постановки».
Пьесу «Лес» поставили в канун Нового года — 31 декабря. Алипий уговаривал меня попросить у Вани билет и пойти на вечер. Я согласился, в надежде поговорить с Алипием по окончании спектакля: после того нашего больничного разговора я мало с ним виделся. Все же мне так и не удалось попасть на спектакль — тяжело болел один из моих друзей, и я провел вечер, сидя у его койки в лагерной больнице. Больной друг говорил, что боится сойти с ума. Он был когда-то писателем, теперь ему перевалило уже за шестьдесят, и он так и не приспособился к лагерным условиям. Незадолго до этого он в посылке получил книгу одного из немецких классиков на немецком языке. Мы читали эту книгу друг другу вслух. Я рассчитывал все-таки повидаться с Алипием после спектакля. Сразу же после окончания пьесы я узнал от Вани, что пьеса прошла с большим успехом и что особый успех выпал на долю Алипия. В первых рядах, конечно, сидело лагерное начальство, и они особенно усердно аплодировали Алипию, Ваня добавил, что Кравцов очень устал и ушел сразу после «постановки» в свою комнату при больнице.
В день Нового года, 1 января 1951 года, мы не работали, и я надеялся повидать Кравцова утром. Но во время завтрака пришел очень огорченный врач и сказал нам, что Алипия Кравцова нет больше в живых. Он заперся в своей комнате, а когда взломали дверь, его нашли мертвым. Была созвана медицинская комиссия
¹ КВЧ — культурно-воспитательная часть.
для выяснения причины смерти. По словам доктора, Алипий принял большую дозу снотворного, и сердце не выдержало. Если бы вскрытие показало самоубийство, то начальник лагеря, а также работники санчасти, включая и «зеков», имели бы неприятности: началось бы тщательное расследование, каким образом заключенный имел доступ к таким лекарствам. Но, по определению комиссии, причиной смерти оказался сердечный припадок. Кравцов не оставил ни записки, ни писем. Ничего. Доживи Кравцов до смерти Сталина, его бы непременно реабилитировали, он вернулся бы к нормальной жизни. Могло бы наладиться у него и с женой. Но он, видимо, не мог больше терпеть... Судьба его — судьба миллионов. Был он замечательным другом и прекрасным человеком. Я впервые рассказываю о Кравцове.
И еще несколько слов о членах нашего «Клуба». Смерть Кравцова была для всех нас тяжелым ударом. Мы много говорили о нем, вспоминали его. Место, где он обычно сидел, слушая рассказы других, было теперь пустым. Когда мы впадали в транс под действием чифира, нам иногда казалось, будто он сидит с нами, в своей длинной черной шинели, а порой — незримый, но где-то совсем рядом.
Но клуб наш доживал свои последние дни. Вскоре самого Эласа перевели в какой-то другой лагерь. Обстоятельства его исчезновения наводили на мысль, что начинается новое следствие по его делу. Тогда, с наступлением 1951 года, снова усилилась бдительность МГБ. В частности, искали по лагерям людей, из которых можно было выжать еще какие-либо «показания». Элас знал многих китайцев и корейцев, которых можно было использовать для расширения шпионской сети. Однажды он намекнул, что его могут перевести к корейской границе, чтобы с его помощью МГБ смогло осуществить
массовые аресты в Северной Корее. Он, впрочем, не рассчитывал, что за это его освободят из заключения. Самое большее, на что он надеялся в обмен за сотрудничество с МГБ — это освободиться по отбытии полного срока. О дальнейшей его судьбе мне ничего не известно.
У Гедеке между тем открылся туберкулез. Его устроили в сушилку, где он протянул еще какое-то время. Потом, когда процесс еще больше обострился и у него уже горлом шла кровь, его взяли в больницу. Там, я думаю, он и скончался — точных сведений об этом не поступило.
Ваня же, в противоположность Кравцову — «Несчастливцеву», родился под счастливой звездой. Он в лагере писал пьесы, и одну из них — «На распутье» — там поставили. Пьеса была страшно бездарной, в ней рассказывалось о попытках каких-то диверсантов давать взятки партийным работникам, происходили закрытые собрания, стрельба из пистолетов. Пьеса, однако, тем понравилась, что многие в зале сидели как раз за подобную несуразицу. Сразу же после смерти Сталина Ваня начал активно хлопотать об освобождении, первым добился пересмотра дела, освобождения и реабилитации. Он вернулся в Ленинград, где был тепло встречен друзьями, и теперь Ваня сотрудничает в журналах, в частности, в наиболее консервативных, пишет книги. Любопытно только, помирился ли он со своей женой.
Что же касается меня, то однажды ночью меня вызвали из камеры и перевели в другую зону того же лагеря. Позже выяснилось, что это не было случайностью. Через несколько месяцев меня должны были освободить. Так вот, с одной стороны, МГБ хотело оторвать меня от друзей по лагерю, а с другой — взять под особый надзор с целью, возможно, подготовить новый процесс. Так были арестованы уже несколько десятков моих знакомых по обвинению в троцкистской пропаганде в лагере. Им прибавили по пять и десять лет. Моему же новому процессу помешала смерть Сталина. Эти дополнительные приговоры были вынесены в 1952
году, но их пересмотрели в первую очередь и отменили сразу же после смерти Сталина. Но многие не дожили до этого...
Когда я в 1956 году приехал в Москву, я разыскал некоторых из бывших товарищей по заключению в Тайшетском спецлаге, приговоренных к новым срокам за несколько месяцев до смерти Сталина, а затем освобожденных и реабилитированных.
Итак, мое дело до смерти Сталина не успели поднять. Поэтому, хотя меня освободили в 1951 году, я должен был ждать реабилитации до весны 1956 года. Из-за этого я не мог вернуться в Москву. Потом оказалось, что меня должны были реабилитировать еще в 1955 году, и когда в 1956 году я был вызван к начальнику Красноярского КГБ, тот очень вежливо встретил меня и извинился: не за предыдущие 20 лет заключения (то была не его вина), а за последний год. Красноярский КГБ не освободил меня вовремя, поскольку не было «убедительных доказательств» моей невиновности.
В Москве моя жена стала ходить в прокуратуру сразу же, как только началась реабилитация политзаключенных. Прокурор, показав ей мое «увесистое» дело, сказал:
— Взгляните, легко, думаете, разобраться в таком деле?
Но тут вмешались и товарищи из коммунистической партии Польши, и наконец, по распоряжению непосредственно ЦК Партии, я был освобожден из ссылки и реабилитирован 29 февраля 1956 года.
ГЛАВА 11 После Сталина
ГЛАВА 11
ПОСЛЕ СТАЛИНА
В 1953 году культ Сталина в массах достиг своего апогея. Сталин был Вождем, Царем и Верховным Самодержцем. Считалось, что жизнь не только в Советском Союзе, но и во всем мире не может без него продол-
жаться: ни жизнь государств, ни жизнь, отдельных людей. В такой именно атмосфере прозвучало известие о болезни Сталина, которое сразу же многими было воспринято, как известие о его смерти. Впечатление от этого было совершенно ошеломляющее, уникальное в анналах мировой истории.
Для большинства в СССР он был по сути «Богом», и потому представление о нем связывалось с бессмертием. Не отступала далеко от этой точки зрения и официальная пропаганда. Так, когда Сталину исполнилось 70 лет, его официально чествовали словами «Пусть вечно живет товарищ Сталин», и когда это попадало в печать или звучало по радио, никто не смел усмехнуться.
Как многие восточные деспоты, Сталин не заботился о продолжении династии, его не интересовало, что произойдет после его смерти. Несмотря на то, что у него уже был один сердечный припадок, а следующий мог быть смертельным, он и не думал составлять завещания. Он, видимо, считал, что будет жить еще много лет, но все же смерти боялся. Однажды, после моего освобождения в 1956 году, мне довелось встретить старого друга, побывавшего в свое время на даче Сталина, близ Сочи. Туда же приезжал к Сталину Энвер Ходжа, и однажды тот сказал Сталину, что пейзаж за окном дачи изменился: срубили вековые кипарисы и на их место посадили какие-то субтропические растения. В ответ Сталин прочитал Ходже лекцию на тему о том, что человек должен быть окружен вечно живой природой, а не мертвой. Впрочем, страх Сталина перед смертью принимал и более опасные формы. Другой мой знакомый, сотрудник из министерства, чудом избежавший репрессий, рассказывал мне, что люди из окружения Сталина замечали его пристальное внимание к собственному здоровью и склонность обращаться к многочисленным врачам. Один из врачей как-то заметил Сталину, что человек бессилен перед законами жизни и смерти. Сталин пришел от этого замечания в
такую ярость, что полагают, будто с этого момента и началось «дело врачей», немедленно прекращенное после смерти Сталина.
Еще одним свидетельством страшной боязни смерти у Сталина была его патологическая подозрительность. В результате он последние годы жил почти в полной изоляции, крайне редко появлялся на людях. Примечательно, что даже контроль за органами госбезопасности он не доверял министрам, в частности — Берия, а назначал людей, непосредственно исполнявших его личные приказы и отчитывавшихся непосредственно перед ним. Хотя, конечно, в распоряжении у Сталина имелось немало исполнителей самых грязных дел, все-таки наиболее жуткие меры террора изобретал он сам, причем даже такие заплечных дел мастера, как Поскребышев, не знали всех замыслов Сталина относительно все новых преступлений, связанных с массовым террором.
Сталин любил брать «заложников», чтобы держать в абсолютном повиновении своих приближенных. Так, за два-три года до его смерти была арестована даже жена Поскребышева (у меня не было возможности проверить эти слухи, но мне кажется, это вполне похоже на истину). Человек, рассказавший мне об этом, был сам арестован в 1951 году и слышал все это от близкого родственника Поскребышева; он утверждал, что жену Поскребышева сослали в Восточную Сибирь и что долгое время Поскребышев не решался заговорить об этом со Сталиным. В конце концов он решился, но Сталин так посмотрел на Поскребышева, что тот запнулся и больше никогда уже не упоминал об этом до самой смерти Сталина.
Зато вполне достоверный факт — исключение из партии и арест жены Молотова — Жемчужиной. Ее обвинили в том, что однажды она говорила по-еврейски с послом Израиля в СССР. Молотов, как видно, был еще больше запуган, чем Поскребышев. Только в 1956 году его жену восстановили в партии. Тот жуткий страх, который распространял вокруг себя Сталин, иллюстри-
рует поведение Кагановича (об этом я слышал тоже из вполне надежных источников). Один из моих собратьев по лагерю был близким родственником Л. М. Кагановича. В 1949 году его арестовали. Тогда жена его стала добиваться приема у Кагановича. Каганович принял ее только через девять месяцев. Но прежде чем она начала говорить, Каганович сказал:
— Неужели вы думаете, что если бы я мог что-то сделать, я бы ждал девять месяцев? Вы должны понять — есть только одно Солнце, а остальные — лишь мелкие и очень отдаленные звезды.
Вообще говоря Каганович помог различными путями жене своего родственника и его детям. Что же касается самого родственника, то Каганович для него ничего сделать не мог: попытавшись, он только поставил бы под угрозу свое положение, а то и существование.
Сталин обладал ничем не ограниченной властью. Никто, даже в ближайшем его окружении, и помыслить не мог, чтобы как-то на него повлиять. Поэтому все кругом были просто-напросто бессильными марионетками. Что касается народных масс, то несмотря на то, что Сталин, по сути дела, был палачом всего советского народа, на него молились, как на божество.
Когда в колхоз, где я работал, пришла весть о смерти Сталина, там началось такое, что я глазам своим не верил и представить себе не мог. По всей стране происходило одно и то же: люди вели себя так, словно умер их родной отец, глава семьи и рода, защитник, укрывавший их от всех бедствий и невзгод. Старики, дети горевали так, что не могло быть и речи о каком-то притворстве. Горе их было искренним, неподдельным:
— Что с нами теперь будет? Придут немцы, чужеземцы, Россия пропала... Загубят Россию...
Предвещали междоусобную войну, хаос, голод... Особенно поражало горе детей. Школы были закрыты, будто вся жизнь остановилась Дети ходили сами не свои, растерянные, с заплаканными глазами, точно и впрямь осиротевшие. Плакали и взрослые, партийцы и
беспартийные; плач стоял коллективный, всеобщий, неумолчный. Секретарь райкома партии, правда, бросил клич «Прекратить слезы», но после недолгого затишья рыдания начались снова. Мы, ссыльные, относились к этому иначе. Но поразило меня, что на траурном собрании громче всех плакала ссыльная старая большевичка, около 15 лет проведшая в лагерях и тюрьмах. Когда на другой день я спросил ее, что сия притча значила, она ответила:
— Вы ничего не понимаете, я не о нем плакала, а о себе, обо всех нас...
Она рыдала о том, что он не умер на 20-30 лет раньше. Это навело на мысль, что среди миллионов и миллионов по всему Советскому Союзу, так горько оплакивавших смерть Сталина, было много людей, которые плакали не о нем, а о себе.
Конечно, мы, политзаключенные, пытались предсказать развитие событий. Припав 5 марта к репродукторам, мы слушали Москву. Когда 5 марта сообщили о смерти Сталина, я как раз собирался пойти к своему знакомому, тоже проведшему в лагерях около 17 лет, но сохранившему способность мыслить ясно и трезво. Человек этот встретил меня словами:
— Он умер, его похоронят и все будет по-другому.
Я и сам тогда подумал, что теперь следует пересмотреть все заново, что жизнь примет совершенно другие формы, хотя неизвестно, какие именно.
Конечно же, политзаключенные, за немногим исключением, полагали, что все изменится к лучшему.
Обходя своих друзей и знакомых, я зашел к бывшему прокурору Владивостока, арестованному в 1937 году. Человек этот на допросах подвергался страшным пыткам, был приговорен к расстрелу, который затем заменили заключением. Как и я, он работал теперь в колхозе. У него как раз в это время гостила жена, директор школы из Иркутска, а в прошлом — простая крестьянка. Бывший прокурор выглядел потерянным, не знал, что сказать. В это время с чаем в избу вошла его жена:
— Успокойся, — сказала она, — хуже не будет, будет лучше.
И действительно, его вскоре реабилитировали и дали персональную пенсию.
При жизни Сталина наблюдался абсолютный паралич общественного мнения. Люди даже с глазу на глаз боялись говорить друг с другом, делиться мыслями. Поэтому многие не поверили Хрущеву, когда он в речи на XX съезде описывал свои разговоры с Булганиным на политические темы по дороге в Кремль и обратно:
Хрущев был слишком осторожен, чтобы говорить даже с Булганиным. Теперь же, после смерти Сталина, даже среди нас, заключенных, начались бесконечные разговоры о будущем.
Во время похорон Сталина девятого марта погибли сотни людей, причем более серьезную катастрофу удалось предотвратить только благодаря своевременному вмешательству офицеров и генералов армии, преградивших путь людской лавине из окрестных сел и деревень.
В такой атмосфере истерии появилась фотография в «Правде», осветившая, точно молнией, тьму. На снимке были изображены члены Президиума ЦК КПСС, стоящими в почетном карауле у гроба Сталина. Ряд насупленных, скучающих лиц, и среди них совершенно неожиданная широкая улыбка на лице Маленкова, явно говорившая: «Наконец-то!» Так и следовало назвать этот исторический фотоснимок.
Все, чего нельзя было сказать в речах, статьях, резолюциях, было воплощено на фотографии, произведшей огромное впечатление и перепечатанной всеми газетами страны.
Мы напряженно ждали, кто же сменит Сталина. Хотя никто в руководстве явно не заявлял о себе, как о прямом наследнике, по-видимому, таковым считал себя Маленков. С другой стороны, решительной и твердой была и речь Берия на похоронах. Видно было, что
и он претендует на роль лидера, и в общем, мы считали что Берия может выйти победителем.
Однако вскоре стало ясно, что никто в новом руководстве не собирается занять место Сталина. И это само по себе успокаивало. Мы в ссылке ощущали происходящие в центре перемены, и многие наши ожидания и предчувствия впоследствии оправдались.
На некоторое время после смерти Сталина прекратил работу весь аппарат НКВД. «Работа» возобновилась в середине марта, когда было произведено несколько арестов. Но машина уже не могла работать по-старому. Со смертью Сталина как бы прекратилась подача тока на «производств », и хотя внешне все выглядело, как прежде, на самом деле мы знали, что многое изменилось. Позднее люди, находившиеся в то время в камерах на Лубянке, тоже рассказывали, что и они почувствовали мгновенную перемену, хотя ничего еще не знали о происходящем.
Наши надежды подтвердились и тем, что после 15 марта прекратились вызовы на допросы в нашем районе, а позже я узнал, что так было по всему Союзу. В этом тоже прямое подтверждение полной ответственности Сталина за террор, что часто приписывалось Берия.
27 марта был издан указ Верховного Совета за подписью Ворошилова об амнистии. Это был первый признак серьезных перемен. Хотя указ этот не касался политзаключенных, тем не менее было ясно, что правительство как бы говорило: «Теперь, когда Сталин умер, мы не только помним о судьбе миллионов заключенных, но и начинаем принимать меры».
Под амнистию подпадали подростки до 18 лет. Еще в 1935 году Сталин провел закон, согласно которому дети после 12 лет несут такую же ответственность за преступления, что и взрослые. По этому закону детей даже имели право расстреливать. И такие случаи были в тридцатых годах, когда расстреляли многих детей, в том числе и детей бывших участников троцкистской
оппозиции. Впоследствии этот закон несколько смягчили, но многие его статьи оставались в силе. Согласно ворошиловскому указу, всех детей до 18-летнего возраста немедленно освобождали, а также подпадали под амнистию заключенные, имевшие сроки до трех лет, и некоторые другие категории «зеков».
На нас амнистия произвела колоссальное впечатление. Правда, многие в шутку вспоминали, что на Руси была традиция прощать преступников при восхождении на престол нового царя...
Следует признать, что освобождение большого числа уголовников было весьма неудачным шагом. Резко возросла преступность в городах, на железных дорогах. Людей сбрасывали с поездов, грабили, убивали; было убито много сотрудников милиции. Уголовники видели в амнистии признак слабости нового руководства, считали, что теперь пришло время анархии и беззаконию.
Волна преступлений с востока дошла до Москвы и Ленинграда. Освобожденные возвращались в эти города на законном основании, а органы милиции, видимо, растерялись и не знали, что делать.
В среде политзаключенных некоторые открыто выражали недовольство тем, что амнистия не коснулась статьи 58. Многие считали, что заключенные по 58 статье были непосредственными жертвами сталинского режима и что их первыми следовало выпустить на свободу. За это они возлагали ответственность на Берия и считали, что уголовников освободили в первую очередь для того, чтобы вызвать отрицательную реакцию в народе и таким образом дискредитировать идею амнистии. Однако для большинства амнистия означала, что с прежним покончено, что наступает новая эпоха и что если новое руководство освободило хоть некоторых заключенных периода сталинизма, то не может не дойти очередь и до политзаключенных.
2 апреля 1953 года по радио и в «Правде» сообщили об освобождении врачей. Теперь мы наглядно увидели, что действительно начинается новая историческая эпоха.
Ведь впервые было открыто объявлено, что сотрудники органов госбезопасности не только могут ошибаться, но и действовать с преступными намерениями. Впервые после революции всенародно отвергалась аксиома, будто органы безопасности всегда правы. Открытое признание использования незаконных методов допроса свидетельствовало о том, что правительство не только отказывается от продолжения сталинских преступлений, но и просит прощения за них у народа. А это решительно повлияло на взгляды многих и многих людей. Добрым признаком, конечно, было и полное отсутствие имени Сталина в прессе. Правда, Сталин все еще лежал в Мавзолее, где выбиты слова: «Ленин умер, но дело его живет», но никто, к счастью, не решился написать на мавзолее таких слов о Сталине. Уж очень дурной приметой они звучали бы.
Вопрос о реабилитации был далеко не простым. Он тесно переплетался с ответственностью тех сталинских опричников, которые были еще живы. Сложен был также вопрос очередности: кого реабилитировать в первую очередь. Делать ли это в порядке поступления заявлений? Но это было бы несправедливо, ибо тогда реабилитировали бы более активных, имевших связи, а не рабочих и крестьян, составлявших подавляющее большинство заключенных.
Были и такие, кто полагал, что сначала следует провести посмертную реабилитацию: ведь, в конце концов, большинство жертв террора — погибло. Некоторые считали, что прежде всего следует реабилитировать жертвы самой последней террористической кампании Сталина — против «космополитов» и евреев.
Освобождение и реабилитация в хронологическом порядке тоже представляли немалые трудности, отчасти потому, что среди руководящей верхушки были люди, тесно связанные с различными стадиями террора. Так,
например, Маленков, как я говорил выше, был тесно связан с репрессиями по так называемому «Ленинградскому делу» конца сороковых годов. Попытка Маленкова как-то замять это дело стоила ему, видимо, его положения. Многие, в особенности за границей, не могли понять, почему Маленков не боролся за власть. Ведь после смерти Сталина именно он произвел значительные перемены как во внешней политике, так и внутри страны, перемены, касавшиеся, в частности, облегчения бедственного положения в деревне. В стране ходили даже слухи, что Маленков — то ли племянник Ленина, то ли его внебрачный сын. И тот факт, что Маленков ушел без борьбы, объясняется в первую очередь боязнью полного раскрытия его роли в «Ленинградском деле» 1949 года.
Маленков, в отличие от Молотова и Кагановича, не нес прямой ответственности за сталинский террор тридцатых годов, зато был прямо связан с «Ленинградским делом», и это доказывается хотя бы тем фактом, что после его отстранения жертвы «Ленинградского дела» были сейчас же реабилитированы, большинство из них, конечно, посмертно. Мое отношение к Маленкову определялось фактом его тесного сотрудничества со Сталиным, а следовательно — непосредственной причастности к сталинским преступлениям. Поэтому я не направлял своих заявлений по реабилитации Маленкову (их следовало направлять Маленкову или Ворошилову). Так же поступали некоторые из моих знакомых ссыльных. Несмотря на расхождения на верхах в вопросе об очередности, полным ходом шло освобождение заключенных, их возвращение из ссылки. В течение 30 лет поезда с заключенными шли на Восток. Теперь же, впервые, переполненные бывшими «зеками» ссыльными, они двинулись в обратном направлении.
Припоминается мне один заключенный, которого я встретил в 1951 году на пересылке в Красноярске. Был он в таком глухом отчаянии, которого не пережившие всего этого и представить себе не могут. Его арестовали
в 1937 году, дали 15 лет. Во время войны освободили, а в 1951 году снова везли в бессрочную ссылку — так просто, без предъявления какого бы то ни было обвинения. Это был еще относительно молодой человек; отчаяние его было безграничным: он был уверен, что его поколение обречено.
После выхода из тюрьмы он поселился тут же, в Сибири, женился. (Почти все заключенные, прежде неженатые или разведенные, женились сразу же по выходе из заключения). Своей жене (это была его вторая жена) он сразу же заявил, что детей иметь не хочет. В разговоре с ним я спросил, чем вызвано такое бесчеловечное, на мой взгляд, решение. Мой знакомый ответил так:
— Не хочу быть отцом рабов. Не хочу обрекать детей на то, что мне самому пришлось пережить.
Когда я попытался его переубедить, он сказал:
— Говорите вы хорошо, но я-то знаю лучше. Я знаю свою судьбу, знаю, что меня ждет... Скорее Енисей повернет вспять, чем будет так, как вы говорите.
Его взгляды совпадали со взглядами многих из тех, кого я встречал в заключении.
Прошло четыре года после этого разговора на пересылке в Красноярске. Я все еще был в ссылке. Человек этот заехал ко мне по пути домой, в Донбасс.
— Ну что же, — сказал он, — Енисей действительно может повернуть вспять...
Позднее я узнал, что он получил работу по специальности, восстановлен в партии. Удалось перестроиться, начать новую жизнь. Но далеко не все смогли это сделать...
Была огромная разница между освободившимися после смерти Сталина и теми, кто был освобожден до этого. Освобожденные при Сталине не имели права и заикаться о тех преступлениях, которые совершались по отношению к ним. По выходе из тюрьмы или из лагеря они подписывали бумагу о неразглашении. Это создавало удушающую, кладбищенскую атмосферу.
Люди, возвращавшиеся в семью, даже жене никогда не рассказывали о пережитом. Если же, подвыпив, бывший «зек» вспоминал прошлое, ему грозило новое заключение — на 10 лет или больше. Поэтому, когда Вышинский за границей обвинил Кравченко во лжи, многие из наиболее прогрессивных и передовых людей Запада поверили Вышинскому, а не Кравченко*. В Советском же Союзе люди, не зная истинных условий, в которых содержались заключенные, представляли себе еще худшее, и этот факт использовался аппаратом безопасности для их дальнейшего устрашения. Потому-то люди часто признавались в самых невероятных преступлениях, как только слышали из уст следователя фразу: «Ну что ж, теперь вы в руках чекистов». Этот прием используется поныне, хотя и не в таких масштабах.
После смерти Сталина освобождаемых не заставляли подписывать обязательств о неразглашении. Не уверен, конечно, во всех ли случаях, но от меня такой подписи не потребовали.
Чрезвычайно поучительной была реакция молодого поколения на возвращение бывших политзаключенных из лагерей, тюрем и ссылки. Студенты и комсомольцы с огромным любопытством и интересом знакомились с людьми, выходившими после десятилетий на волю. У многих из молодого поколения сложилось представление о реабилитированных, как о людях, пострадавших в результате попыток сопротивления режиму Сталина. Когда же реабилитированные убеждали их в своей невиновности, те просто отказывались верить — настолько логичным казалось им сопротивление сталинщине. Таких людей с сочувствием расспрашивали, что именно они сделали в борьбе против Сталина, а когда те отвечали, что ничего не сделали, то одни говорили: «Не бойтесь, теперь уж нечего бояться», а другие несколько
* Кравченко, как известно, одним из первых на Западе рассказал о советском терроре.
недоверчиво спрашивали: «Как же так, неужели вас могли арестовать ни за что ни про что, без всякой причины?» Так что после десятилетий попыток доказать свою невиновность органам безопасности, приходилось теперь доказывать ее снова — этим юным скептикам.
Когда сотни тысяч подвергавшихся арестам и пыткам мужчин и женщин, во всех концах страны, наконец заговорили, это явилось сильнейшим ударом по культу личности Сталина и помогло разоблачению сталинских преступлений на XX съезде партии. Все же правду о Сталине раскрывали постепенно, и даже по сей день многое остается недосказанным, так что следует сделать все возможное, чтобы эту правду рассказать. Любопытно, что даже среди реабилитированных были такие, кто считал, будто сразу же раскрыть всю правду опасно. Некоторые утверждали, что из-за «отсталости» народных масс раскрытие правды и вообще всякое ослабление власти может повести к катастрофическим последствиям.
Некоторые из моих друзей полагали, что раскрытие всей правды о сталинских преступлениях могло бы повести к распаду компартий заграницей, в особенности на Западе. Конечно, они понимали, что правда проникает и туда, но хотели, насколько возможно, оттянуть этот момент. Я не разделял этих взглядов, считая, что на XX съезде следовало подвести полные итоги, итоги сталинизма.
Конечно, делались попытки переложить вину на плечи других, Иван кивал на Петра. Понятно, что вопрос об ответственности за прошлое чрезвычайно сложен, и ответ на него может потребовать еще многих лет.
Мне, со своей стороны, трудно обвинять людей, которые, пережив годы террора, после смерти Сталина, старались делать все возможное, чтобы как-то искупить вину. Этим людям можно было бы задать вопрос:
— Что вы делали в годы террора? Что сделали для борьбы с террором?
А те в свою очередь могли бы возразить:
— А вы сами? Что вы сделали?
Одна женщина, бывший член партии, сидевшая по лагерям, писала в письме ко мне непосредственно после освобождения:
«Мое поколение коммунистов во всех странах всегда одобряло сталинскую форму правления. Мы не только ничего не сделали, чтобы предупредить преступления Сталина, нет, мы поддерживали его. И относится это не только к нам, советским коммунистам, но и к коммунистам во всем мире. Мы, активные члены партии, несем индивидуальную и коллективную ответственность за прошлое. И сейчас мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить повторения этого в будущем. Как же все это случилось? Лишились ли мы рассудка? Или изменили делу коммунизма? Правда в том, что все мы, включая непосредственное окружение Сталина, не считали его действия преступными. Напротив, мы считали, что они помогают победе социализма, что все меры по усилению партийной гегемонии ведут к его укреплению. Мы не видели конфликта между линией партии и коммунистической этикой. Только теперь нам стало ясно, что насилие над правдой, справедливостью и гуманизмом — это предательство принципов социализма».
С другой стороны, я полагаю, что имеется существенная разница между поддержкой сталинского террора и пассивностью в этот период. Предполагать, что кто-то мог активно помешать Сталину — значит совершенно не понимать сущности сталинской тирании. Думаю, что ни Булганин, ни Микоян, ни Молотов, ни Хрущев, ни Каганович не могли бы при всем желании изменить ход событий. Любая такая попытка с их стороны завершилась бы ликвидацией не только этих людей, но и всех их близких, и к тому же без всякого результата. Именно потому, что я хорошо себе представляю политическое окружение Сталина и всей партии в целом, могу сказать: «Да, мне повезло, что я оказался одной из первых жертв террора, а не его исполнителем» Это
утешало меня в самые тяжелые дни заключения — в тюрьмах, лагерях и в ссылке. Особенно радовало меня сознание непричастности к сталинской политике в период пакта Гитлер-Сталин, и я благодарил судьбу за то, что я узник, а не активный член партии и общества. То же ощущал я и во время финской войны и в период террора сороковых годов; лучше заключение и даже смерть, чем ответственность за то, что совершалось именем партии. Все же, думается мне, следует провести различие между садистами, изменниками, карьеристами и теми, кто несет ответственность за сталинские преступления только потому, что оказался не в состоянии противостоять им.
Такое убеждение помогло мне и многим другим примириться с мыслью о том, что проводившие реабилитацию зачастую были теми же самыми людьми, которые арестовывали и судили нас в период сталинизма.
Но это мое личное мнение и из этого вовсе не следует, что так думают все бывшие политзаключенные или люди, стоящие у руководства. Никогда не существовало единого мнения и в вопросе наказания замешанных в терроре. После Сталина кое-что было сделано для наказания наиболее активных проводников террора. Так, по заслугам понесли наказание Берия, Абакумов, Багиров. Но все же следует признать, что масштабы преступлений были настолько велики, что наказание лишь нескольких участников этих преступлений никого, конечно, не могло удовлетворить. Тело Сталина, в конце концов, убрали из Мавзолея, но что это по сравнению с пятьюдесятью миллионами загубленных им человеческих жизней?
С другой стороны, политика полного освобождения от ответственности не могла считаться приемлемой, так как при этом пришлось бы оправдать не только людей, но и содеянные ими преступления. Кстати, большинство считало, что пока такие люди живы и находятся у власти, они будут поступать так, как привыкли в сталинские времена.
Может быть, несчастье в том, что Сталина не убили, что его не постигла судьба Гитлера. Тогда перемены, безусловно, были бы радикальными. Но в таком случае возникла бы опасность восстания, а это принимая во внимание жестокость органов безопасности, повело бы к огромным жертвам. Поэтому, возможно, лучше уж так, как все произошло.
Я верю, что история будет судить не только Молотова, Кагановича, Маленкова, но также Хрущева и Микояна за их роль во времена сталинизма. Но было бы несправедливо не учитывать деятельность некоторых из них после Сталина. Таково мнение многих.
В послесталинский период преследовались две цели: с одной стороны, найти достаточное количество козлов отпущения, ответственных за преступления сталинского периода, а с другой — не нарушать хода государственной машины, терроризируя тех, кто держит в руках рычаги управления.
Вывод у постороннего наблюдателя складывался такой: органы безопасности по-прежнему нужны, но в прошлом они часто использовались не по назначению, ошибочно.
Возможно, та же проблема стояла и перед Хрущевым: провести ли полную «чистку» и таким образом лишиться многих полезных людей, либо действовать осторожно, медленно и постепенно. (Между прочим, та же проблема стояла и перед Аденауэром в Западной Германии). Хрущев по существу был «калифом на час». Характерными для его периода были: значительная роль, сыгранная им в середине пятидесятых годов, и полное банкротство его политики в период после XXII съезда в 1961 году.
Хрущев добрался до поста генерального секретаря ЦК не благодаря своим исключительным способностям; наоборот, его выбрали, как исключительно слабого руководителя, не имевшего глубоких корней в партийном
аппарате*. Именно тогда в партийных кругах поняли опасность превышения власти генсеком и считали, что его дело — не принимать решения единовластно, а проводить решения партии. Было трудно найти достаточно «безопасного» человека, и поэтому выбор пал на Хрущева.
Вышесказанное проливает свет на последующие политические события. Сначала Хрущев был вроде «царя-освободителя», особенно когда при нем были реабилитированы десятки тысяч бывших партийцев. Потом, однако, дала себя знать политическая безграмотность Хрущева — ленинизм был совершенно чуждой ему наукой. Неудачи во внешней политике (в первую очередь разрыв с Китаем), неудачи в области сельского хозяйства и в других секторах хозяйственного и партийного строительства завели его в полный тупик. Идея Хрущева о разделе КПСС на две партии, по существу означавшая конец партийной гегемонии, показала совершенную оторванность Хрущева от ЦК и политбюро, в результате чего его без особого труда отстранили, изолировали и лишили всякой власти и влияния.
Как же включались бывшие политзаключенные в общественно-политическую жизнь страны? Прежде всего следовало добиваться реабилитации, так как без нее они были ограничены в некоторых гражданских правах: не могли свободно передвигаться, жить в определенных городах и претендовать на жилплощадь. Бывшие члены партии, кроме того, добивались не только восстановления в партийных рядах, но и восстановления партстажа. Я, например, добился и того и другого. Конечно, партийцы тоже были далеко не однородной массой,
* Хрущев, как известно, вступил в партию через год после революции.
их можно было разбить по категориям. За исключением первой и последней группы по моей, впрочем произвольной, классификации все добивались восстановления:
1. Сознательные противники линии партии, а не только Сталина и сталинизма.
2. Жертвы сталинской машины террора, которые хотя никогда и не выступали против сталинизма, все же не могли надеяться выйти на свободу при Сталине.
3. Старые верные партийной линии большевики, случайно оставшиеся в живых после террора тридцатых годов.
4. Арестованные во время войны или непосредственно после ее окончания.
5. Члены партии, арестованные незадолго до смерти Сталина.
6. Относительно небольшая группа бывших партийцев, которые после всего увиденного и пережитого считали совершенно невозможной перестройку партии и поэтому отказывались от восстановления в партии.
Таких, правда, было ничтожное меньшинство, но сам факт, что этих людей не преследовали — признак изменения к лучшему.
К первой группе условно можно причислить еще и несколько сот доживших до смерти Сталина бывших членов таких партий, как меньшевистская, социалистов-революционеров, а также анархистов. Эти люди, проведшие в лагерях и тюрьмах десятилетия, не надеялись на освобождение даже и после Сталина. Их освобождение тоже служило признаком политических перемен. На первое время этим людям назначали определенные города, где им разрешалось жить, а потом некоторые из них получили возможность возобновить нормальную жизнь.
Например, я встретился с Ириной Константиновной Каховской, членом партии социалистов-революционеров с 1905 года. Она сидела по советским тюрьмам и лагерям с начала тридцатых годов. В одном из ла-
герей Средней Азии она была вместе со своей подругой «Марусей» Спиридоновой, стоявшей после революции во главе «левых» эсеров и организовавшей террористическую кампанию против большевистского руководства.
С Каховской мы сначала познакомились заочно через ее двоюродную сестру, находившуюся в ссылке. Завязалась переписка, а после освобождения я навестил ее в небольшом городе в 120 километрах от Москвы, где ей разрешили поселиться. Она писала воспоминания — исключительно интересные, без всяких идеологических уступок и компромиссов. В 1959 году отрывок из этих воспоминаний был опубликован в № 3 журнала «Новый мир». В заметке от редакции приводились биографические данные о Каховской, но ни слова о том, где она провела около 30 последних лет жизни.
Другой пример активного противника советской власти, которому разрешили включиться в общественную жизнь — В. Шульгин. Причем настолько, что Шульгин несколько лет назад публиковался даже в «Правде».
Вот несколько фактов из биографии Шульгина: до революции — крайне правый депутат Думы, символ реакции. В гражданскую войну — редактор «белой» газеты, фанатичный антибольшевик, призывавший заодно и к погромам. В двадцатых годах — эмигрант, активный организатор контрреволюционного движения внутри Советского Союза. До 1944 года оставался членом одной из эмигрантских антибольшевистских организаций. Затем Шульгин попал в руки органов безопасности, и его посадили в тюрьму. Через три года стало известно, что Шульгин жив и выступил в поддержку существующего в СССР строя. Шульгин, как рассказывали, утверждал, будто война убедила его в правоте и надежности большевиков как руководителей русского народа. При Сталине это перевоплощение спасло ему жизнь. При Хрущеве Шульгина выпустили из тюрьмы, после чего он, поселившись во Владимире, стал активно выступать в печати по вопросам мира и разоружения. Шульгин не отрицал ни своих монархических взглядов
в прошлом, ни своего антисемитизма. Во всем остальном он стал обычным советским гражданином. Случай Шульгина использовался советским пропагандистским аппаратом, в первую очередь для русской эмиграции за рубежом.
Как же расценивать все эти случаи? Видимо, так называемые «преступления» в прошлом не играли роли в процессе освобождения и реабилитации. Политика КПСС основана на практических соображениях. Уже при Хрущеве КГБ был обязан только предупреждать малейшую угрозу государству и стабильности в стране. Репрессии же с другими целями должны были быть прекращены. А если это действительно так, то это означает возврат к эпохе Ленина и Дзержинского, когда, как писал Ленин в 1922 году в своем письме Курскому, расстрелы должны были применяться только там где нависает угроза контрреволюции. И в этом, конечно, радикальное отличие от действий Сталина, который использовал массовые расстрелы для сведения счетов за прошлое, а «предупредительный» массовый террор — против совершенно лояльных и преданных партии и государству людей.
Хрущев тоже прибегал к репрессиям в случаях, когда прежние «враги народа» становились, на его взгляд, опасными. Приведу для примера дело латышского социал-демократа фрициса Мендерса, освобожденного после смерти Сталина, а затем снова арестованного органами безопасности, вероятно, на том основании, что в своих мемуарах он пытался восстановить правду о прошлом, включая преследования его лично за принадлежность к социал-демократической партии. Но еще более вероятно, что Хрущев опасался, как бы вокруг Мендерса не образовалось ядро новой социал-демократической партии Латвии. При Сталине же арестовывали совершенно ни в чем не повинных людей, ни к чему не причастных. А раз уж арестованные, они на всю жизнь оставались как бы с клеймом —
их снова преследовали, отчасти еще и потому, что им стал знаком механизм работы органов безопасности.
Неудивительно поэтому, что годы, проведенные в заключении, сделали многих непримиримыми противниками Сталина и сталинизма. Хотя при Хрущеве большинство политзаключенных реабилитировали, помогли им устроиться на работу, и они стали как будто полноправными гражданами, все-таки находились люди, которые относились к ним враждебно и с недоверием, избегали их на всякий случай — а вдруг официальная линия партии снова изменится. В известной степени такое отношение испытывали на себе и немногие из уцелевших старых членов партии — а к ним принадлежало большинство моих друзей. И это невзирая на то, что имелись прямые директивы подыскивать им подходящую работу, а иногда и возвращать на прежнюю. Галину Серебрякову, например, начавшую в двадцатые годы работать над биографией Маркса и имевшую много друзей среди партийного руководства, арестовали в 1936 году. Ее неоднократно пытали и в общей сложности продержали в тюрьме двадцать лет, а когда выпустили, то попросили снова засесть за биографию Маркса и Энгельса. Этот факт затем всемерно использовался в целях пропаганды. Старых партийцев, участников подпольной борьбы и гражданской войны просили писать свои воспоминания, их активно включали в работу отдела пропаганды и агитации. Реабилитированных настойчиво уговаривали поделиться своими воспоминаниями о раннем периоде революции, ибо только среди них еще сохранились талантливые люди, которым могли поверить и которые могли вдохновить молодежь.
Люди эти, как ни странно, и по сей день очень добросовестно относятся к своим обязанностям. В своих трудах они, касаются лишь исторических фактов периода Ленина и только намекают на те связи, которые существуют между этим периодом и нынешним.
Разумеется, им дозволено писать и рассказывать только в строго установленных на верхах партийного аппарата рамках. Те же, кто предпочел бы выйти за эти рамки, вынуждены молчать, либо уйти из общественно-политической жизни.
С другой стороны, после реабилитации на активную партработу быстрее всего попадали коммунисты, выросшие в сталинский период. В общем, их взгляды не отличаются теперь от взглядов других членов партии. Эти люди зачастую очень консервативны, полностью поддерживают партию и ее текущую политику. Есть, впрочем, и исключения. Это люди, требующие гораздо более глубокого идеологического пересмотра, в частности, не только полной партийной реабилитации Зиновьева, Каменева, Пятакова, Радека и многих других, но и публикации их трудов.
То, что реабилитация шла такими медленными темпами, объясняется отчасти тем фактом, что ее проводили те же люди, которые осуществляли сталинские репрессии. Иногда, правда, случалось, что в деле невозможно было отыскать даже повода для ареста того или иного реабилитируемого.
Взять хотя бы мое собственное дело — ведь так никому и не удалось установить причины моего исключения из партии. Вероятно, оно было следствием какого-то телефонного звонка, нигде не документированного. А ведь в то время довольно было одного звонка, чтобы не только лишить человека партбилета, но и арестовать, а то и расстрелять его. Еще более парадоксальны случаи, когда человек сидел, не будучи исключенным из партии.
Была ли реабилитация неизбежной? Вопрос этот широко обсуждался. Я думаю, что она была неизбежной. Ведь после смерти Сталина — этого мрачного призрака какой-то доисторической эпохи — для тех, кто пришел к власти, прежде всего, необходимо было отмежеваться от Сталина, от его чудовищных преступлений. Поэтому естественно, что эти люди поддержали реабилитацию по крайней мере части жертв террора.
И все-таки с 1953 до 1957 года реабилитация постепенно наталкивалась на значительное сопротивление некоторых кругов, и не только тех, кто на верхах был тесно связан со Сталиным, но и со стороны среднего партийного эшелона, сформировавшегося в период сталинизма. Помню, как безразлично достала мое дело в ЦК Партии одна из сотрудниц аппарата. Когда-то, много лет назад, когда ей было всего 17 лет, она оформляла бумаги о моем исключении из партии. Теперь она направляла их в другую инстанцию — на восстановление партстажа.
Когда мы обсуждали будущее страны, то принимали в расчет три фактора: во-первых, народные массы, как бы пробуждавшиеся от летаргии, во-вторых, партаппаратчики, которые все еще работали по старым инструкциям и которым не следовало доверять, потому что они, если понадобилось бы, снова могли бы сыграть свою прежнюю мрачную роль, и, наконец, управлявшая аппаратчиками высшая партийная элита, политическое лицо которой тогда еще полностью не определилось.
После смерти Сталина, как мне кажется, удобный случай приобрести большую свободу был упущен благодаря инертности самого народа. Сначала все, казалось, обрели дар речи, стали высказывать собственное мнение. Правительство как будто даже приветствовало это пробуждение, а в прессе появились замечания о повышенном чувстве ответственности и о желании народа быть хозяином своей судьбы, своего будущего. Вскоре, однако, снова взяли верх навыки и привычки прошлого: мнения начали строже совпадать с линией «Правды», «Известий».
В то же время людям стоявшим у власти, намного проще было принимать решения тактического порядка, чем менять стратегию — ведь они привыкли исполнять
приказы, а не мыслить самостоятельно в масштабах большой политики.
Все-таки в одном эти люди как будто сходились: не допустить повторения вчерашнего, не допустить к власти нового деспота.
Высказывалось много предположений о том, что же фактически происходило на первом после смерти Сталина заседании Президиума. До сих пор об этом нет достоверных данных. Наиболее правдоподобной представляется следующая версия: Молотов предложил несколько приемлемых для всех элементарных пунктов, с которыми все тотчас же согласились. Эти-то простые пункты и стали практически программой партии, программой действий в послесталинский период, новой политикой Советского Союза. Вот эти пункты: внешняя политика не на словах, а на деле — политика мира; завоевание поддержки крестьянских масс путем некоторого послабления в деревне, путем прекращения репрессий на селе; отказ от великорусского шовинизма, широко проводившегося в последние годы Сталина, а вместо него — политика равенства народов; упор на дела, а не на лозунги стал характерной чертой нового руководства. При этом, однако, окончательно, не отказались от высокопарных и бессмысленных словоизлияний. Но даже и тут кое-что изменилось: например, если теперь говорилось о разоружении, то на деле это не означало прямой подготовки к войне.
Позднее мы узнали, что в марте, апреле и мае 1953 года в Президиуме царило относительное согласие, хотя подспудно и продолжалась борьба за первое место в партии. В то же время Молотов, например, тогда уже вышел из игры, отказавшись занять пост Председателя Совета Министров. Молотов заявил, что он слишком стар. Однако главная причина заключалась, несомненно, в том, что он слишком тесно был связан со Сталиным. То же относилось и к Кагановичу. На очереди стояла десталинизация, и люди, тесно связанные с террором тридцатых годов, не годились в лидеры.
Оставалось три наиболее вероятных кандидата, жаждавших власти: Берия, Маленков, Хрущев. Берия, будучи министром внутренних дел, обладал огромным влиянием, но он, вероятно, понимал, что еще один грузин неприемлем в качестве вождя. Поэтому он, стараясь сохранить за собой действительную власть, решил выдвинуть на первый план Маленкова. Однако отказ Маленкова поддержать в решающий момент Берия привел к окончательной ликвидации последнего.
На Западе мне приходилось неоднократно слышать, будто Берия был «либералом», и его устранили якобы потому, что он пытался пойти слишком далеко по пути «либерализации». Мнение это настолько же абсурдно, как и то, что Берия был якобы «агентом» Запада.
Ликвидация Берия объясняется по крайней мере двумя простыми причинами: во-первых, выбывал из игры один из трех претендентов; во-вторых, это был удар по органам госбезопасности, к которым члены Президиума питали патологическую ненависть.
Дело обстояло так: Берия, не добившись поддержки Маленкова, в панике выехал в Берлин, где как раз происходили « беспорядки », вину за которые возлагали на войска госбезопасности. По возвращении Берия арестовали. Войска Московского военного округа были приведены в состояние боевой готовности — для подавления возможного сопротивления. Милиция и войска госбезопасности, впрочем, не стали бы оказывать никакого сопротивления, поскольку им не от кого было получать соответствующий приказ.
Военные тоже ненавидели сотрудников «органов», и поэтому армия с особым удовольствием выполнила эту миссию, кое-где взяв на себя функции КГБ. Например, Лубянку закрыли на 3 дня, поставив там военные караулы и не допуская никого с «красными книжечками». Причем владельцы их, как говорят, спокойно уходили, а то и вовсе исчезали, чтобы не попадаться больше на глаза.
Впечатление, которое произвела в народе ликвида-
ция Берия, было поистине колоссальным. Теперь даже те, кто сомневался в значении реабилитации «врачей-отравителей», убедились, что дело идет к лучшему. Значительно возрос престиж нового руководства, причем настойчиво подчеркивалось, что Берия несет в большой мере ответственность за преступления во времена Сталина. Этому, конечно, верили легко.
В результате новых арестов к нам в ссылку стали прибывать новые люди, и в их числе некоторые родственники Берия. Прибыла, в частности, его сестра. Затем еще родственник, работавший раньше в Министерстве путей сообщения. Единственным «преступлением» этих людей была их фамилия — Берия. Затем стали «прочесывать» Грузию — в поисках родни Берия. Многие ссыльные одобряли это, но находились и такие, — из более дальновидных, — которые считали подобные мероприятия рецидивом старых методов.
В период 1953-55 годов продолжалась подспудная борьба за власть. Теперь друг другу противостояли Маленков и Хрущев. Хотя в теории, согласно советской конституции, никому не дозволено единолично руководить страной, мы хорошо понимали, что рано или поздно такой руководитель неизбежно найдется.
В своем кругу мы тогда горячо обсуждали вопрос о том, в какой степени необходим русскому народу «хозяин». В связи с этим припоминаю беседу еще в двадцатых годах с одним русским эмигрантом. В то время я еще только склонялся к коммунизму, но уже считал, что провозглашение Советской Республики в интересах народов России. Мой же собеседник утверждал, что концепция демократического правления совершенно чужда характеру русского народа, противоречит истории и традициям этой страны. Я, конечно, не верил и старался доказать, что возвращение к царизму или к любой форме самодержавия — немыслимо. На это мой собеседник возразил, что каждому народу свойственна своя национальная форма правления: англичанам, например, — республиканская, несмотря на мо-
нархию, русским — монархическая, несмотря на республику. С его точки зрения вопрос заключался в том, будет ли монархом человек, пользующийся народным доверием и поддержкой, и будет ли он исполнителем воли народа. Позднее я не раз встречал людей, утверждавших, что Ленин был именно таким «самодержцем» и что катастрофа наступила только тогда, когда пришел «лже-царь» в образе Сталина, не имевший никаких корней в народе, и если он что-нибудь и унаследовал, так разве только от Ивана Грозного.
Так вот и теперь, во время очередной дискуссии, один профессор спросил:
— Итак, вы хотите конституционную монархию?
На что все дружно откликнулись:
— Хотим.
За шуткой, однако, была вполне серьезная убежденность в том, что следует, с одной стороны, порвать с прошлым, со сталинизмом, а с другой — избегать крутых поворотов, и что всякие изменения политического строя должны носить исключительно эволюционный характер. Поэтому непременное условие — сохранение для блага 240 миллионов существующего в стране государственного и общественного строя.
Уехав из ссылки, я убедился, что и на воле большинство людей разделяло это мнение. Разница была в том, что мы мыслили более радикально, чем люди, боявшиеся утратить те блага и привилегии, которыми они располагали.
Иногда меня спрашивают, почему новый «хозяин» должен быть непременно из партийных рядов. Дело в том, что продвижение по общественной лестнице идет только через партию, и с этим связано существование целых общественных слоев, окружающих, в частности, центральный партийный аппарат.
Что касается насильственного свержения существующего строя, то тут — после Гражданской войны, после войны с Германией, после террора с его бесчисленными человеческими жертвами, — даже чудом уцелев-
шие сторонники Троцкого считают, что сам Троцкий, будь он жив, согласился бы с тем, что кровопролитие должно прекратиться, что развитие должно идти эволюционным путем.
Может быть, после того, как на смену придет поколение, совершенно не знавшее сталинизма, появится надежда создать правительство, пользующееся широкой поддержкой масс. Когда я покидал Советский Союз летом 1956 года, казалось, в общем, что народ доволен своим лидером, хотя и относится к нему несколько иронически. В распространенном тогда анекдоте это звучало так: «После революции нами правили Титан, Тиран, а теперь — Турист». Турист — Хрущев — не так уж плохо.
Отношение русского народа к строю, к правителям можно объяснить примером Достоевского: вернувшись с каторги, он не стал противником режима, а наоборот - убежденным сторонником монархии. Так и теперь, в XX веке, сложилось убеждение, что все понесенные народом огромные жертвы не должны пропасть даром, что на этой основе, на этом фундаменте следует заложить нечто положительное. А такого рода органическая эволюция возможна, как многие полагают, только при наличии «просвещенного монарха».
Вопрос, которым часто задаются наиболее думающие люди: почему развитие советского общества не пошло по пути ленинских идей, почему, например, не стало отмирать государство, как таковое? Объясняется это отчасти тем, что экономические условия не благоприятствовали социалистическому развитию, не благоприятствовали развитию новых форм самоуправления. Напротив, управление переходило в руки все растущего государственного аппарата (бюрократии), защищавшего в первую очередь свои интересы, а не интересы широких масс трудящихся. В борьбе между бюрократией и демократией, как правило, побеждает бюрократия. Критический вопрос контроля снизу чрезвычайно волновал самого Ленина в последние годы, о чем, в частности,
свидетельствует его работа «Лучше меньше, да лучше», являющаяся как бы его духовным завещанием. Ленин надеялся, что Советы и партия сумеют осуществлять взаимный контроль. А этот контроль означал бы разделение власти между партией и народом. Но эта старая мысль о контроле снизу не нашла своего воплощения. Уже в двадцатых годах бюрократия настолько укрепилась, что для контроля над аппаратом потребовалась бы новая революция. Если бы, как предложил мой знакомый эмигрант, Ленин провозгласил себя «просвещенным монархом», он смог бы обратиться за помощью к народу против партии, но о подобном он, разумеется, и не помышлял.
Это, однако, не было немыслимым для Мао Цзе-дуна, положение которого в начале шестидесятых годов чем-то напоминало положение Ленина в начале двадцатых. Ленин тогда ввел НЭП, стал опираться не только на старых большевиков, но и на более молодое партийное поколение. При поддержке Троцкого и при сравнительно незначительной оппозиции он начал политику демократизации изнутри и сближения с Западом.
Положение Мао Цзе-дуна было более сложным. В партии существовала сильнейшая оппозиция, возглавляемая Лю Шао-ци. Тогда Мао прибег к тому, над чем Ленин раздумывал, но на практике осуществить не сумел — к культурной революции. Одной из целей такой революции и было противопоставление «вождя» партийному аппарату. На практике вышло так, что к концу шестидесятых годов политическая власть в Китае перешла к новому аппарату, основанному на базе личного культа Мао, то есть все пошло по пути не Ленина, а Сталина. Отмечу только в этой связи глубоко националистический характер культа Мао и его зависимость от поддержки армии.
Но вернусь к Ленину. Ленин, отдавая себе отчет в несовершенстве и слабостях народных масс, считал, что после свержения господствующих классов народ сумеет дойти до самоуправления. Хотя многопартийная
система была, с точки зрения Ленина, немыслимой в советских условиях, он, в отличие от Сталина, ни в коем случае не исключал борьбу мнений в партии. Ленин не считал, что диалектический процесс должен закончиться с победой социалистической революции. Наоборот, он считал, что процесс этот никогда не остановится.
Во времена Сталина допустимым был только один взгляд, только одна точка зрения. Впрочем, Сталин не был в этом оригинален. Еще при основании Первого Интернационала по этому вопросу шла жаркая дискуссия. Уже тогда некоторые представители социалистических и рабочих партий утверждали то же самое. Но при Сталине этот взгляд приобрел характер коммунистической теологии, которая привела в дальнейшем к чудовищным репрессиям и террору.
К характерным чертам сталинизма следует отнести и глубокое пренебрежение к народным массам. Аппарат предпочитает стабильность риску, народ в этих кругах называют не иначе, как дерьмом. То же презрение к народу было и у многих других, за исключением, может быть, Ленина. Ленин отдавал себе отчет в отсталости крестьянских масс, но он никогда не позволил бы себе прибегать к насилию по отношению к крестьянам. Напротив, он пытался поднять их до уровня рабочего класса. Вера Ленина в человека, в победу над злом была близка к утопии.
Другое дело — мелкие бюрократы, чувствующие себя великанами, ибо за их спиной — сила, готовые в любой момент схватиться за пистолет. Эти люди были убеждены, что выполняют волю партии и правительства, были уверены в своем праве сидеть на шее у народа. В этом презрении к народу я вижу сходство между сталинизмом и фашизмом.
Это отношение присуще не только Советскому Союзу. Помню, в Польше, во время венгерских событий я защищал право венгерского народа требовать, чтобы считались с его волей и желаниями. Н а это в «ответствен-
ных кругах» мне возразили, что народ согласится со всем, что ему скажут сверху, даже если одно совершенно противоречит другому: «Народ желает того, чего мы желаем». Такова была формула.
Даже часть политзаключенных в Советском Союзе разделяла этот взгляд. Вот мнение одного моего знакомого, в прошлом оппозиционера-троцкиста: он настаивал на том, чтобы процесс реабилитации проходил медленно, постепенно, чтобы не обрывать резко культ Сталина. Он считал, что в связи с «отсталостью» народа его следует крепко держать в руках, не подвергая риску уже завоеванное. На это я возразил, что нельзя, жонглируя волей народа, совершенно пренебрегать ею, игнорировать ее. Я сказал, что в будущем, возможно, удастся обратиться к свободным выборам, к подлинной демократии. И тут я понял, что мой собеседник абсолютно не представляет себе истинной демократии. Мысль о том, что следует отказаться от контроля над мыслями, словами, поступками людей, казалась ему да и многим другим совершенно абсурдной, неприемлемой, хотя теоретически они допускали отказ от диктатуры пролетариата. Отчасти, несомненно, основанием для такой точки зрения служит тот факт, что правительство и партия не чувствуют под ногами твердой почвы. Взять хотя бы глушение иностранных радиопередач на русском языке. Ведь совершенно чудовищно, что спустя полстолетия после революции все еще нет свободы информации. И покуда подобный контроль над народными массами не будет устранен, нечего ждать подлинного прогресса не только в общественно-политической жизни страны, но и в промышленности и сельском хозяйстве. Мне почему-то кажется, что если бы каким-то чудом удалось провести демократические реформы, влекущие за собой не внутренние потрясения, а лишь смену правительства, то многие из руководителей, как тогда, так и теперь, были бы согласны и даже рады поступиться частью своей власти. Я полагаю, что в основной массе 14 миллионов членов партии — не
консервативны в своих взглядах. Они лишь опасаются, что даже частичные реформы связаны с риском переворота (в частности, из-за враждебности рабочего класса и крестьянства). Сдерживающей силой на пути к демократии, кроме страха перед потрясениями и переворотом, следует считать глубоко окопавшуюся в государственном аппарате бюрократию, стремящуюся любыми средствами сохранить в стране общественно-политическую структуру.
СССР после Сталина — страна, словно опустошенная ядерной войной. Разрушение не только физическое, но и моральное и интеллектуальное. Стоит почитать советские философские и экономические журналы, и неспособность думать, мыслить критически бросается в глаза. Единственным примером некоторого развития творчества вскоре после смерти Сталина может служить известный расцвет лирической поэзии, и это, возможно, потому, что древо поэзии растет как бы стихийно, само по себе.
Во всем прочем после 1953 года— признаки полного смятения и неразберихи. Может быть, если бы был жив Троцкий, он смог бы предложить какой-то план перспективного характера. Однако не только сам Троцкий, но и его последователи самого разного калибра, а также почти все интеллектуалы — последователи Бухарина и профсоюзные руководители типа Томского были уничтожены в период сталинщины.
Этот взгляд подтвердили внимательно следившие за событиями в Советском Союзе специалисты за границей.
Единственно кто в Советском Союзе мог бы решиться на риск крутого поворота, это — молодежь, не знающая ни «чисток» ни «старых методов». Но вместе с тем, давая оценку их шансам на успех, не следует упускать из виду, что с ростом демократических сил растут и силы бюрократического аппарата.
В любом случае невозможно построить будущего, не зная как следует, что именно происходило в прошлом,
не поняв его уроков. А это в настоящее время недоступно советскому народу.
Что касается советской молодежи, то я пришел к следующим общим выводам:
1. Говоря о молодом поколении, следует иметь в виду тех, кому сейчас не более двадцати лет, то есть тех, кого совершенно не коснулось сталинское время.
2. Представители этого поколения продолжают традиции дореволюционной молодежи, шедшей в авангарде социалистического движения. Они все больше становятся « беспокойным элементом общества» и все больше ставят под сомнение те утверждения, которые исходят от официального аппарата. Неясно пока, куда пойдет это бунтарское движение и какие конкретно формы оно примет.
3. Хотя новая ситуация внешне будто бы сходна с движением в странах Запада, было бы неверно ставить между ними знак равенства. Основные побуждения советской инакомыслящей молодежи совсем иные, чем у молодежи на Западе.
4. Отличительной чертой советской молодежи можно считать ее страстный интерес к прошлому, в особенности к тому, что происходило в СССР в течение прошедших десятилетий, к тому, что пришлось пережить их отцам. Здесь-то молодые люди и наталкиваются на такой клубок противоречий, который они не в состоянии ни развязать, ни разрубить, ни обойти.
Настанет ли такой момент, когда окажется возможным обсуждение объективных истин о событиях последних 70 лет русской и советской истории? Мы часто обсуждали этот вопрос еще в тридцатых годах в лагерях и в тюрьмах. При этом примером служил нам в первую очередь опыт английской и французской революций. Мы понимали, что правящие круги сделают все, чтобы не допустить раскрытия исторической правды.
С тех пор линия партии по этому вопросу неоднократно менялась, причем до сих пор не решено, как истолковывать события недавнего прошлого. Новая
«История партии» выходит с большим опозданием и охватывает пока лишь события до 1929 года, но и то вокруг нее уже разгорелись страстные дискуссии, в основном в кругах интеллигенции и среди молодежи, недовольной духом компромиссов, пропусков и умолчаний. Типичный пример попытки обойти «опасные» вопросы — статья С. С. Смирнова в «Комсомольской правде» от 16 ноября 1966г. В форме ответа молодому читателю Смирнов прямо пишет, что невозможно еще, через такой короткий срок, дать оценку событиям 1937-38 годов, увидеть их в верной перспективе. Сомневаюсь, чтобы читатели сочли удовлетворительным ответ Смирнова, свидетельствующий о том, что есть еще очень влиятельные силы, которые пытаются преградить доступ к историческим фактам. А такое положение, естественно, заводит в тупик молодежь, пытающуюся разобраться в прошлом.
Именно эта ищущая молодежь — надежда на будущее.
Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заканчивая эту книгу, я отдаю себе отчет в том, что не сказал читателю всего, что следовало бы сказать. Когда я начал писать свои воспоминания тринадцать лет назад, я надеялся, что смогу не только пролить некоторый свет на события прошлого, но и прийти к далеко идущим выводам.
Сделать выводы оказалось труднее, чем я предполагал. Но, вообще говоря, я думаю, что выводы, к которым я пришел, покидая в 1956 году Советский Союз, были правильными. Ни тогда, ни теперь я не обвинял и не обвиняю никого, я никого не защищал и не защищаю. Все же, как мне кажется, человечество может
сделать полезные для себя выводы, узнав о том, что происходило в двадцатых, тридцатых и сороковых годах в СССР. Сейчас же, после прожитых на Западе (включая Израиль) пятнадцати лет, я хотел бы кое-что добавить к своим воспоминаниям. Я пишу о прошлом в том духе, в каком традиционные древнееврейские мудрецы интерпретировали фразу «Пусть грешники истреблены будут с лица земли» из 104 псалма Давида. Мудрецы истолковывали эту фразу так: «Пусть грехи истреблены будут с лица земли».
Если мы хотим извлечь уроки из страшных событий прошлого, нам нужно в первую очередь сосредоточить свое внимание на грехах, оставив вопрос о грешниках на суд тем, кто придет после нас.
Следует иметь в виду, что те человеческие трагедии, которые я описал в этой книге, — лишь ничтожная, микроскопическая часть немыслимых страданий, выпавших на долю советского народа, то есть на долю весьма солидной части человечества. Причем я рассказал далеко не все, чему я был свидетелем, или что мне известно достоверно.
Цель этих воспоминаний — правдиво рассказать о событиях и установить их причину. В особенности эти воспоминания могут пригодиться тем, кто считает пример и исторический путь Советского Союза достойными подражания. За годы моего заключения мне часто приходилось слышать один и тот же вопрос: какое впечатление произведет за рубежом правда о положении в СССР, когда она станет наконец известной, и к каким выводам придут люди во всем мире? Мы тогда сами были изолированы от общества и не могли, конечно, мечтать донести правду до внешнего мира. Многие полагали, что как только правда станет всем известна, сама идея социализма навсегда будет дискредитирована, а вместе с ней сгинет и идея освобождения человечества путем социалистической революции. (Ленин, как известно, считал Октябрьскую революцию начальным звеном мировой революции).
Что же произошло на самом деле? В Советском Союзе были сделаны слабые попытки исправить «ошибки прошлого». Но затем советские правители испугались собственной смелости. Должен сказать, что в результате невообразимого террора и массового уничтожения, длившихся двадцать пять лет, в аппарате остались люди либо с весьма низким уровнем развития, либо те, кого сломили и лишили способности мыслить самостоятельно, подавать новые идеи. XX съезд партии ни к чему не привел. То, что за ним последовало, было лишь уловками; на самом же деле в поведении руководства не наблюдалось никаких признаков действительных перемен. А перемены были необходимы, если принять во внимание огромные масштабы преступлений и гигантское число жертв.
Но еще более ужасно, на мой взгляд, это — непонимание за пределами Советского Союза того, что происходило у нас. Правда, в мировом коммунистическом движении наметились глубокие трещины, но ни рабочее движение, ни мировое общественное мнение не сумели прийти к тем очевидным выводам, какие мы в лагерях и тюрьмах считали неизбежными.
Больше того, во второй половине шестидесятых годов на международной арене появились течения, главная цель которых — бунт против общественных устоев Запада. Пятьдесят с лишним лет я внимательно слежу за всеми подъемами и спадами революционного движения в мире, но мне еще никогда не приходилось наблюдать такого непонимания, путаницы и абсурда, какие наблюдаются в так называемой «Новой левой» в ряде стран Запада. «Новая левая», в частности, в некоторых западных университетах, далеко превзошла даже самые худшие опасения так называемого «потерянного поколения», к которому я сам принадлежу.
Создается впечатление, будто все мы, жертвы двадцатипятилетнего сталинского деспотизма, находились во власти иллюзий, полагая, что как только за границей станут известны факты о деградации компартии в
Советском Союзе и о страшных преступлениях против народа, дальнейшая вакханалия лжи и дезинформации со стороны «социалистов» окажется невозможной.
Пока можно лишь признать, что процесс « отрезвления » идет крайне медленно, особенно в таких странах, как Франция и Италия. Я надеюсь, что мои воспоминания помогут нейтрализовать тот мощный аппарат дезинформации и обскурантизма, который все еще действует на Западе.
Какие же «грехи» привели к катастрофе революционного поколения в СССР? Прежде всего — пренебрежение основными принципами гуманности. «Революционная целесообразность», которой мы в двадцатых годах подчиняли все остальное в своей политической деятельности, оказалась настолько опасной концепцией, что она в конце концов привела к «контрреволюционной целесообразности» и была использована для унижения и уничтожения лучших представителей нашего поколения. Итак, первый грех—грех против гуманности.
Второй грех — это лицемерие и обман, вытеснившие наши идеалы и наши стремления к лучшему будущему для человечества. Революционная пропаганда — это не только противоречащее здравому смыслу понятие, но и преступление против основ человеческой совести, преступление против истины, подрыв всякой возможности честных дискуссий между людьми с разными взглядами.
Наконец, третий грех — это грех мистификации, когда трезвый подход к решению проблем подменяется так называемыми «новаторами» разжиганием у своих подчиненных определенных инстинктов и эмоций. В частности, инстинкт национализма, не только оказавшийся сильнее нацизма, но и по сей день разделяющий человечество на враждующие группы и позволяющий использовать в преступных целях укоренившиеся в людях предрассудки. В этой связи я мог бы многое сказать и об антисемитизме.
Таковы, на мой взгляд, те три «смертных греха»,
которые до сих пор ставят под угрозу будущее человечества.
Кто же борется с этими грехами? Мечтатели? Мечтатели, не имеющие никаких шансов на успех?
Дописывая последние строки своих воспоминаний, замечу, что будущее не кажется мне столь уж безотрадным. Думается, что в СССР идет сейчас процесс духовного возрождения самого молодого поколения. Процесс этот не ограничивается только студентами или интеллектуальной элитой. Нет, он идет глубже, захватывая различные слои рабочего класса и даже крестьянской молодежи.
Поразительна необычайная глубина мышления у молодых рабочих и крестьян, подвергающих коренному пересмотру те ценности и нормы, к которым мы, люди старшего поколения, относились, как к чему-то незыблемому, у меня складывается впечатление, что те выводы, к которым придет новое поколение в Советском Союзе, будут намного более далеко идущими и неожиданными, чем все то, о чем пишут и говорят сегодня.
Таковы выводы, к которым пришел я, и мне хотелось бы, чтобы их приняли и мои читатели.
Тель-Авив
Июнь, 1970 года.
Иосиф Бергер. Крушение поколения
ИОСИФ БЕРГЕР
КРУШЕНИЕ ПОКОЛЕНИЯ
Иосиф Бергер родился в 1904 г. в Кракове в еврейской религиозной семье. В возрасте 15 лет эмигрирует в Палестину, где становится убежденным коммунистом, одним из основателей коммунистической партии Палестины. В 1932 г. Исполнительный Комитет Коминтерна вызывает Бергера в Москву, где он руководит Ближневосточным отделом Коминтерна. В 1935 г. его арестовывают. Двадцать лет И. Бергер провел в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. Освобожден и полностью реабилитирован в 1956 г.
Новая волна террора прокатилась по стране в 1948 и 1949 годах. Целью органов безопасности было окончательно завершить террор 1937 года: заключенных вроде меня, оставшихся в живых после тюрем и лагерей, на этот раз решили изолировать и впоследствии ликвидировать. Поэтому меня, после девяти лет в Норильске, вместе с «этапом», состоявшим из 250 «ветеранов», перевезли в знаменитый Александровский централ близ Иркутска. Мы думали, что власти решают вопрос о нашем расстреле. Но «органы» ограничились в данном случае еще более строгой изоляцией.
Сам по себе этап был неимоверно тяжелым. Сначала нас доставили в пересыльную тюрьму в Иркутске, а оттуда переправляли в Централ. У узкого выхода стоял грузовик, вокруг—вооруженная охрана. Прежде чем нас погрузить, нам надевали наручники, сковывая попарно. Делали это в спешке, грубо, причиняя жестокую боль. Наручники впивались в тело с такой силой, что лилась кровь. В кузов нас набрасывали, точно кули — одну пару на другую, пока грузовик не набили до отказа. Мы лежали как селедки, не в силах шелохнуться; стонать было запрещено. Затем в кузов забрался вохровец и, пересчитав нас как скот, продел одну из заржавленных цепей (говорили, что эти цепи пролежали десятки лет в бывших царских тюрьмах) через кольца всех наручников и прикрепил ее к борту грузовика.
Было это утром, ранней осенью. Только что взошло солнце, воздух был чист и мягок. Мой напарник по наручникам был намного крупнее меня: наручники впивались ему глубоко в тело, причиняя сильную боль. И все же он прошептал:
— Проклятые садисты, по крайней мере они не отняли у нас света и солнца.
Мой напарник ошибся. Как только водитель сел в кабину и завел мотор, на нас накинули брезент. А начальник этапа потом сказал кому-то, что у него был приказ не только заковать нас и как можно плотнее набить нами грузовик, но и принять меры, чтобы не смогли определить, куда нас везут.
И нас повезли. Ни одна живая душа не сумела бы догадаться, что за груз находится под брезентом. Один заключенный стонал всю дорогу от глубоко впившихся в него наручников. Когда мы прибыли, и с нас стали снимать их, этот несчастный уже громко кричал от боли: оказалось, что его наручники не снимаются. Тогда принесли пилу. Когда же и пилой не удалось перепилить железо, принесли топор, которым и разбили оковы. Но к тому времени руки заключенного были сплошь покрыты кровавыми ранами. Человек потерял сознание. и его унесли на носилках.
В этой тюрьме я встретил людей, которые, по идее, должны были навсегда исчезнуть из жизни. Среди них были видные нацисты, которых по тем или иным соображениям не судили открыто как военных преступников. Некоторых схватили в Западной Германии, другие, как например, дипломаты, находившиеся при посольстве Шуленберга, сидели уже давно. Были тут и японцы, захваченные в Харбине.
Режим в Александровском централе был до предела жестоким. Ни писем, ни газет. Кроме обычных наказаний и карцеров, в каждую камеру помещали не только одного сексота, но еще и другого сексота, чтоб следить за первым. Таких на тюремном лексиконе называют «наседками».
В Александровском централе, как и в других советских тюрьмах, настроение заключенных было пассивным, безнадежно подавленным. Меня долгое время удивляло, что люди, не знающие за собой никакой вины, так пассивно и покорно относятся к случившемуся с ними. Со временем же я убедился, что многие рады и тому, что их держат в тюрьме: ведь их могли бы
просто взять и расстрелять. Поэтому сроки двадцать и двадцать пять лет казались иным почти малостью.
На деле же условия в тюрьме были таковы, что сроки эти вряд ли могли казаться милостью. Просто это означало медленное умирание вместо быстрой смерти. Старая русская поговорка «От сумы да от тюрьмы не зарекайся» отражает нищету и бесправие русского народа. Эту поговорку я слышал в заключении много раз от молодых и старых, от крестьян и рабочих, врачей, инженеров, профессоров. Тот же деловой фатализм прозвучал и в спокойном голосе одного из политкомиссаров, выразившего точку зрения властей:
— Мы не стремимся снижать показатель смертности.
Хотя некоторые из заключенных Александровского централа дожили и до смерти Сталина и до реабилитации, никто не имеет права забывать о тех чудовищных преступлениях, которые совершались по отношению к русскому народу и к людям других национальностей. Никто не должен чувствовать, что совесть его чиста, до тех пор, пока вся правда о сталинских преступлениях не будет сказана.
В середине пятидесятых годов, уже на воле и после реабилитации, я встретил человека, бывшего заключенного Александровского централа, восстановленного в партии и получающего пенсию. Он сказал, что не может больше радоваться жизни, так как "по политическим причинам" не может рассказать об известных ему страшных фактах:
— Не значит ли это,— заметил мой собеседник,— что есть еще люди, рассчитывающие возобновить эту пляску смерти?
Из Александровского централа я был переведен в Тайшет. После революции там существовал обычного типа исправительно-трудовой лагерь. В сороковых же годах его превратили в спецлагерь особого режима. «Спецлаги» возникли с возобновлением террора в конце сороковых годов, и тайшетский лагерь был одним из самых крупных.
Режимы в этих лагерях были исключительно кру-
тые. Мы беспрерывно находились под наблюдением. На ночь бараки запирались, но и днем заключенным не разрешали свободно ходить даже внутри зоны. Заключенные носили особую лагерную форму с номерами и буквами на фуфайках и брюках, наподобие то", какую носили каторжники в царское время. Эти номера и буквы позволяли вохровцам определять, из какой части лагеря тот или иной заключенный. Строго ограничивалась и контролировалась переписка. В некоторых спецлагерях заключенным разрешали писать домой только два раза в год, в результате чего часто окончательно порывались связи между ними и их семьями. Очень немногие рассчитывали когда-нибудь на волю: люди были пожилые или средних лет, а сроки — у большинства—до двадцати пяти лет.
Если в других лагерях наиболее квалифицированные работали по специальности, то в спецлагах все, даже крупнейшие специалисты, работали на общих работах, подносили шпалы, прокладывали дороги, рыли котлованы.
В то время как раз начиналось сооружение Братской ГЭС. Заключенные строили железнодорожную линию к Братску. Работали в неимоверно трудных условиях, при жестоком морозе, без теплой одежды, полуголодные. Они считались особо опасными, и вряд ли предполагалось выпустить кого-либо живым из этих спецлагов.
В Тайшетском спецлаге оказались люди совсем непохожие на тех, каких я встречал за последние пятнадцать лет. Прежде всего, в лагере не было уголовных, а большинство заключенных — иностранцы. Из советских граждан многие побывали на фронте, занимали прежде ответственные посты в армии, в промышленности и на транспорте. Военнослужащие были арестованы за «антисоветскую» пропаганду, либо за сотрудничество с немцами, либо за шпионаж в пользу союзников. Таких сулили по статье 58-6 за шпионаж. В тридцатых же годах большинство наиболее суровых приговоров выносилось по статье 58-8 (за «террор» и связанные с ним «преступления»).
То, что в Тайшете, да и в других спецлагерях, было собрано такое множество самых разных «преступников», свидетельствовало о лихорадочной работе, которую в то время проводили органы госбезопасности. При этом «органы» взяли на себя «заботу о безопасности» не
только Советского Союза, но и стран «народной демократии», где тогда начался государственный террор и откуда уже стали поступать первые его жертвы в Тайшетский лагерь.
В Тайшетском спецлагере находилось около ста тысяч человек. Этот лагерь был лишь одним из многих спецлагов, расположенных в Сибири, Казахстане, на Крайнем Севере. Мы прикинули, что в одних только спецлагах должно сидеть несколько миллионов человек, и это не считая политзаключенных других, «обычных» лагерей, число которых тогда резко возросло.
Лагерь был разделен на несколько зон, в каждой из них—установлен особый порядок, дававший возможность лучше наблюдать за заключенными.
В Тайшете я впервые услышал слово «чифир» (китайского происхождения). Чифир—напиток, действующий вроде наркотика и помогавший забыться, отрешиться от страшной действительности.
В обычных лагерях, как я уже говорил, алкоголь и наркотики были строжайше запрещены, и все-таки, благодаря некоторым связям с внешним миром, заключенным иногда удавалось добыть не только спиртные напитки, но даже опиум и кокаин. В спецлаге это было совершенно исключено. Поэтому заключенные открыли для себя чифир. К моменту моего прибытия в лагерь употребление чифира приняло уже такие размеры, что администрация в срочном порядке повела борьбу с ним. Чифир содержит таннин и кофеин. В больших концентрациях его эффект напоминает действие кокаина или опиума. Обычно он получается просто из чая. Целую пачку чая заваривают так круто и кипятят так долго, что получаются две-три чашки напитка. Концентрация таннина в чае при этом такова, что эффект поистине поразителен. Человек впадает в транс, забывает обо всем. Администрация лагеря делала все возможное, чтобы лишить заключенных и этой отдушины — проверяла тщательно посылки (разрешалось посылать только одну маленькую пачку чаю). За употребление чифира и за нелегальное хранение чая людей строго наказывали.
Несмотря на это, в лагере широко распространилась торговля чаем, а в некоторых секторах образовались даже своего рода «клубы» чифиристов[1].
[1]В каждом секторе было по 500-600 заключенных.
Люди «чифирили» поздно ночью, когда никто не мешал им пребывать в состоянии нирваны. В моей зоне таким «клубом» стала сушилка, куда зеки приносили сушить свою одежду после работы. Было это в подвале, нечто вроде котельной, причем работу в сушилке получали, конечно, по исключительному «блату». «Хозяином» сушилки был довольно интересный человек. Он происходил из семьи состоятельных промышленников. переселившихся после революции в Корею. Здесь-то и родился Элас. Родители дали ему русское образование. Элас говорил мне, что всегда считал себя русским, а Россию — своей родиной.
В молодости Элас собрал немного денег и переехал в Китай, в Кантон, а затем в Шанхай, где изучил китайский язык, познакомился с китайскими обычаями, культурой и образом жизни. Когда создалась Корейская народная республика, Элас предложил свои услуги новой администрации и был принят на работу. Однако вскоре он попал под подозрение, как выходец из Китая времен Чан Кайши, а также потому, что никогда не жил в России, но зато успел побывать в Южной Корее и Японии. В 1947 или 1948 году его арестовали и сослали в Сибирь.
Завидную должность сушильщика Элас получил, помимо «блата», благодаря незаурядному уму и деловитости. Должность эта, как я сказал, избавляла его от общих работ, а кроме того, обеспечивала ему возможность полностью отдаваться своей «чифирной» страсти. Мало-помалу вокруг Эласа образовалось нечто вроде клуба чифиристов. К нему в камеру приходили люди, присаживались на койку, совершали «чайные торговые сделки» и тут же требовали чифир. Чай ценился очень высоко: его выменивали на много лагерных «паек» хлеба, супа и пр. Люди готовы были отдать все — только бы забыться, уйти хоть на время от безнадежной действительности.
Странно, что Элас избрал себе в помощники немца, майора СС Гедеке, молодого еще человека, лет 27, захваченного НКВД в Восточном Берлине, где он возглавлял один из отделов американской контрразведки. Майор Гедеке имел срок в 25 лет.
Это был высокий стройный человек с военной выправкой. За свою короткую жизнь он перевидел многое. В детстве—Гитлерюгенд, потом—служба в СС, Восточный фронт. Вскоре после войны он разочаровался в нацизме, перешел в Западную зону, откуда ЦРУ направило его в Восточный сектор Берлина.
Гедеке рассказывал, что в Восточном Берлине для него работало много немцев, в том числе и некоторые юнцы, попавшие затем в наш лагерь. Прежде они были в Гитлерюгенде, и Гедеке завербовал их для таких простых поручений, как например: записывать номера машин, узнавать номера советских частей, к которым принадлежали служившие в Берлине военные. Некоторые из этих юношей были еще совсем подростками, и они никак не ожидали, что им дадут такой же срок— 25 лет— как и их шефу, Гедеке.
Все-таки некоторые из них выжили и после смерти Сталина были освобождены.
В нашем лагере было много немцев. Все они стали скромными и послушными, утратили былое высокомерие, заносчивость, вели себя очень вежливо, скрывали свою ненависть к русским, которые, в общем, относились к ним с глубокой враждебностью и обращались с ними весьма грубо. немцы переносили голод намного тяжелее, чем остальные, и готовы были на любую грязную и унизительную работу в обмен на ничтожные добавки.
Большинство из них, включая и старших офицеров, занималось в лагере торговлей и мелкой спекуляцией. А в их собственных лагерях в Германии и на оккупированных территориях за «экономическое преступление» заключенных очень строго наказывали, сурово карали человека, укравшего картошку или
кусок хлеба, жестоко пытали и даже расстреливали за малейшее проявление нечестности. Других, значит, немецкие офицеры наказывали, а сами на моих глазах крали и спекулировали. Это еще раз доказывает бессмысленность и лживость тех расовых теорий, согласно которым «торгашеские» народы, такие, как евреи, поляки, люди нечестные, а потому "их следует отнести к «низшей расе».
Сразу после войны с немцами обращались особенно жестоко и бесчеловечно: в лагерях их били, не оказывали медицинской помощи. Наша охрана состояла главным образом из деревенских парней, демобилизованных после воины из армии и избравших службу в МГБ вместо того, чтобы вернуться в свои колхозы, где люди буквально гибли от голода.
Немцев они ненавидели, кое-кто из них своими глазами видел лагеря для советских военнопленных, видел,
как немцы с ними обращались. Жалости к немцам у них не было. Единственными в Тайшете, кто относился к немцам по-человечески, помогал им выжить, были евреи. Например, если, немцу не удавалось добиться медицинской помощи от русского врача, он обращался и получал ее от врача-еврея.
Мировоззрение евреев в основном гуманное. Евреи выступали в защиту человеческих прав и человеческого достоинства, клеймили всякое угнетение одних людей другими. Большинство русских евреев, с которыми я разговаривал, считало, что главное зло — это не национальный вопрос, а та идеология, на основании которой человека лишают его неотъемлемых прав. Немцы же. помня о злодеяниях, которые совершались против евреев в нацистской Германии и на оккупированных территориях, опасались больше всего именно евреев. Их особенно страшило столкновение с евреями, находившимися среди лагерного начальства. На деле же евреи из лагерной администрации были единственными людьми, относившимися к ним по-человечески. Конечно, не все евреи: были и такие, в особенности среди техников и инженеров из ранее оккупированных западных областей, которые относились к немцам совершенно непримиримо. Но их было меньшинство.
Поскольку я знаю немецкий, то мог говорить со многими немцами-заключенными, и оказалось, мы говорим на одном языке, и не только в смысле лингвистическом. Люди эти не были нацистами, и я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми из них. Гедеке к таким не принадлежал, но от него я узнал, что происходило в умах тех молодых немцев, которые становились нацистами, а потом, меняя свои взгляды, пытались снова обрести почву под ногами.
Еще одним членом «чифирного» клуба был человек, которого я назову Ваней. Этот Ваня первым представил меня Эласу, а это считалось, как я уже говорил. большой честью. Ваня был довольно известным писателем (я читал несколько его книг), происходил из дворянской семьи, получил хорошее образование. Сразу же после Февральской революции Ваня, тогда еще подросток, стал ярым большевиком и принимал участие в революционном движении в своем родном городе, где-то в центральной части России. Он был комсомольцем, потом—преданным членом партии. Писал статьи—сначала в пионерской и комсомольской печати, потом
в партийной, стал весьма «левым» членом РАППа[1] возможно для того, чтобы под крайне пролетарскими взглядами глубже похоронить свое непролетарское происхождение. Он писал романы, эссе, литературные обзоры и имел много друзей среди писателей.
В начале тридцатых годов у него произошло, как он выражался, «недоразумение с партией». Он написал крупное произведение о троцкистах, полное ненависти к ним и «разоблачений» их взглядов. В книге в качестве ортодоксального коммуниста фигурировал и он сам, критически переоценивающий свои взгляды — взгляды рапповца. К его изумлению,— а от этого изумления Ваня, кажется, так и не смог отделаться в последующие годы,—роман его не напечатали. И это, невзирая на то что он не только следовал «правильной» партийной линии, но роман в целом был уже одобрен несколькими видными партийцами и даже самим ЦК. В романе всячески восхвалялся Сталин, а Троцкий и его сторонники представлялись в отвратительном свете. Я доказывал ему, что в тридцатые годы его биография была недостаточно подходящей для публикации книги, а во время и после войны тему троцкизма старались вообще замолчать.
Больше того, троцкизм был чисто партийным идеологическим вопросом, но никак не темой для романа. Вопрос этот касался Сталина лично и поэтому совсем не подходил для беллетристики. Можно было, подобно Шолохову, писать о коллективизации, но о троцкизме, борьба с которым проводилась путем террора и массовых расстрелов, писать не полагалось—это никак не походило на развлечение. Более того, даже обозвать беспартийного «троцкистом» считалось в то время недопустимым. Следовало говорить о троцкизме и троцкистах либо так, как о них писала «Правда», то есть называя их бешеными цепными собаками империализма, либо вообще не упоминать о них—было в этом что-то от религиозно-церковного обряда. Мне это всегда напоминало то место в Библии, где строжайшим образом запрещается добавлять хоть одно слово или сокращать хотя бы на одно слово «Десять заповедей».
Это была как бы наглядная иллюстрация к тому, как Сталин превращал коммунистическое движение в какой-то религиозный орден с псевдо-религиозными об-
[1] Российская Ассоциация Пролетарских Писателей
рядами. Священным писанием, в частности, становились собственные писания Сталина. Кое-что от этого сохранилось и в послесталинское время. Вспомните внутрипартийную борьбу с группой Молотова в пятидесятых годах. Тогда была допущена в оборот формула об «антипартийной группе Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова». О Шепилове нельзя было говорить отдельно. То же получалось и с книгой Вани о троцкистах.
Ваню не взяли на фронт из-за детского паралича — одна нога у него была короче другой. Но в 1942 году его приняли на работу в СМЕРШ. Для видимости он сделался редактором одной из армейских газет, а на самом деле—работал в контрразведке. На этой работе он пробыл до конца войны, после чего вернулся в Ленинград, где вновь взялся за журналистскую и писательскую деятельность. Ваня живо интересовался современной иностранной литературой, у него были контакты с зарубежными писателями-марксистами, такими, например, как Дж. Олдридж и Дж. Линдзи. Он встречался с корреспондентами газет «Унита» и «Юманите». Эти корреспонденты бывали в доме у Вани, и у одного из них начался роман с его женой, молодой еще актрисой. Позднее корреспондента выслали из СССР за шпионаж, а жену Вани — арестовали. Ей дали всего десять лет и отправили в один из лагерей неподалеку от Ростова, где она стала активной участницей лагерной самодеятельности. Такое либеральное отношение к ней объяснялось, видимо, тем, что она дала много всякой информации о разных людях.
Вскоре арестовали и Ваню, по обвинению в шпионаже. Он протестовал, доказывая свою непричастность, но его заставили подписать «признания». Факт его невиновности подтверждается хотя бы уже тем, что после смерти Сталина Ваня был полностью реабилитирован. Тогда же его приговорили к 25 годам лагерей, возможно еще и потому, что он был связан с «органами» лаже и после ухода из СМЕРШа. В лагере он снова работал в контакте с «органами» и был «секретным сотрудником». Поэтому он и проявлял такой интерес к «клубу» Эласа—под влиянием чифира люди охотнее раскрываются. Кроме того, Ваня надеялся собрать материал для новой книги.
По-видимому, в своих действиях Ваня не видел ничего зазорного— он и раньше сотрудничал с «органами»,
то же самое можно делать и в лагере.
Он считал, что его самого взяли по ошибке, но что остальные—действительно «контра», и поэтому за ними нужен надзор. В этом причина его особого интереса ко мне. Мы все были убеждены, что Ваня—сексот. Меня даже предостерегали от общения с ним. Но из своего долгого лагерного опыта я знал, что избегать сексота столь же опасно, как и общаться с ним, опасно и просто бесполезно. Вспомнить хотя бы случай, когда мой отказ «прокомментировать» известие о смерти Троцкого едва не стоил мне жизни. И тогда я поставил себе за правило таких людей не избегать, хотя зачастую разговоры были рискованными — но и интересными. Мы с Ваней разговаривали подолгу, в некотором роде даже подружились. Он все больше убеждался в том, что и мой приговор был ошибкой, что я, подобно ему, остаюсь верным и преданным коммунистом, и не сомневался, что настанет день, когда нас обоих освободят.
Однажды Ваня в полном смысле слова спас мне жизнь: против меня готовили новое дело, и только благоприятный отзыв Вани предупредил новый процесс.
Дружба с Ваней имела и отрицательную сторону:меня стали избегать другие заключенные, но это было меньшим из двух зол. Многое в Ване было мне чуждо, но он, несомненно, был интересной личностью.
Не менее интересным членом «чифирного» клуба был Алипий Андреевич Кравцов. Встретились мы в Тайшетском лагере перед распределением по "зонам". Кравцов сразу же обратил на себя внимание своей необычайной в этих условиях внешностью. Алипий был высок, с типично русским лицом, обрамленным бородой. Бороды в лагере были запрещены, борода Кравцова выглядела настолько внушительно, что, по-видимому, даже лагерное начальство не решалось убрать ее. Одет он был в черную флотскую шинель, казался в ней очень импозантным, держался прямо, говорил с достоинством. Было ему тогда лет тридцать. Вырос он уже при советской власти, и поэтому не принадлежал поколению, о котором написана эта книга. Его самообладание и память были исключительными, а взгляды — необычными.
Алипий был сыном православного священника. Типичный интеллектуал, он уже в возрасте десяти лет изучил несколько европейских языков. Живо интересовался также гуманитарными науками и техникой. После окончания школы пошел в технический вуз. Не был ни пионером, ни комсомольцем, сторонился политики. Кравцов рассказывал, что на него повлияли процессы тридцатых годов, в которые он с самого начала не верил. Он считал, что люди, пассивно голосующие за политическую линию, то есть молча поднимающие руку, являются соучастниками.
Поэтому Алипий избегал всяких собраний и митингов. Такое отношение было характерно для многих из его поколения.
Он и в лагере не думал менять своих взглядов, и поэтому, когда узнал, что я—бывший партийный, арестованный в тридцатых годах, да еще бывший сотрудник Коминтерна, то сразу насторожился.
Сначала он принял меня за иностранца-интеллигента, потом за человека, побывавшего за границей и именно поэтому попавшего в беду, и был расположен дружески. Алипий был бригадиром бригады, в которой я работал. Но узнав о моем партийном и коминтерновском прошлом, он сильно охладел: у него было очень сильное предубеждение против всех тех, кто имел хоть какое-то касательство к партийным и политическим делам. Такое отношение, впрочем, характерно для многих интеллигентов. Но затем его отношение ко мне переменилось, и в течение почти полутора лет мы были близкими друзьями. Кравцов рассказывал мне о своей семье, показывал письма от родных и свои к ним. Когда мы узнавали о таких событиях, как, например, корейская война, Кравцов слушал меня внимательно, но сам никогда никаких замечаний не делал.
Он рассказал мне историю всей своей жизни, включая и то, как он попал в лагерь. В самом начале войны его призвали в армию. Через год он уже был капитаном. Потом его перевели в Генеральный штаб военно-морского флота. Он производил впечатление честного, надежного, инициативною человека, и ему поручили важную секретную работу в шифровальном отделе. Оттуда его послали на Дальний Восток ответственным за работу шифровальщиков в Тихоокеанском флоте. В этой работе ему сильно пригодилось знание английского языка.
В то время американские союзные суда обходили по пути во Владивосток японскую блокаду. Их с нетерпением ждали советские моряки, защитники Владивостока. В обязанности Кравцова входили контакты с американскими судами и персоналом.
Работа Кравцова была крайне трудной и утомительной; иногда он" целыми сутками расшифровывал приказы и донесения, перехватывал радиосвязь японцев. Алипий стал заядлым курильщиком, много пил, но алкоголиком не был. По работе он имел дело с огромным количеством строго секретной информации и понимал, что для не члена партии это очень опасно. Поэтому он пытался перейти на другую работу, но безрезультатно.
Командование очень ценило Кравцова и вскоре его представили к награде. Когда он сказал, что в качестве беспартийного не считает для себя возможным быть на такой ответственной работе, ему ответили:
— Это можно исправить. Вот бумага, пишите заявление о вступлении в партию.
На это Алипий ответил командующему флотом, что с партбилетом или без него не хочет иметь ничего общего с политикой. И это не подействовало на командующего, который терпеливо внушал Алипию, что сам он тоже не очень интересуется политикой, но что партия, государство и товарищ Сталин—это одно целое, что он совершенно убежден в верности и преданности Алипия. Кравцов подписал заявление, был принят в партию, после чего его перевели на еще более ответственную и секретную работу в Москву. В Москве их с женой поселили на государственный счет в одну из самых больших гостиниц, которая стоила полторы тысячи рублей в месяц. На новой должности заместителя начальника отдела Генштаба Алипий не занимался шифровкой сам, а только проверял работу своих подчиненных. Работу его ценили хотя кое-кто жаловался, что он не общителен и малоразговорчив. На это Кравцов обычно отвечал, что работа занимает почти все его время и что в свободные часы он хочет быть с семьей. От своих друзей-американцев Кравцов получал множество детективных романов и зачитывался ими в свободное время. Даже в лагере он рассказывал мне си-держание некоторых из этих книг, в частности, книг Агаты Кристи.
Все казалось в порядке, пока однажды ночью не
раздался стук в дверь. Его арестовали по обвинению в измене родине (ст. 58/1 а). Это случилось в 1949 году. Ему предъявили обвинение в том, что во время войны он сотрудничал с американской разведкой, передавал им секретные советские шифры. Обвинения эти были чудовищны — ведь, если бы он действительно это сделал, американцы могли бы расшифровать все донесения, и это немедленно бросилось бы в глаза контрразведке.
Алипия допрашивали на Лубянке. При допросах присутствовали не только сотрудники МГВ, но и представители штаба военно-морского флота. Поскольку Алипий был абсолютно невиновен и никакие методы физического воздействия не выжали из него признаний, решили использовать старый прием, применявшийся НКВД в тридцатых годах: стали вызывать его жену и от нее пытались добиться компрометирующих Кравцова показаний. В ходе допросов ей делали непристойные предложения, о чем впоследствии ей удалось сообщить в лагерь.
Алипий тогда ничего не знал о том, что параллельно допрашивают и его жену. Но ни она, ни его непосредственный начальник не дали требуемых следствием показаний, и Алипия присудили всего к трем годам лагерей. Необычная краткость срока явилась еще одним свидетельством того, что у МГБ, в генштабе военно-морского флота и даже у судившей «Тройки» не было никаких данных против него. Но так полагалось—раз дело было возбуждено, человека следовало присудить хотя бы к какому-то сроку. МГБ не могло ошибаться.
На одном из последних допросов следователь так прямо и объяснил, что приговор, видимо, будет мягким, но поскольку распоряжение об его аресте было дано свыше, и много высокопоставленных лиц под ним подписалось, оправдать его не смогут, тем более, что он находился на строго секретной работе. Вероятно, Алипия действительно заподозрили в чем-то, когда он работал на Дальнем Востоке, и вполне возможно, что его перевод в Москву был связан с проверкой дела. В то время всякие контакты с американскими гражданами были крайне опасны, а Алипий как раз имел такие контакты, да к тому же он отзывался об американцах просто как о людях, а не так, как предписывалось партийными традициями. Спустя какое-то время после моего знакомства с Алипием в лагере мне удалось через
знакомых в Москве установить связь с его женой. Кравцов, естественно, был очень рад весточке от жены, но затем, всякий раз по получении известий, он хмурился все больше и больше. Пятое, кажется, от нее письмо он показал мне. Жена спрашивала, почему, если он не виноват, дело его до сих пор не пересмотрели. И это интересует не только ее, но и всех его друзей по работе, а также бывшее начальство.
Сначала он пытался намеками объяснить, насколько запутано и сложно его дело. Но она, видимо, не понимала и предупреждала, что от немедленного пересмотра его дела зависит судьба семьи и будущее их ребенка. Он ответил, что из лагеря бессилен что-либо предпринять. В конце концов, жена написала ему примерно следующее: «Одно из двух — либо ты виновен, и я должна сделать из этого соответствующие выводы, либо произошла ошибка. И эту ошибку следует как можно скорее исправить». Это было нечто вроде ультиматума, и Кравцов глубоко задумался над этим пись-мом. Выходило, что только в случае, если ему удастся доказать свою невиновность, у него есть перспективы сохранить свою семью. Алипию с огромным трудом удалось организовать встречу жены с одним из своих друзей, и тот долго пытался разъяснить ей все обстоятельства, связанные с положением Алипия. Однако и это. кажется, не помогло. Причем Кравцов с иронией вспоминал, как он сам в свое время говорил жене, что МГБ справедливо подозревает всякого, имеюшего контакты с иностранцами, в том числе и его. А в ответ на вопросы жены о чистках и расстрелах Алипий говорил, что лучше всего об этом не думать, ибо все проводится с одобрения людей, стоящих у власти и пользовавшихся в свое время доверием самого товарища Ленина.
Так что Алипий сам, в какой-то степени, повлиял на мировоззрение жены, и тем труднее было разубедить ее сейчас, да еще на расстоянии.
Летом 1950 года Алипий серьезно заболел и его положили в лагерную больницу. Мы стали встречаться реже. Выйдя из больницы, Кравцов стал усиленно хлопотать о месте учетчика в санчасти, что дало бы ему возможность следить за поступлением и выпиской больных, за лечением, которое они получали, читать истории болезней. Сначала это меня удивило, но потом я понял, зачем Алипию понадобилась эта работа.
В том же году, поздней осенью, я сам серьезно за-
болел. Тогда мне пришлось пережить самое жуткое за все двадцать два года моего пребывания в заключении. Я попал в лагерную больницу. К тому времени был издан приказ подвергать заключенных различным издевательствам. Были случаи самосуда, избиений и жестоких истязаний.
Меня избили прикладами, изваляли в снегу, стреляли над головой. А однажды меня раздетым заставили носить воду из реки, наполовину уже покрытой льдом. Я провел в ледяной воде два часа, черпая воду для бани вохровцев. В результате я заболел воспалением легких, перешедшим в плеврит, и провел двадцать дней в лагерной больнице—на грани жизни и смерти. Даже когда кризис миновал, я все еще испытывал сильнейшие боли в груди и не мог спать. Однажды в состоянии глубочайшей депрессии я поднялся с койки и добрался до комнаты, где работал Кравцов. Вид у меня, видимо, был очень страшный: до крайности истощенный, с посиневшими губами, В отчаянии я попросил Алипия дать мне снотворных порошков. Алипий подумал, что я решил уснуть и никогда больше не проснуться.
Тогда Кравцов заговорил, и говорил он долго, убедительно. И то, что он сказал, навсегда осталось у меня в памяти. Кравцов знал, что я уже больше 15 лет в заключении. Он заклинал меня сделать еще усилие, чтобы остаться жить. Он просил, убеждал, умолял, употребляя какие-то необычные выражения. Он говорил, что, работая в больнице, видел многих больных, впавших в полное отчаяние и уже ушедших из жизни. Он говорил, что мне следует уйти от этой мысли, что многих несчастных, которые хотели смерти, он мог понять. Но мой случай — особенный, потому что я столько знаю, столько видел, помню людей, факты, события, и я обязан и буду—он вверен—в состоянии когда-нибудь рассказать людям обо всем этом. Мой долг — рассказать все тем, кто не знает, но кто должен узнать. Кравцов сказал, что именно эта уверенность и навела его на мысль поговорить обо мне с врачами больницы, и те обещали помочь. И теперь я должен сделать все, чтобы выжить, чего бы это не стоило.
Слова его звучали так дружески, так тепло, что даже физическая боль несколько ослабла, и может быть благодаря Кравцову я выжил в ту ночь и пережил следующие. А еще через две недели меня выписали из больницы. Тем, что я жив и сегодня, невзирая на боль-
ные легкие и частые боли, я во многом обязан этому человеку.
В декабре Алипий, присоединившись к театральной самодеятельности, поставил «Лес» Островского. В этой пьесе он играл роль Несчастливцева, честного человека которому нет места в окружающем мире. «Лес» — не только пьеса XIX века, многое в «ей звучит злободневно. Алипий оказался очень способным актером. Вообще на вечера лагерной самодеятельности я не ходил, считая их унизительными при нашем положении. Но большинство «зеков» находило большое удовольствие в этих мероприятиях, осуществлявшихся под эгидой КВЧ[1]. Они готовили концерты, литературные чтения и «постановки».
Пьесу «Лес» поставили в канун Нового года — 31 декабря. Алипий уговаривал меня попросить у Вани билет и пойти на вечер. Я согласился, в надежде поговорить с Алипием по окончании спектакля: после того нашего больничного разговора я мало с ним виделся. Все же мне так и не удалось попасть на спектакль-тяжело болел один из моих друзей, и я провел вечер, сидя у его койки в лагерной больнице. Больной друг говорил, что боится сойти с ума. Он был когда-то писателем, теперь ему перевалило уже за шестьдесят, и он так и не приспособился к лагерным условиям. Незадолго до этого он в посылке получил книгу одного из немецких классиков на немецком языке. Мы читали эту книгу друг другу вслух. Я рассчитывал все-таки повидаться с Алипием после спектакля. Сразу же после окончания пьесы я узнал от Вани, что пьеса прошла с большим успехом и что особый успех выпал на долю Алипия. В первых рядах, конечно, сидело лагерное начальство и они особенно усердно аплодировали Алипию. Ваня добавил, что Кравцов очень устал и ушел сразу после «постановки» в свою комнату при больнице.
В день Нового года, 1 января 1951 года, мы не работали, и я надеялся повидать Кравцова утром. Но по время завтрака пришел очень огорченный врач ч сказал нам, что Алипия Кравцова ист больше в живых. Он заперся в своей комнате, а когда взломали дверь, его нашли мертвым. Была созвана медицинская комиссия для выяснения причины смерти. По словам доктора, Алипий принял большую дозу снотворного, и сердце
[1] КВЧ - культурно-воспитательная часть
не выдержало. Если бы вскрытие показало самоубийство, то начальник лагеря, а также работники санчасти, включая и «зеков», имели бы неприятности: началось бы тщательное расследование, каким образом заключенный имел доступ к таким лекарствам. Но, по определению комиссии, причиной смерти оказался сердечный припадок. Кравцов не оставил ни записки, ни писем. Ничего. Доживи Кравцов до смерти Сталина, его бы непременно реабилитировали, он вернулся бы к нормальной жизни. Могло бы наладиться у него и с женой. Но он, видимо, не мог больше терпеть... Судьба его — судьба миллионов. Был он замечательным другом и прекрасным человеком. Я впервые рассказываю о Кравцове.
И еще несколько слов о членах нашего «Клуба». Смерть Кравцова была для всех нас тяжелым ударом. Мы много говорили о нем, вспоминали его. Место, где он обычно сидел, слушая рассказы других, было теперь пустым. Когда мы впадали в транс под действием чифира, нам иногда казалось, будто он сидит с нами, в своей длинной черной шинели, а порой—незримый, но где-то совсем рядом.
Но клуб наш доживал свои последние дни. Вскоре самого Эласа перевели в какой-то другой лагерь. Обстоятельства его исчезновения наводили на мысль, что начинается новое следствие по его делу. Тогда, с наступлением 1951 года, снова усилилась бдительность МГБ. В частности, искали по лагерям людей, из которых можно было выжать еще какие-либо «показания». Элас знал многих китайцев и корейцев, которых можно было использовать для расширения шпионской сети. Однажды он намекнул, что его могут перевести к корейской границе, чтобы с его помощью МГБ смогло осуществить массовые аресты в Северной Корее. Он, впрочем, не рассчитывал, что за это его освободят ив заключения. Самое большее, на что он надеялся в обмен за сотрудничество с МГБ — это освободиться по отбытии полного срока. О дальнейшей его судьбе мне ничего не известно.
У Гедеке между тем открылся туберкулез. Его устроили в сушилку, где он протянул еще какое-то время.
Потом, когда процесс еще больше обострился и у него уже горлом шла кровь, его взяли в больницу. Так, я думаю, он и скончался—точных сведений об этом не поступило.
Ваня же, в противоположность Кравцову—«Несчаст-ливцеву», родился под счастливой звездой. Он в лагере писал пьесы, и одну из них—«На распутье»—там поставили. Пьеса была страшно бездарной, в ней рассказывалось о попытках каких-то диверсантов давать взятки партийным работникам, происходили закрытые собрания, стрельба из пистолетов. Пьеса, однако, тем понравилась, что многие в зале сидели как раз за подобную несуразицу. Сразу же после смерти Сталина Ваня начал активно хлопотать об освобождении, первым добился пересмотра дела, освобождения и реабилитации. Он вернулся в Ленинград, где был тепло встречен друзьями, и теперь Ваня сотрудничает в журналах, в частности, в наиболее консервативных, пишет книги. Любопытно только, помирился ли он со своей женой.
Что же касается меня, то однажды ночью меня вызвали из камеры и перевели в другую зону того же лагеря. После выяснилось, что это не было случайностью. Через несколько месяцев меня должны были освободить. Так вот, с одной стороны, МГБ хотело оторвать меня от друзей по лагерю, а с другой—взять под особый надзор с целью, возможно, подготовить новый процесс. Так были арестованы уже несколько десятков моих знакомых по обвинению в троцкистской пропаганде в лагере. Им прибавили по пять и десять лет. Моему же новому процессу помешала смерть Сталина. Эти дополнительные приговоры были вынесены в 1952 году, но их пересмотрели в первую очередь и отменили сразу же после смерти Сталина. Но многие не дожили до этого...
Когда я в 1956 году приехал в Москву, я разыскал некоторых из бывших товарищей по заключению в Тайшетском спецлаге, приговоренных к новым срокам за несколько месяцев до смерти Сталина, а затем освобожденных и реабилитированных.
Итак, мое дело до смерти Сталина не успели поднять. Поэтому, хотя меня освободили в 1951 году, я должен был ждать реабилитации до весны 1956 года. Из-за этого я не мог вернуться в Москву. Потом оказалось, что меня должны были реабилитировать еще в 1955 году, и когда в 1956 году я был вызван к начальнику Красноярского КГБ, тот очень вежливо встретил
меня и извинился: не за предыдущие 20 лет заключения (то была не его вина), а за последний год. Красноярский КГБ не освободил меня вовремя, поскольку не было «убедительных доказательств» моей невиновности.
В Москве моя жена стала ходить в прокуратуру сразу же, как только началась реабилитация политзаключенных. Прокурор, показав ей мое «увесистое» дело, сказал:
— Взгляните, легко, думаете, разобраться в таком деле?
Но тут вмешались и товарищи из коммунистической партии Польши, и наконец, по распоряжению непосредственно ЦК Партии, я был освобожден из ссылки и реабилитирован 29 февраля 1956 года.
Указатель имен
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абакумов, Виктор Семенович, 299
Аграновский, Абрам Давыдович, 44-49
Аденауэр, Конрад, 270, 300
Аксаков, Сергей Тимофеевич, 64
Акулов (следователь), 29
Алымов, Сергей Яковлевич, 53
Анвельт, Яан, 238-239
Андреев, Леонид Николаевич, 189
Аракчеев (полковник), 70-71
Бабель, Исаак Эммануилович, 57
Багиров, Мир-Джафар Аббасович, 299
Бакаев, Иван Петрович, 195
Бевин, Эрнст, 175
Беленький (ответственный работник НКВД), 74-75
Белоусов, 83-98
Бен-Гурион, Давид, 166
Бенеш, Эдуард, 176
Бергер, Эстер, 9, 11-13, 264-265
Берия, Лаврентий Павлович, 48, 55, 110, 146, 265, 287, 290-291, 292, 299, 309-310
Блок, Александр Александрович, 59, 189
Бреде, Герберт, 238-240
Брюсов, Валерий Яковлевич, 59
Бубнов, Андрей Сергеевич, 78
Булганин, Николай Александрович, 290, 298
Бухарин, Николай Иванович, 51, 53, 104, 109, 112, 125-131, 134-143, 156, 201, 217, 316
Бухштаб, Борис Манасович, 168-178
Вангенхейм (ученый), 28
Волохов, Николай Васильевич, 254
Ворошилов, Климент Ефремович, 291, 294
Вышинский, Андрей Януарьевич, 48, 109, 117, 142, 163, 169, 175, 296
Гамарник, 213
Гедеке (майор СС), 269-270, 272, 284
Гендерсон, Артур, 107-108
Гертик, Артемий Моисеевич, 195
Гесс, Рудольф, 226
Гецаев (следователь), 235-236
Гиппиус, Зинаида Николаевна, 189
Гитлер, Адольф, 159, 172, 174, 186, 214, 226, 231, 255, 257, 262, 292, 300
Горький, Максим, 50, 61-63, 136
Дан, Федор Ильич, 144
Датт, Клеменс, 10
Дзержинский, Феликс Эдмундович, 156, 304
Димитров, Георгий, 10
Достоевский, Федор Михайлович, 35
Дубинский, Александр, 194-198, 200
Евдокимов Г. Е., 179-180
Евдокимов, Григорий Еремеевич, 195
Ежов, Николай Иванович, 47, 55, 110, 125, 154, 156-157, 224
Емельянов, Александр Николаевич, 75
Емельянов, Николай Александрович, 71-75, 83
Енукидзе, Авель Софронович, 146, 188-189
Епишев, Алексей Алексеевич, 265
Есенин, Сергей Александрович, 50, 189-190, 192
Есенин, Юрий Сергеевич, 189-192
Ефимов, Борис Ефимович, 45
Жуков, Георгий Константинович, 261 324
Заславский, Давид Иосифович, 45, 47, 109, 163
Зиновьев, Григорий Евсеевич, 11, 71-72, 109, 126, 128, 133, 151, 154, 194, 195, 217, 306
Зорич, А., 45
Иванов, Дмитрий, 194, 197, 198, 200-204
Ильюшенко (следователь), 179
Инжир, Лев Ильич, 148-167, 174
Каганович, Лазарь Моисеевич, 52, 114, 224, 273, 288, 294, 298, 300, 308
Калинин, Михаил Иванович, 85-88, 92, 188
Каменев, Лев Борисович, 109, 154, 195-196, 217, 306
Капустин, 264
Каховская, Ирина Константиновна, 302-303
Керенский, Александр Федорович, 31, 71, 140, 168
Кестлер, Артур, 110
Ким-Ир-Сен, 161
Киров, Сергей Миронович, 29, 51, 95, 109, 119, 136, 190, 202, 204, 210, 211, 255
Киршон, Владимир Михайлович, 55, 57
Колчак, Александр Васильевич, 49
Кольцов, Михаил Ефимович, 45
Кравцов, Алипий Андреевич, 275-284
Кравченко, 296
Кромвель, Оливер, 19
Крупская, Надежда Константиновна, 72, 81
Куусинен, Отто Вильгельмович, 219
Ларин, Ю., 141
Лебедев-Кумач, Василий Иванович, 50
Левин, Владимир, 203-204
Ленин, Владимир Ильич, 18, 19, 34, 39, 71-72, 81, 89, 91, 100, 103, 104-105, 106, 113, 120, 123, 126, 127, 128, 136, 141, 150, 151, 169, 172, 173, 174, 188, 194, 195, 200, 214, 280, 294, 304, 311, 312-314, 319
Лесков, Николай Семенович, 50
Ли-Сын-Ман, 161
Литвинов, Максим Максимович, 107
Ломинадзе, Вано, 208-213
Лорис-Меликов, Александр Михайлович, 25-31, 35
Лопатин, 251-252
Луначарский, Анатолий Васильевич, 78
Лю Шао-ци, 313
Любченко, 213
Люксембург, Роза, 222
Майский, Иван Михайлович, 169
Маленков, Георгий Максимилианович, 262, 290, 294, 300, 309-310
Мануильский, Дмитрий Захарович, 132-133, 208
Мао Цзе-дун, 313
Мартов, Юлий Осипович, 150, 172
Масарик, Ян, 176
Мендерс, фрицис, 304
Мережковский, Дмитрий Сергеевич, 189
Меркулов, Всеволод Николаевич, 55
Микоян, Анастас Иванович, 298, 300
Молотов, Вячеслав Михайлович,111, 214,222, 224, 227, 273, 287, 294, 298, 300,308
Морозов, Павлик, 43
Мюнценберг, Вилли, 111-112
Нейман,Гейнц, 208
Ненни, Пьетро, 163-164
Неру, Пандит Мотилал, 10
Оболенский, 34-36
Орджоникидзе, Григорий Константинович, 208, 211, 213
Парфенов, Петр Семенович, 49-54
Парфенов Федор, 49
Паулюс, Фридрих фон, 227
Петровский, 137-138
Пешкова, Екатерина Павловна, 34, 36
Пилсудский, Иосиф, 76
Пильняк, Борис, 57
Платтен, фриц, 195
Плеханов, Георгий Валентинович, 101, 150
Поликарпов (следователь), 229-236
Понтович, Эдуард Эдуардович, 143-147, 188-190
Поскребышев, Александр Николаевич, 287
Пушкин, Александр Сергеевич, 67
Пятаков, Григорий Леонидович, 111, 113, 115-116, 154,306
Пятницкий, Иосиф Аронович, 165
Радек, Карл Бернгардович, 106-110, 135, 136, 154, 306
Робеспьер, Максимилиан, 19
Родионов (хирург), 256
Рузвельт, Франклин Д., 213, 240
Рыклин, Григорий Ефимович, 45
Рыков, Алексей Иванович, 130
Рюгер (пастор), 183
Сарагат, Джузеппе, 163
Сафаров, Георгий Иванович, 195
Сейфуллина, Лидия Николаевна, 58
Серафимович, Александр Серафимович, 58
Серебрякова, Галина Иосифовна, 305
Смирнов, Иван Никитич, 117
Смирнов, Сергей Сергеевич, 318
Сокольников, Григорий Яковлевич, 150
Солженицын, Александр Исаевич, 179
Сосновский, Лев Семенович, 45
Спиридонова, Мария Александровна, 303
Сталин, Иосиф Виссарионович, 10, 11, 20, 21, 32, 36, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 63, 91, 94, 95, 103-106, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 123, 125, 126, 128, 130, 134, 135, 136, 138, 146, 147, 151, 156, 161, 172, 176, 182, 186, 195, 196, 198, 201, 202, 203, 204, 205-212, 213-216, 224-225, 226, 227, 240, 245, 252, 255, 260, 265, 273, 283, 284, 285-300, 502, 305, 506-508, 511, 514
Суханов, Николай Николаевич, 144
Тарасов-Родионов, Александр Игнатьевич, 57
Тито, Иосип Броз, 12, 147, 263, 265
Толстой, Лев Николаевич, 39, 41, 189
Тольятти, Пальмиро, 164
Томский Михаил Павлович, 131, 133, 213, 316
Троцкий, Лев Давыдович, 51, 89, 103-105, 108-109, 115,
117, 118-119, 120, 122, 126, 127, 150, 151, 196, 200, 208, 224-225, 273, 275, 312, 313, 316
Троцкий, Сергей Львович, 118-122
Трумен, Гарри С., 161, 163
Тургенев, Иван Сергеевич, 35, 64
Тухачевский, Михаил Николаевич, 110, 147, 214
Ульбрихт, Вальтер, 228
Фадеев, Александр Александрович, 50, 58
Фельдман (раввин), 185-186
Франс, Анатоль, 197
Ханна, Джордж, 176
Хинчук, 169
Ходжа, Энвер, 286
Хрущев, Никита Сергеевич, 262, 265, 290, 298, 300-301, 303-305, 309-310
Цветаева, Марина Ивановна, 189
Чан Кай-ши, 209, 269
Червяков, 213
Черчиль, Уинстон, 240
Шамсутдинов (имам), 183-185
Шафранов, 31-33
Шепилов, Дмитрий Трофимович, 273
Шляпников, Александр Гаврилович, 89, 180
Шолохов, Михаил Александрович, 53,216, 273
Шульгин, Василий Витальевич, 303-304
Эйхенвальд, Александр Юльевич, 137-143
Эйхенвальд, Юлий Исаевич, 139-140
Элас, 268-269, 272, 274, 283
Эрдман, Николай Робертович, 56
Эренбург, Илья Григорьевич, 51
Юркин, Василий, 76-102
Ягода, Генрих Григорьевич, 130-131, 156
Якир, Иона Эммануилович, 224