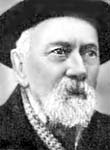Из дум о былом
Из дум о былом
Часть первая. Детство
Глава 1. О моем роде
Глава I.
О МОЕМ РОДЕ
В детстве я твердо верил, что мой дед был беломорский моряк. Я тоже рос «у самого синего моря» и часто, слушая прибой теплых черноморских волн, думал о том, как дед «ловил неводом рыбу» — где-то там, далеко-далеко — у какого-то студеного Белого моря. Когда я, лет восьми, с гордостью рассказывал своему другу о деде-поморе, моя мать прервала меня: «Откуда ты это взял? Какие ты говоришь глупости! Никогда твой дед не ловил неводом рыбу. Он был дворянин, и все твои предки были дворяне». Я был очень огорчен этим разоблачением, и мне были непонятны нотки досады в голосе мамы. Прошлое моего рода стало мне казаться таким обыденным.
Позднее, стараясь дать себе отчет в сложении этого мифа о моем происхождении, я нашел ему объяснение. Мой отец родом из Архангельска, испытал обаяние образа своего великого земляка помора Михаила Ломоносова и в ранние годы моей жизни рассказывал мне о нем. В моем воображении слилось воедино детство моего отца с детством Ломоносова. Это был первый разоблаченный миф моей жизни.
Когда мне было лет 12 — товарищи часто дразнили меня цифрой, Цифиркиным и так далее — так издеваясь над моею фамилией.
От библиотеки моего отца уцелел энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Когда я стал грамотным, у меня скоро выработалась привычка на все запросы ума искать ответы в этих книгах с золотыми корешками. Там я стал искать объяснения своей фамилии. Во 2-м томе значилось: «Анцыфоровы (в старину Онцыфоровы) — древний знаменитый род Новгорода. Из этой фамилии были новгородскими посадниками — Михаиле Михайлович в 1273 и 1274 годах». Далее шло перечисление имен посадников из этой фамилии вплоть до Луки (в 1342 г.), у которого был «сын Онцыфор Лукич, бывший посадником в 1350 г. От него-то потомки и приняли фамилию Онцыфоровых». Поговорив со своими тетками, я пришел к убеждению, что мои предки были сторонниками вольностей Великого Новгорода и за это при Иоанне III или при его внуке — Грозном в числе многочисленных опальных
фамилий «больших людей» расстались со Св. Софией и отправились в ссылку в северный край, где и осели в Архангельске. Обеднев окончательно, Анциферовы вошли в ряды служилого дворянства. Все же эти сведения не успокоили меня. Свойственное мне с детства отношение к слову по Платону, т. е. придание его смыслу объективного значения — заставило меня раскрыть календарь, в котором я нашел объяснение моей фамилии. Имя Оницифор — означало: «приносящий пользу». Это открытие очень обрадовало меня, и я, чтобы приблизить мою исковерканную фамилию к первоисточнику, стал подписываться через и, а не ы.
Мне было очень радостно узнать о таком значении моей фамилии. Я уже к тому времени прочел Тургенева, и мной овладел страх попасть в число «лишних людей». Нет, в моем имени есть залог, что я избегну этого. Ведь оно же значит «приносящий пользу»!
О своих предках я знаю очень мало.
Прадед мой был Иван, но имя отца его мне уже неизвестно. Да и о прадеде я знаю только благодаря доброму русскому обычаю называть людей по отчеству: дед у меня был Григорий Иванович. Интересно найти в психологии русского народа, в особенностях, его культуры объяснение этому вниманию к отцам. Греческие Атриды, Пелиды — исчезли вместе с греческой архаикой, итальянские Пьетро ди КозимОу Матео ди Джованни — дожили до кватроченто и, насколько мне известно, исчезли уже в чинквеченто3.
Кажется, в Скандинавии, по крайней мере в Норвегии, название по отцу держалось очень долго, но все же и там этот обычай исчез уже давным-давно. Чем объяснить, что у нас отчество уцелело и, видимо, уцелеет еще века? Даже Октябрьская революция санкционировала его, сделав общенародным название тов. Ленина «Ильич» и тов. Кирова — «Мироныч». Старой, патриархальной «святой Руси» шло это почитание отцов, которое зиждилось на верности отечественным преданиям, но как в послепетровской России, когда началась борьба отцов и детей из поколения в поколение, проникавшая все глубже в народные недра <...), могло уцелеть <...) название «по батюшке» — это совершенно непостижимо.
Итак, моего дедушку звали Григорием Ивановичем. Я слыхал, что он был очень добр и мягок, но вспыльчив. Жена его, моя бабушка, была женщина решительная, твердая, крепко державшаяся заветов старины.
Григорий Иванович был «офицерским сыном», с 1818 года он работал в Архангельске в качестве корабельного мастера. После судебной реформы Александра II он стал мировым судьей в Холмогорах. Видимо, при Николае I Григорий Иванович не хотел служить чиновником. У меня сохранились фотографии, где он изображен с моим отцом. Старичок с широкой совершенно седой бородой как-то уютно сидит на стуле — а рядом,
3 «Кватроченто», «чинквеченто» и встречающиеся далее «треченто» и «сейченто» — XV, XVI, XIV и XVII вв. соответственно.
положив ему руку на плечо, стоит мой отец, с едва пробивающейся курчавой бородкой; юноша скорее похож на внука, чем на сына этого старца. Эта разница объясняется тем, что мой отец был младшим из его 12 сыновей и дочерей. Мои дедушка и бабушка много горя знали: они вырастили только троих детей: двух девочек — и последыша, который был значительно моложе своих сестер, моего отца.
Старшая, Юлия, вышла замуж за Михаила Сибирцева и имела много детей. Среди ее сыновей был Устин, известный архангельский краевед, и младший Николай — крупный ученый, считающийся основателем школы русских почвоведов. Старших Сибирцевых я не знал. Только с Устином Михайловичем, работая в Центральном бюро краеведения, я обменялся как-то письмами, по какому-то краеведческому делу. Младшего — Николая Михайловича — я знал хорошо. Это был любимый племянник моего отца, который был старше его всего на три-четыре года. Своих двоюродных братьев Сибирцевых я звал: дядя Утя и дядя Коля. В честь последнего мне дано мое имя. Августа Григорьевна вышла замуж за Федоровича. Кто он был, я не помню. Тетя Густя была бездетна и любила моего отца, своего маленького братца, как родного сына. Она после смерти моего отца приезжала к нам гостить из Архангельска и много рассказывала мне об отцовской родине. Когда я подрос, она все звала меня на Север, хотела показать мне дом, где провел детство мой отец. Этот двухэтажный дом на улице такой широкой и тихой, отмеченной церковью с шатровым куполом, изображен на старой фотографии, которая у меня сохраняется до сих пор. Как я жалею теперь, что не исполнил волю своей тети Густи и не побывал в Архангельске тогда, когда еще были живы родные и близкие [моего отца]. Тогда я мог бы еще ощутить атмосферу, окружавшую его детство и юность. Тетя Густя умерла, помнится, в 1913 году в глубокой старости, не дождавшись приезда сына своего Панюшки. А я в те годы так торопился жить, и мне было некогда оглянуться назад.
Мой род держался «на ниточке». Я не знаю, были ли братья у моего деда. Кажется, их не было. Отец был у него единственным, как я у моего отца. И у меня только один сын, и мой сын оставил после себя также единственного отпрыска. Нет у нас и родового имени (Иван — Григорий — Павел — Николай — Сергей — Михаил). Еще особенность нашего рода — резкая разница возраста отцов и детей, впрочем, все убывающая. Между отцом и дедом — разница около полувека. Между мною и отцом — в 38 лет, между моим сыном и мною — в 32 года. Все это ослабляет крепкие родовые связи, фамильные традиции, которыми я стал так дорожить, войдя в зрелый возраст.
Герцен писал своей невесте Наталии Александровне Захарьиной: «Герцены прошлого не имеют, Герценов только двое — Наталия и Александр». Им было радостно сознание, что
ими начинается новая жизнь. Мне тоже знакомо это чувство, но я его испытал в ином плане, когда впервые полюбил. Мы твердо верили, что наша любовь не имеет предков, что с нами что-то новое вошло в жизнь. Incipit vita nova¹. Но это другое. Это (по духу), а (по плоти) — мне хотелось иметь большую семью с крепкими родовыми связями и богатыми семейными преданиями.
Такой семьей обладала сестра моей бабушки, вышедшая замуж за Николая Вихляева.
От их дочерей пошли: Курбатовы, Кипарисовы, Паникаровские, Любушины с их многочисленным потомством. Вышедшая замуж за доктора И. И. Курбатова двоюродная сестра моего отца Антонина Николаевна была лучшим другом его юности. Когда мой отец уехал в Петербург учиться, она несмотря на протесты родных, в' особенности моей бабушки, последовала за ним, чтобы получить высшее медицинское образование. Антонина Николаевна была совершеннейшей красавицей с черными глазами, с прекрасными волосами — южанки и нежным цветом лица — северянки. Свою красоту в разной степени она передала своим детям. Меня удивляло — как мог сложиться на севере этот южный тип красоты. Оказалось, что ее дедушка-моряк привез жену-итальянку с Явы или Целебеса.
Жизнь меня в разные периоды сближала то с теми, то с другими из потомков Н. Вихляева. А семья его дочери Антонины Николаевны сделалась для меня родной семьей на всю жизнь, в самом лучшем смысле этого слова.
Еще меньше знаю я о роде моей матери. Ее отец был из тверских крестьян. Звали его Максим Петров. О нем моя мать никогда мне ничего не рассказывала. Я узнал только, что он любил «выпить». И вот при каких обстоятельствах я проник в эту семейную тайну. Когда у нас за столом подавалось вино, я всегда протягивал свою рюмку за второй порцией. И мать, пугаясь этой наклонности, как-то остановила меня словами: «Смотри, Коля, как бы ты не пошел по стопам деда». (Опасения ее были напрасны: пьяница из меня все же не вышел.) Тогда меня эти слова очень поразили: я привык о родных слышать только хорошее. Итак, о мамином отце мне известно еще меньше, чем о папином. Я даже хорошенько не знаю, как его звали по отчеству. Вероятно, его фамилия определялась его отчеством, как это бывало в крестьянском быту, когда выделялась из рода новая ветвь, начинавшая жить самостоятельной жизнью. Жену его звали Прасковья Андреевна, ее девичья фамилия была Андреева — по имени отца. Бабушку свою я знал хорошо. Она много тепла вносила в мою жизнь. Умерла Прасковья Андреевна в глубокой старости. Я присутствовал при ее кончине. Это была первая смерть, которую я видел.
¹ Начинается новая жизнь (лат).
Свою бабушку я очень любил. Она тесно срослась с моей жизнью, и о ней я буду писать не в связи с моим «доисторическим прошлым», а в связи с разными периодами моей жизни, как и об отце и матери. Я не знаю, когда мои дедушка и бабушка с материнской стороны покинули родные поля Тверской губернии и переехали в Петербург. Мне смутно помнится из рассказов бабушки, что Максим Петрович поступил истопником в Зимний дворец. В Петербурге у них родилось трое детей. Старшая дочь Екатерина — моя мать. Вторую дочь звали Марией. Сына, который родился много позднее, назвали Василием. При крещении пьяный дьячок по ошибке записал его под фамилией Патылицин. Так он и прожил свой недолгий век с этим псевдонимом. Оказалось, что ошибку пьяного дьячка исправить было очень трудно. Умер дядя Вася еще в студенческие годы.
В семье Петровых приняли участие две старушки Кононовых, близкие ко двору. Они крестили дочерей Максима Петровича. Крестной матерью моей мамы была Екатерина, давшая ей свое имя. Крестили ее золотым крестом, на котором было изображено солнце. Этот крест переходил из поколения в поколение. Им крестили и меня. Я очень дорожил этим крестом. Он у меня пропал в 1928 году — перед началом всех моих бедствий. Старушка Кононова подарила своей крестнице превосходной работы силуэт своего отца, служившего при дворе Екатерины. Он ее и назвал в честь «матушки-царицы». К портрету был присоединен еще подарок — крохотный золотой полтинник Екатерины II — необыкновенно изящной работы. После смерти своей крестной моя мать унаследовала от нее несколько прекрасных вещей: огромное зеркало в стиле Жакоб в раме красного дерева с металлическими деталями, вольтеровское кресло, которое всю жизнь рядом с этим зеркалом стояло в углу моей комнаты, куда бы я ни переезжал, и, наконец, портрет масляными красками ее брата — как рассказывала мне мать — участника Бородинского боя. Мне помнится, что он погиб в этом бою вместе с Александром Тучковым. Этот портрет, всегда висевший в маминой комнате, возбудил во мне еще в ранние годы особый интерес к Бородинскому бою и окрасил события 1812 года какими-то смутными родными преданиями.
У мамы рано проявились музыкальные способности. Ее крестная сейчас же обратила на них внимание. Учителем мамы был ученик Николая Рубинштейна. Я не запомнил его имя. Портрет же прославленного нашего музыканта хранился в альбоме моей матери. Вероятно, через Кононовых мама сошлась с семьей Достоевских. Федора Михайловича она живо помнила. Рассказывала мне о его любви к детям. Он называл ее своим «маленьким Рубинштейном». С его племянницами, дочерями Михаила и Николая, она близко сошлась и в старости поддерживала с ними хорошие отношения. Когда одна из них (М. Н. Ставровская) во время голода 1919 года заболела и была
отправлена в больницу, мама испекла ей из остатков муки пирог и я отнес его на Выборгскую сторону, но было поздно — старушка уже скончалась.
Сестры Кононовы создали дочерям Максима Петровича новую семью. Когда их воспитанницы вышли замуж в юном возрасте за двух молодых учителей, только что окончивших Лесной институт, обе старушки вместе с ними переехали в Умань. В бывшем имении графов Потоцких — Софиевке — было устроено Училище земледелия и садоводства, где мужья Катюши и Машеньки получили места преподавателей. С ними переехала и Прасковья Андреевна. Максима Петровича уже не было в живых. Обе старушки Кононовы покоятся на том же сельском кладбище под Софиевкой, где впоследствии был похоронен и мой отец.
Глава 2.Софиевка
Глава II.
СОФИЕВКА
Софиевка носит имя красавицы-гречанки с острова Хиоса, вышедшей замуж за графа Феликса Потоцкого. Этот магнат, принадлежавший к одному из наиболее знатных родов шляхетской Польши, захотел создать для своей жены на Украине маленький Версаль. И в степной стране появился изумительный парк в 107 десятин. Он был закончен в годовщину смерти Екатерины II, положившей конец Речи Посполитой. Особенность этого парка — его расположение в холмистой местности среди скал, размытых двумя речками: Уманкой и Каменкой. В парке два пруда: Верхний и Нижний, соединенные подземным каналом со шлюзами. По каналу при свете факелов можно было проезжать на лодках. Посреди верхнего пруда — остров с живописным павильоном, окруженным стройными и мощными пирамидальными тополями. Посреди нижнего пруда бьет из скалы высокий фонтан. На берегу — Пропилеи. Вдоль берегов Каменки — ярко-зеленые луга, окаймленные рощами. В тени деревьев, под навесом скал белеют мраморные статуи греческих богов, героев и трагиков. Это — Елисейские поля. То тут, то там слышится журчание ручьев, шум каскадов, смешивающийся с шорохами листвы.
Создать «Версаль» Феликсу Потоцкому все же не удалось: он не построил дворец на горе. Место уже было намечено. Оттуда открывался вид на спускающиеся к нижнему пруду террасы. Это единственный глубокий и широкий ландшафт в парке. Благодаря скалам и холмам он весь разбит на уединенные уголки, полные очарования. С какой-нибудь скалы, а чаще всего хаотического нагромождения каменных глыб, сквозь купы деревьев, открывается уголок парка в раме листвы и камня: берег пруда или речки, мостик висячий, темный грот с за
тененной мраморной статуей. Всюду — цветы. Из-под спускающихся к пруду ветвей ив выплывают лебеди.
На вершине холма, где должен был возникнуть дворец, среди дубов виднеется двухэтажный каменный белый дом. В первом этаже этого дома я и родился.
Моя жизнь связалась с парками. После Софиевки следовал Никитский сад на Южном берегу Крыма. Оттуда, после смерти отца, мы переехали в Пулавы — имение Чарторижского, переименованное в Ново-Александрию. Там был Сельскохозяйственный Институт, в котором имел кафедру Николай Михайлович Сибирцев <...>). Оттуда мы за Фортунатовыми (семья, ставшая для меня родной) переселились в Киев, где я сблизился с семьей директора Ботанического сада С. Г. Навашина. И этот сад стал местом моего учения и игр. Из Киева Фортунатовы переехали в Москву. Они поселились в Петровском-Разумовском (имении графа Разумовского) и я постоянно бывал у них. Дом их стоял в парке. Последними парками моей жизни были Петергофский (лето 1918 г.), Павловский (лето 1921—1922 годов) и, наконец, прекрасный Царскосельский сад, с которым мне хотелось бы остаться связанным до конца моих дней.
Софиевка — моя колыбель. Ее имя звучит мне и поныне так ласково С-о-ф-и-е-в-к-а. Образ ее первой хозяйки, для которой она была создана, графини Софии Потоцкой вплелся в мою жизнь, как отзвук какой-то забытой легенды. Уже юношей я увидел ее портрет. Помню свое удивление: этот образ оказался реальностью. Он жил в моем воображении, как сказка, рассказанная мне в детстве. Я всматривался в эти прекрасные черты с каким-то суеверным чувством. Это чувство знакомо тем, для кого сон становился внезапно явью. В ее чертах греческой богини было что-то детское, что-то от Миньоны.
Was hat man dir Du armes kind gethan¹.4
Из воспоминаний Вигеля я знаю, что у Софии Потоцкой сомнительная репутация5. Но мне хочется отмахнуться от исторической реальности словами Гегеля: тем хуже для действительности.
Много лет спустя в доме Шувалова в Царском Селе6 (тогда оно называлось уже Детским) я с изумлением увидал на стене фотографическую карточку Софии Потоцкой (это в XVIII веке!), а на противоположной стене снимок ее портрета. Проживавший в шуваловском особняке профессор Б. Е. Райков рассеял мое недоумение.
Владелец этого дома граф Шувалов был потомок Потоцких. В Ницце он встретил гречанку, поразившую его сходством с прабабкой. Граф познакомился с ней. Оказалось, что она родом с того же острова Хиоса, что и София Потоцкая. Шу-
¹ «Что сделали с тобой — увы! — дитя?» (Пер. С. Шервинского.)
4 Из стихотворения И.-В. Гете «Ты знаешь край? — лимоны там цветут...» (1784), относящегося к циклу «Миньона», помещенному в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера».
5 Смакуя «стыдодеяния» графини Софии Константиновны Потоцкой (урожд. Клавоне, 1764—1822), Ф. Ф. Вигель называет ее «новой Федрой, перед которой древняя жалка», намекает на отравление ею своих мужей (отца и сына Потоцких) и уверенно заключает, что «клевета в таких случаях извинительна». (Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2. М., 1928. С. 219—221. См. также: В мире книг. 1978. № 6, С. 92—93).
6 Дом, о котором идет речь, помещался в Царском (Детском) Селе на углу ул. Средней (Коммунаров) и Дворцовой (Андрея Васенко) и принадлежал в 1910-е гр. Е. В. Шуваловой (урожд. кн. Барятинской), вдове гр. П. П. Шувалова. После революции в этом доме размещалась биостанция, возглавлявшаяся Б. Е. Райковым. Анциферовы жили там в начале 1920-х гг. до тех пор, пока не переселились в находившийся поблизости дом по ул. Революции (Малой), 14.
валову пришла идея нарядить свою новую знакомую в костюм своей прабабушки и на фотографии запечатлеть ее черты. «Passe vivant»¹ Анри де Ренье недалеко ушло от действительности7. Какой сюжет для новеллы во вкусе Проспера Мериме!
Мои родители были страстно привязаны к чудесной Софиевке. В ней протекла значительная часть их жизни. Как мало я знаю о ней! Мне только известно, что они были счастливы, и только одна тень омрачала их: у них не было детей. С появлением моим на свет рассеялась и эта тень. Однако после моего рождения они уже недолго прожили в Софиевке. Папа был переведен в Никитский сад, когда мне только что исполнилось два года.
Софиевку я узнал много позднее. Когда в 1897 году мой отец заболел, мы выехали всей семьей за границу для его лечения. Проездом останавливались у родных в Софиевке. И на возвратном пути мы снова задержались на моей родине. Здесь, в том доме, где я родился, умер папа. Когда мама со мной поселилась в Киеве, я несколько раз посетил Софиевку. Мой дядя (муж [маминой сестры] Машеньки — Дмитрий Семенович Леванда) был директором Училища земледелия и садоводства. Лучше всего запомнился первый приезд в 1900 г. Когда я приехал, была Пасха. В те годы я переживал страстное увлечение Элладой (под влиянием Гомера и греческих трагиков) и мечтал увидеть античные статуи, сохранившиеся в моих воспоминаниях. Когда я приехал, все статуи еще были в деревянных чехлах. Эти доски, покрытые местами мохом, показались мне гробами. Каково было мое огорчение! Дядя Митя в «мою честь», как он пошутил тогда, приказал освободить статуи от их зимних прикрытий. С каким восхищением смотрел я на этих «воскресших богов».
Много лет спустя, вчитываясь в терцины Пушкина, написанные им в подражание Данте, я вспоминал сад своего детства. Мне казалось, что все, от слова до слова, относилось ко мне.
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздно мыслить было мне отрада.
Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.
¹ Живое прошлое (франц.).
7 Роман французского писателя Анри де Ренье (1864—1936) «Le passe vivant» вышел в 1905, его перевод на русский М. А. Кузьмина («Живое прошлое») — в 1925.
Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый — все кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.
Да, все это было и со мною в моей Софиевке.
Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал8.
И я чувствовал какое-то жуткое обаяние этих кумиров. Была Страстная неделя. Чтобы освободиться от этого наваждения, я шел в церковь, в ту самую, где отпевали моего отца, и где я когда-то дрожащими губами коснулся его холодного лба. Там, в этом священном для меня месте, я горячо молился Христу. Но предо мной неотступно возникал смущавший меня мраморный образ Аполлона Бельведере кого, и я переставал молиться.
Вернувшись в Киев, я, как на исповеди, рассказал маме о моих искушениях. К сожалению, мама так растерялась, что ее страх поверг меня еще в большее сознание своей греховности.
Прошло много, много лет. Исполнилось 40 лет после кончины моего отца9. Я посетил свою Софиевку с женой Софией Александровной. Тот образ парка, который с детских лет жил в моей душе и казался таким прекрасным, вполне устоял перед реальностью. В течение моей жизни я повидал парки пригородных дворцов нашей столицы, побывал в Версале, Фонтенбло, в садах Боболи Флоренции и Villa d'Este под Тиволи — и все же сад моего детства остался для меня полным особого, только ему присущего очарования. За эти почти полвека он изменился мало. Только мраморные статуи, так волновавшие мой детский ум, исчезли. Они разделили участь своих прототипов на закате античного мира. Посетили мы и дом моего детства. Там помещалась канцелярия Училища.
На сельском кладбище в буйно разросшейся траве мы нашли и могилу моего отца. Обелиск из черного Лабрадора был сброшен. Но цоколь остался на своем месте. На нем сохранилась и надмогильная надпись.
Глава 3.Заря жизни
Глава III.
ЗАРЯ ЖИЗНИ
День моего рождения—30 июля старого стиля [1889 г.]. Ждали меня мои родители, как уже было отмечено, очень долго, ждали, как Авраам и Сарра своего единственного сына Исаака, долгие годы бесплодия.
Родился я 12 фунтов. Роды были так тяжелы, что врачи хотели прибегнуть в целях спасения жизни моей матери, к эмб-
риотомии, т. е. к умерщвлению плода. Но мать не допустила этого. Таким образом я оказался ей вдвойне обязан своей жизнью <...). А много позже, находясь в самых тягостных обстоятельствах, незадолго до ее смерти я ей писал: «В моей жизни не было часа, когда я не был бы в состоянии поблагодарить тебя за то, что ты меня родила».
Я был первым ребенком своих родителей, и после меня у них не было никого. Родился я в рубашке. Но в отличие от Давида Копперфильда я не знаю, какая судьба постигла ее. Во всяком случае, из-за «рубашки» никакой лотереи не устраивалось. По крайней мере это то, что я знаю достоверно. <...>10
Что могла спасти моя память из хаоса смутных чувств и первых проблесков мысли? Они еще не находили своей формы, которая помогла бы им закрепиться в душе, тогда еще совершенно расплавленной. Когда я всматривался в облик моих детей в первые дни их жизни, я испытал не только переполнявшую меня любовь, но и благоговение. Я совершенно не чувствовал своего превосходства над младенцем. Он был гость из другого мира, весь еще полный неведомым для меня бытием. Рост человека не есть только нарастание жизни, впитывание в себя нашего мира и переработка внутри всего получаемого извне. Каким смешным мне кажется утверждение Гельвеция с его плоским рационализмом, что новорожденный—это tabula rasal¹ рост — это борьба в душе нового со старым, это постепенное отмирание в душе одного и замена его другим. Я не могу на ребенка или отрока смотреть сверху вниз, с высоты своего «взрослого величия». И не потому, что дети, как у нас теперь принято их называть, «цвети будущего». Нет! Общение с детьми для меня всегда было общением двух равноценных миров. Ребенок по мере роста будет приближаться к моему миру, а я все более отдаляться от его мира, который когда-то был и моим миром (в какой-то мере). Я живо чувствую, что с годами не только обогащается, но и оскудевает душа. А то, что с возрастом отмирает, оставляет в душе едва заметные следы. Мир ребенка — очень богат, очень сложен и очень кипуч. Вспоминая себя в детские годы, я с грустью думаю о тех утратах в восприятии мира, которые теперь я и назвать не сумею. И вместе с тем я совершенно не могу согласиться с Гумилевым, что люди «меняют души». Сознание этого было бы для меня ужасным. Есть какая-то своеобразная диалектика жизни: единство во многообразии. Тождество личности сохраняется при всех переменах, совершающихся в ней, сказывается это и во внешнем облике. Когда встретишь близкого человека после долгой разлуки, в первую минуту поразит новое в лице. Старый образ, который в памяти, вступает в борьбу с новым образом, который перед глазами. Но вот еще проходят минуты, и оба образа сливаются в
¹ Чистая доска (лат.)
10 Опущено: Рассказы матери Н. П. о его младенчестве, записи отца о первых проявлениях жизни сына.
один. Потому что множественность побеждается единством лика человеческого. В этом единстве тайна индивидуальности, о которой так хорошо писал в «Воскресении» Лев Толстой.
Самое раннее воспоминание в моей жизни — это восхождение по лестнице. Я ничего не хочу в это первичное чувство подъема привносить из последующего опыта. Очень смутно помню это чувство. Но не могу не видеть в нем зерна тех переживаний, которые развились в душе в последующие годы.
Когда спросил у мамы, где же я мог подниматься по лестнице, многократно повторяя тот же путь, она мне объяснила, что в Софиевке меня водили по утрам к бабушке, которая жила во втором этаже. Эта лестница, по которой младенец поднимался нетвердыми шагами туда, где ждала его нежная ласка доброй старушки, зародила в душе особое ощущение подъема навстречу какому-то благу.
Не полет ввысь, а именно восхождение сделалось для меня синонимом нравственного блага. Символом жизни с течением лет сделалась лестница, по которой я должен подниматься ввысь:
Туда, где на горе под новыми звездами
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.
(В. Соловьев)11
В последующие годы на это первичное чувство подъема наросли более сложные переживания. Я вспоминаю то удивительное состояние, когда я с папой весной, крепко держась , за его руку, поднимался на его любимую гору над Никитским садом. Мы собирали по пути цветы — нежно-желтые primulae и ярко-оранжевые крокусы. На той горе папа поставил мачту. И я потом узнавал это чувство особого подъема души, полной ожидания чего-то необычайного, когда поднимался на вершины гор в Альпах, в Норвегии, в Италии. Это переживание подъема окрасилось у меня особой мелодией, которую я, как человек немузыкальный, воспроизвести не берусь.
Но никогда это чувство восхождения не было пережито мною так полнозвучно, в такой осознанной связи с этим младенческим подъемом по лестнице, как в тот вечер ранней весны, когда я поднимался по лестнице на гору Зелисберг. Это было в середине марта 1914 года. Оправившись после воспаления в легких, я съездил через Фирвальдштетское озеро в Бруннен за покупками для путешествия в Италию. Я возвращался мимо долины Рютли, где собрал букет primulae. И эти цветы (первоцвет) перенесли меня в детские годы. С этими цветами я медленно поднимался со ступени на ступень по отвесной скале. А там наверху в синем пальто и в шляпе с широкими полями, повязанной голубой шалью, стояла, опираясь на высокую альпийскую палку, моя жена, моя Таня. И, как прибой в час прилива, нарастала во мне огненная волна счастья, и весь мир залит
11 Заключительные строки стихотворения В. С. Соловьева «В тумане утреннем неверными шагами...» (1885).
потоками света, струившимися из неведомой выси. Мы верили тогда, что вся жизнь может стать восхождением.
Мы цепи бесконечной
Единое звено
И восходить в сияньи правды вечной
Нам врозь не суждено12.
Возвращаясь к самому раннему воспоминанию своей жизни теперь, когда уже прошло полвека, я не могу не связать его с этими образами моих последующих восхождений, оставивших такой светлый след в душе. Им я обязан многому значительному своей жизни, что поддерживало меня в минуты слабости и звало меня идти к подъему.
Потом я помню себя на палубе парохода. Кругом синяя безбрежная гладь. Рядом сидел мальчик. Меня поразили его ботинки с ушками и «тряпочками». Это были штиблеты, которые я впоследствии всегда носил, и очень, грущу, что они совершенно исчезли. Почему такая неинтересная, случайная деталь врезалась в память на всю жизнь? Как многозначительно звучат фразы: «Я вас никогда не забуду!», «Незабвенные воспоминания», «Век будешь помнить»! А ведь память-то сохраняет так много ничтожного, недостойного жить в ней! Ее отбор мне всегда казался загадочным.
Итак, Софиевка ушла в прошлое. Я детским инстинктом ощущал, что и отец мой, и моя мать чувствуют себя здесь, в Крыму, — на чужбине, что они грустят о милой Софиевке.
Одним из самых ранних впечатлений от Крыма осталась в памяти прогулка с мамой на берег моря. Его поверхность была такой тихой, приветливой. Я собирал гладкие камешки. Внезапно мама поднялась. Я заметил в ней тревогу, которая тотчас передалась и мне. Над горизонтом показалось темное облако, которое быстро росло. Поднялся ветер, море забурлило. Мама тащила меня за руку через виноградники домой. Когда мы подошли к Никитскому саду, уже все небо клубилось в хаосе туч. Море, оставшееся где-то позади, глухо ревело; рокот все нарастал; казалось, море готовилось броситься за нами. Мама, уже спотыкаясь, не выпуская моей руки, быстро шла [в] гору. Ветер трепал широкие листья пальм и пытался согнуть стройные стволы кипарисов. И парк казался полным какими-то злыми силами, также готовыми вот-вот броситься на нас. Вдруг я заметил, что за нами гонится страшный мужик с длинной черной бородой, которую треплет ветер. «Мама, мама!» — закричал я, ища защиты. Мама оглянулась. На лице ее отразился ужас, она схватила меня, подняла, прижала к себе. Но бежать у нее не было сил. Вдруг я почувствовал, что произошло что-то хорошее. Мама радостно вскрикнула: «Да ведь это же наш Кузьма!» Мужик с черной бородой тем временем догнал нас и взял меня на руки. Теперь я приник к нему, как к верной защите. Этот
12 Речь идет о свадебном путешествии по Швейцарии и Италии с Т. Н. Анциферовой весной—летом 1914. Стихотворные строки—искаженная цитата из стихотворения А. К. Толстого «О, не спеши туда, где жизнь светлей и чище...» (1858). Стихи 13—16 в оригинале: «Слиясь в одну любовь, мы цепи бесконечной // Единое звено, // И выше восходить в сиянье правды вечной // // Нам врозь не суждено».
быстрый переход от ужаса к спокойствию, к чувству безопасности, был столь резок, что я до сих пор могу воспроизвести в душе то чувство, которое тогда, на заре моей жизни, наполнило мою душу. Путь лежал через парк. Мама шла теперь успокоенная, она уже не торопилась, а Кузьма — наш дворник, ставший для меня впоследствии чем-то вроде Савельича, — нес меня на руках. И темный парк, по аллеям которого неслись сорванные бурей листья, меня уже больше не страшил.
Прошло около 25 лет. По тому же саду шел я рядом со своей Таней. В аллеях парка сгущались сумерки, накрапывал дождь. И листья вздрагивали от ударов его крупных капель. Рядом с нами шел мой верный Кузьма. Он был все тот же — полный заботы и ласки. Только ростом казался поменьше, а его черная борода местами серебрилась. На своих руках он нес нашу дочь Таточку. Дождь усилился. Мы ускорили шаги. Да, вот он шел так же, как и тогда, неся на своих сильных руках ребенка, по тому же саду. Тогда этим ребенком был я, теперь моя дочь, моя новая жизнь. Сомкнулась таинственная цепь бытия. Это было 30 мая 1917 года.
Никитский сад был ядром моей жизни. Все, что пришло потом, наслаивалось на это ядро, было его разрастанием. Я ходил по саду, исходя из нашего дома, как из центра. И каждый новый шаг — по всем радиусам, уходившим из нашего дома в бесконечность, — был нарастанием пространства. Вот наш дом с двумя башнями и наш садик, а за ними — мир, пугающий и манящий. И я робко и жадно вступал в него. Я проходил кипарисовую аллею, примыкавшую к дому. Это был узкий темный коридор, а за ним сторожка, где жил мой друг Саня. Дальше — большая дорога. Это новый порог, но большая дорога мне непонятна, куда и зачем она?
А в другую сторону, за канцелярией, — тенистая дорожка, где я встречал черных бабочек, которые как-то неожиданно отделялись от бурых стволов и, садясь обратно, становились невидимыми. Эта дорожка понятна: она ведет к «министерской даче»; Там появятся вскоре девочки, и одна из них поразит мое воображение. Но это где-то так далеко, где-то там. А вот тут, возле этой дорожки, — птичий двор с его строениями и бассейном, где плавали перья и пух. Я этот двор хорошо запомнил, ведь «гадкий утенок» здесь вырос в лебедя. А если не здесь, то где же еще могло это произойти? Эти две дорожки стелились по ровному месту. А вот эта, за тысячелетним деревом, спускалась ступеньками мимо земляничных деревьев, вниз, где было всегда темно и тенисто, но где всегда так весело улыбались мне пятна солнца...
Там дальше — длинный-предлинный коридор (теперь я сказал бы «трельяж»). За ним площадка с пинией и снова спуск, и так дальше, пока не начнутся виноградники, а за ними — море. Оно было очень далеко. А между тем из нашего садика, что
перед домом (где был пруд с фонтаном и лебедями), море казалось столь близким, что в его волны можно бросить мячик.
Был и путь вверх — в горы — мимо церкви. Там была «мачта» — гора, окруженная пропастями, за ней скалистый Поликастр, а надо всем — Яйла, откуда весной приносили таинственные цветы — ландыши. Я никогда не видел, как они растут.
Так во все стороны расширялся мир, нарастало пространство, как нарастает и время. Душа ребенка, как крот, расчищала, прокладывала себе все новые ходы. Это трудно. И эти пути мне казались такими длинными, а через 10—12 лет—они же показались столь сокращенными. Почему же через 30—40 лет они покажутся опять длиннее?
Создававшееся, разраставшееся пространство было полно форм, красок, звуков — полно вещей. Тогда я получил те прообразы, из которых сложился мой мир.
Гора — это, конечно, Ай-Петри. Но воспринималась она как голубой силуэт, словно вырезанный из синеватой бумаги. Как неизменное, затихшее облако. Плавная, слегка волнующаяся линия Яйлы заканчивалась башенными зубцами Ай-Петри; потом — спуск к морю, вычерчивавший треугольник и под острым углом сливавшийся с линией горизонта там, где над морем вырастал мыс Ай-Тодор.
И мне было трудно объединить в одном понятии эту гору, далекую и торжественную, с той «мачтой», на которую я восходил со своим отцом и которую мог попирать своими детскими ногами. И вот все последующие горы: Ромсдальсхорн*, Тролльтиндерне*, Уриротшток**, слагаясь в душе, проходили через прообраз горы, которым была — Ай-Петри.
Дерево... Нет, одного дерева не было. Было несколько деревьев-прробразов. Среди них выделялось два. Павловния — против окна моей детской с большими листьями и крупными лиловыми цветами, поднимавшимися вверх, как цветы каштана. А летом и осенью цветы высыхали и шелестели плоды — сухие, как детские погремушки. Это дерево стояло одиноко, окруженное с трех сторон стенами каменного дома. Я видел его, когда, встав ото сна, подбегал к окну своей детской и смотрел, что делается на божьем свете. И как бывало здесь радостно зимой, когда дерево стояло на белом ковре, который был украшен красными цветами — стайкой снегирей. Таким запомнился мне этот уголок сада. Тогда в комнате бывало холодновато, и так приятно было ожидать зова к чаю, чтобы забежать перед тем в большой зал и погреться у камина, то садясь у огня, то прячась за экран.
Это дерево я встретил в Риме и не вспомнил тогда свою детскую павловнию, не узнал ее. Но меня так волновало это
дерево присутствием в душе какого-то дорогого воспоминания, которое тогда в Риме не могло осветить память. В особенности взволновал тогда его нежно-лиловый цветок, похожий на паникадило. И только в Никитском саду, когда в 1917 году в мае выглянул из окна своей детской, я осмыслил значение этого непонятного волнения, испытанного в Риме.
Другое родовое дерево — пиния, которую почему-то я называл кедром. Оно росло на террасе, на склоне горы, у каменистой ограды, покрытой пышными кистями глициний. Пиния была вехой на пути от моря домой, вехой, которую я искал глазами среди зелени сада еще издалека: там, под пинией, можно было посидеть и отдохнуть. Отсюда начинались «свои места». Под пинией, среди упавших игл, так крепко пахнувших в сухие дни, можно было найти темно-бурые орешки, покрытые тонкой пыльцой, такой тонкой, как пыльца крыльев бабочек. От прикосновения к ним пальцы бурели.
С пиниями я встретился также в Риме, на Палатине, и их шум прозвучал мне, как голос из самой глубины жизни.
Павловния и пиния были прообразами дерева. А кругом них шумели, шелестели, сверкали своей листвой, переливами светом и тенью магнолии, земляничные деревья, каштаны, маслины и ряды кипарисов.
Но помню я, как кто-то (не папа ли?) рассказал мне о застенчивой, сочно-белой березке севера, и я уже тогда полюбил ее и мечтал увидеть.
Лучше всего я постигал индивидуальность деревьев через их цветы и плоды: колючие каштаны, за зеленой скорлупой которых скрывались красно-бурые шарики, с такой блестящей кожей, когда освободишь их от зеленых доспехов; красные шершавые шарики земляничных деревьев, действительно похожие на ягоды земляники, и шары платанов (чинар), мягкие внутри, были моими любимыми игрушками. Особенно нравилась японская вишня: в изящном оранжевом мешочке — алая, совершенно круглая ягода.
А цветы с их благоуханием, в котором так же раскрывается и излучается их бытие, как у птиц в пении! Пряные запахи олеандра, глицинии, наряду с нежными запахами фиалок, подснежников и ландышей вплелись незаметно в мой детский мир, и струйки их аромата всегда вносили на мгновение в годы моей зрелости нечто от детства, занесенного песком времени.
Цветы научили меня любить и познавать цвета. Розово-красная камелия с ее блестящими, темно-зелеными листьями, бархатные (как приятно было касаться пальцами!) анютины глазки с их нежным, едва уловимым запахом, синие и белые гиацинты, которые уже тогда связались с пасхальным столом! Все эти цвета цветов как-то отлагались в душе, и, когда для меня с наступлением возмужалости расцвел мир искусства, я узнавал в картинах Тициана, Ватто, Веронезе, Веласкеса, Пальма Веккьо,
а еще позднее — Рублева и новгородских мастеров — те цвета, которые были познаны мною в детстве через цветы.
Большое место в те годы занимали в моей жизни бабочки. Хрупкость их окраски, столь же легко исчезающей, как радуга в облаках, быть может, еще сильнее, чем цветы, заставляла меня чувствовать красочность мира. Бабочки, появляющиеся на цветистых лужайках, скользившие легкими тенями среди деревьев <...> казались мне существами какого-то особого высшего порядка. И я, страстный коллекционер, случалось, отпускал пойманную пленницу, почувствовав в ней индивидуальное бытие.
Мне хочется еще среди прообразов вспомнить и отметить здесь камни, вес и форму которых я ощущал в своей руке. Камни острые — осколки скал, что попадались мне на дороге к «мачте», или гладкие, которые приятно было гладить рукой — их я находил у моря и тащил к себе в башню, в «музей». Но в особенности я ощущал камень, когда мог забраться на него и сидеть на нем в тени смоковницы, где-нибудь у ручья или фонтана, которых было много в Никитском саду. В особенности было хорошо, когда камень был покрыт плющом.
А вода, которая тихо сочилась среди камней, падала капля за каплей и тонкой ниточкой струилась вдоль тропинки, или же взлетала вверх и рассыпалась брызгами в водоеме, где плавали золотые рыбки и розовые лилии, или же мутнела в бассейне на птичьем дворе, и там уже не лилии плавали на ее поверхности, а перья и пух, или же, наконец, таинственно гудела под землей, прикрытая люком, который мне запрещалось трогать; вода, которая неудержимо стремилась вниз, туда, где было море.
Море соединяло все. Оно так же, как небо, будило голоса вечности и бесконечности, музыку, прозвучавшую тогда в младенческой душе и уже никогда не смолкавшую. Как я помню это раздумие без слов, когда я всматривался в ночное небо, которое казалось мне полным движения от мерцания бесчисленных звезд, или же когда взор мой тонул в морских далях. Я посещал эти места каждые десять лет, в годовщину смерти моего отца. Когда я бродил по саду, все, что встречало меня в нем, казалось, говорило: «А помнишь?» О, да! Эти места — ковчег моего былого, полный драгоценностей. И мне хотелось просить у всех этих встречавших меня друзей детства — деревьев, камней, водоемов: «Верните мне хоть крупицу моего младенчества, вы же сумели все сберечь для нашей встречи!»
Море временами отступало, и приоткрывался берег зари моей жизни. И нигде, никогда я не был так близок к нему, как здесь. (Да еще, конечно, и это я знаю твердо: детство воскресало во мне в общении с моими детьми, но это чудесная тайна другого порядка. Я должен упоминать о ней здесь с чувством живейшей благодарности моим детям и их детству.)
Глава 4. Об отце и матери
Глава IV.
ОБ ОТЦЕ И МАТЕРИ
Писать об отце и матери очень трудно. Много легче писать о себе — тут чувствуешь себя гораздо свободнее: ответственен только перед самим собой. Не так трудно писать о посторонних, даже о друзьях. Их видишь со стороны. Легче писать и о своих детях. В этом случае ответственность за каждое слово ощущается менее в сравнении с ответственностью за всю их жизнь.
Чувство к матери непосредственнее, чем чувство к отцу. После рождения связь через какую-то пуповину ощущается гораздо прочнее. Еще в течение всего детства вплоть до ранней юности мать — не вполне инобытие. С наступлением зрелости как бы вновь начинаются роды, когда молодая жизнь уже совершенно отделяется от старой, когда рвется пуповина, и, вероятно, для матери эти вторые роды также очень мучительны, но уже в ином смысле. И мука от этого отрыва долго живет в сердце матери, в отличие от родовых болей, которые быстро забываются.
Когда я стараюсь восстановить свою детскую жизнь — я не мыслю себя отдельно от матери. Я не ведал, где кончается моя жизнь и начинается ее. Несмотря на то, что моя мать в те годы была гордой и властной женщиной, я — ребенок, еще ничего не умевший расценивать в своем сознании и живший тем, что слагалось в душе, ничего еще не научившийся в ней создавать сам, — ощущал свою огромную власть над матерью и ничем не ограниченные права. Я не мог уснуть без нее. Она должна была сидеть рядом, нагнувшись надо мною. А я держал ее ухо, и это создавало чувство уюта, покоя, тишины. Как-то раз я проснулся и потребовал маму. В руке моей оказалось ухо. Я сразу почувствовал, что это чужое ухо, подделка, обман. Я ощутил не только горечь от отсутствия мамы, но и обиду из-за обмана. Я долго, горько плакал. К счастью, мама скоро вернулась и утешила меня.
Я совершенно не выносил, когда мама, хорошая музыкантша, играла. Это был новый источник моих страданий. В зале стоял прекрасный рояль, выписанный чуть ли не из Петербурга. Музыкант Феликс Блюменфельд, когда бывал у нас, любил играть на мамином инструменте. Он говорил, что ему хочется не ударять по этим клавишам, а ласкать их. Когда собирались гости, они обычно просили маму поиграть. Особенно хорошо играла она прелюдии Шопена. Я сидел в своей детской, запершись: не любил, когда бывал у нас съезд гостей. Моя бонна, немка из Риги, читала мне сказки Гримма, Гауфа или Андерсена. В те вечера, когда бывал съезд гостей, я не чувствовал себя дома, а ощущал себя каким-то изгоем. При первых звуках рояля мной овладевала безграничная тоска, кончавшаяся обыкновенно безудержными рыданиями. Я понимал, что и мама там с гостя-
ми не могла чувствовать себя хорошо, что она знала, как я страдаю. Я ждал, что скоро услышу ее шаги, она придет меня утешить и скажет мне, посадив меня на колени: «Ну что, мой глупенький, ну что?» И все тогда будет прощено. Но если мама забудет обо мне? Я помню, как-то долго тщетно ждал ее. Она не приходила, и я тогда, вслушиваясь в мучившие меня звуки, в сознании, что я решился на что-то невозможное, покинул свою детскую, пробежал коридором в столовую, оттуда в зал. Он был ярко освещен. Меня ослепил этот свет. Мама, ничего не замечая, играла. Гости сидели на диване, на креслах, даже на пуфах. Несколько человек стояло у рояля. Я остановился у дверей в оцепенении, не зная, что же дальше. Музыка надрывала мне душу. Я не выдержал и бросился к маме. Игра прервалась. Мама как-то сконфуженно, растерянно поглядела на меня и строго сказала бонне: «Уведите его, зачем вы его пустили?» Меня увели. В детской я забился в угол. Я уже не плакал, а только время от времени вздрагивал. Неужели мама не придет? Она пришла.
— Ты так, Котышек, больше никогда не делай, ты меня так осрамил перед всеми гостями.
— А ты, мамочка, обо мне совсем забыла!
Так долго длиться не могло: мы опять помирились.
Я до сих пор не могу дать себе отчет, что делалось со мною, когда мама играла. Действовала ли так на меня музыка, или я ревновал ее к гостям, которые так восхищались ее игрой. Вероятно, то и другое. Но я очень страдал.
Еще менее понятны мои страдания, когда мама изредка ходила в баню. Ванна у нас была и при квартире, но мама любила в те годы париться. Она была вынуждена это делать тайно от меня.
Еще страннее были мои протесты, против того, чтобы она фотографировалась. Я помню, как фотограф усадил ее на веранде. А меня, ввиду моих Протестов, увели в дом. Я стоял перед дверьми на веранду, стараясь подняться на цыпочки, чтобы убедиться в том, что мне сказали правду (меня уверяли, что снимать будут мою бонну). Я очень помню это мучившее меня чувство недоверия к словам старших и вместе с тем боязнь, что я обманут и маму все же снимают. Я тогда был еще очень мал. Меня даже одевали еще в длинные платья. И все же я помню все детали этого события: так тяжело я переживал его.
Когда позднее я изучал первобытную культуру, то узнал, что обладание изображением давало власть над изображенным. Так веровали народы в своем детстве. Так чувствовал и я. И стоя на страже, стараясь оградить свою мать от всякого зла, я всячески противился тому, чтобы ее бытие множилось в фотографических карточках.
В основе всех этих детских страданий лежала, конечно, рев-
ность. Но я, отдавая себе отчет в каждом своем душевном движении, всеми силами протестую против кощунственной теории Фрейда, против его комплекса Эдипа. Корни ревности лежат где-то еще глубже в недрах человеческого существа.
Я чувствовал на себе постоянную заботу моей мамы. Но эта забота больше осуществлялась через других. Она мало гуляла со мной. А в те годы мало читала и мало рассказывала. Со мной больше занимался папа, а кроме него — бонна и, в особенности, — дворник Кузьма со своей черной бородой, встрепанными густыми бровями и добрыми, ясными, как у бога Пана (на картине Врубеля), голубыми глазами.
Мама правила всем домом. Сдержанная, молчаливая, она была движущей силой, определявшей наш быт. Мама имела властный характер и была горда. «Настоящая была барыня наша директорша, а эти что!» — говорили мне, когда я [впоследствии] посещал Никитский сад. К гордости нужно присоединить и независимость. Маме приходилось, в силу ее положения, иметь дело с разными «высокопоставленными», посещавшими наш дом, включая сюда и министерские семьи. Мама признавала эти отношения лишь в плане равенства. Вот почему она сошлась с Ермоловыми и Нарышкиными и осталась очень холодной с семьей Витте. Моя мать всегда была совершенно чужда всякой политики и церковности. Все же она была религиозна, что-то в ней было протестантское.
Мама жила целиком мужем и единственным сыном. Она была болезненна и постоянно жаловалась на свои немощи. Из-за всякого пустяка чрезвычайно волновалась об отце и обо мне. Если не было ничего волнующего, она создавала себе иллюзии для волнений. И все же мама прожила долгую жизнь. Умерла она 80 лет. В ней была большая жизненная сила и — несмотря на все ее жалобы — глубокая любовь к жизни. Ей были свойственны и юмор, и большая живость. При серьезных жизненных несчастьях она проявляла твердость. Умерла моя мама в одиночестве, сосредоточив свою любовь на своем внуке. Умирая, она звала меня, мою умершую жену Таню и моего отца. Не дожила она до встречи со мною после долгой разлуки всего лишь трех месяцев.
Чувство мое к отцу в корне отличается от чувства к матери. Если в ранние годы я не ощущал, где кончается мое существо и где начинается ее, то бытие моего отца всегда воспринималось мною как инобытие. Поэтому моя любовь к нему была совершенно иной. Я его ощущал как существо, выше меня стоящее, существо светлое, благое, существо всезнающее, даже всемогущее. Его власть, казалось, простирается над всем ведомым мне миром. Над матерью я ощущал свою власть, сознавая какие-то особые свои права над нею. Отца же я почитал как высшее существо, полный благоговения к нему и самой нежной любви. Но моя любовь была совершенно свободна от страха.
Я живо помню облик отца — всегда ясный, тихий, иногда печальный. Никогда я не видел его не только сердитым, но даже хмурым или раздраженным, никогда не слышал повышенного голоса. Всюду, где он появлялся, его встречали приветливые лица, стихали споры, усмирялось раздраженное возбуждение. При мне не было ни одной ссоры между отцом и матерью. Я утверждаю это с полной уверенностью. Малейшая раздраженная интонация навсегда болезненно врезалась бы в мою память. Я живо вспоминаю одно разногласие между моими родителями. К нам приехал погостить мамин брат, дядя Вася. Он забавлял меня, подражая криками слону. Изображая зверинец, он от лица сторожа употребил какое-то малоцензурное слово, которое я сейчас же подхватил. Мама меня остановила. Я снова повторил. На меня накатил дух своеволия. Тогда мама встала, молча взяла меня за руку и увела в спальню. Там она закрыла ставни (был еще день) и, оставив меня в полутьме, ушла. Меня очень редко наказывали и, конечно, эта кара потрясла меня. Я чувствовал себя в отчаянии от обиды и одиночества. Вдруг раскрылась дверь: вошел папа — он подошел ко мне и, не говоря ни слова, сел рядом на подоконнике. Я прижался к нему, и мы сидели так, пока мама не позвала меня.
Папин поступок был то, что называется непедагогичным. Но я-то знаю, что никакого подрыва авторитета мамы не произошло, но к отцу у меня усилилось какое-то особое чувство доверчивости.
Утром я рвался к нему в кабинет, [который] находился на противоположном конце дома. Надо было пройти коридор, столовую и еще коридор. Я не стучал в дверь. Я всегда мог войти к отцу. Если кроме него в кабинете никого не было, я подбегал к нему. Отец целовал меня. Иногда удерживал, поднимал мои волосы, спускавшиеся на лоб (я носил тогда челку), и пристально смотрел на меня <...). Если никого в кабинете не было, у нас завязывалась беседа. Папа расспрашивал меня о моих планах, а я осыпал его вопросами, твердо веря в его всеведение. Если папа был занят спешной работой, или к нему приходили посетители, я убегал в другой угол кабинета. Оттуда я наблюдал мир, в котором жил отец.
К папе приходили учителя, ученики нашего училища13, татары из деревни Никиты, рабочие Никитского сада, случайные просители. Помню, как один «прилично одетый» приходил просить на билет на пароход в Сухум и Батум. Папа выслушивал всех: соглашался, возражал, отказывал, давал советы, давал деньги. Всегда внимательный и спокойный. Таким же он был во время обходов Никитского сада, оранжерей, питомников. К нему очень охотно подходили, и папа, всегда такой же внимательный и спокойный, давал советы и приказания. Конечно, в моем детском сознании он не мог не казаться повелителем этого мира, а для меня этот мир тогда был вселенной. За ним ничто реально не существо
13 В Никитском саду помещалось Училище садоводства и виноделия, директором которого по совместительству в 1891—97 был П. Г. Анциферов.
вало для меня. Мне говорили, что папа был веселый, любил шутить. Но я его таким не запомнил.
Я хорошо представляю его внешность, независимо от фотографических карточек. Я помню то, чего нет на этих его изображениях. Роста он был среднего, коренастый, держался прямо. Его высокий и выпуклый лоб был очень светел и чист. Щеки с нежным румянцем, а глаза — синие, ясные, именно лучистые. Он носил широкую окладистую бороду каштанового цвета, слегка вившуюся на щеках. Когда-то он имел густые волосы, отброшенные со лба назад. Но я его уже помню с лысинкой и пробором.
Наружность отца, на мой детский вкус, казалась недостаточно мужественной. Зачем он носил бороду — как «мужики» (в этом вопросе я тогда изменял своему демократизму)! Признаком мужественности были усы, пожалуй, бакенбарды, но не борода. Он совсем не походил на мой идеал — Корнилова, Нахимова, Истомина — героев Севастопольской обороны. К тому же он не курил. Это тоже было недостатком мужественности. Но мне кто-то сказал, что курить грех. Кто мне открыл эту истину, я уже не помню. Я бросился сейчас же к отцу. «Папа, папа, правда, что курить — грех?» — «Грех не грех, но лучше не курить, и мне очень бы хотелось, чтобы и ты, когда вырастешь, не курил бы». Эти слова запечатлелись во мне на всю жизнь. Впрочем, я вскоре решил, что папа был не совсем прав, все же курить — грех. К этой теме я еще вернусь.
Итак, хотя мой детский героический идеал не вполне совпадал с представлением об отце, все же для меня не существовало в действительности никого лучше, чем был он.
Утро. Потоки света льются со стороны восхода в отцовский кабинет. В солнечном столпе танцует множество пылинок. Среди них попадаются некоторые покрупнее, я пытаюсь поймать их, но они не даются и в потоке воздуха ускользают из моих ручонок. Мне от их ловкости не досадно, а только весело — ишь ты, какие они увертливые!
От этого потока света неосвещенные, затененные углы кабинета казались такими таинственными! Я помню на стенах оленьи рога, а под ними — два небольших шкафа. В одном — книги. Книг было очень много, помимо шкафа. Они размещались и на полках: рядами, поднимаясь все выше до самого потолка. Особенно привлекали меня тогда ряды энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, сверкавшие золотыми корешками своих переплетов. (Помню еще две книги. В одной были скандинавские легенды. Мне ужасно нравился переплет с изображением викингов. Но лучше всех книг, конечно, был «Атлас бабочек». Как я любил доставать отдельные его выпуски и на крашеных таблицах распознавать своих любимцев: павлинье око, махаона и таинственного «олеандрового бражника».
На полках второго шкафа были размещены морские диковинки: ежи, звезды, внушавшее ужас яйцо акулы и такие милые,
веселые морские коньки. Особенно много было раковин, отливавших перламутром. Одна из раковин, красного цвета, когда ее приложишь к уху, глухо шумела, словно передавая отдаленный грохот волн. И я любил слушать этот гул и смотреть на свои танцующие пылинки. Иногда мне хотелось разбить [раковину], чтобы понять, что в ней шумело, но мне было жаль ее прекрасной оболочки, и я не дерзал проникнуть в [ее] тайну.
Когда мне надоедало все это, я взбирался на подоконник и смотрел в сад. Здесь все было папино. Между кипарисовой аллеей и изгородью, за которой виднелась дорога в Ялту, расположена была пасека. Это был пчелиный городок, с особыми домами и улицами. Из окна было видно, как пчелки то и дело вылетали из круглого отверстия улья, или возвращались в него. Если было лето и окно кабинета не было закрыто, мне слышно было их веселое жужжание. Царство пчел имело огромную притягательную силу, но вместе с тем и навевало страх. Это был особый, хорошо защищенный и недоступный мир. И я был не раз наказан внезапной пронзительной болью и долгой опухолью, если неосторожно хотел в него проникнуть. Иногда над пасекой слышался неприятный птичий крик. Он означал появление стайки золотистых щурок — злейших врагов пчел. При известии об этом налете папа хватал ружье и выбегал защищать свое пчелиное царство. Я помню, как рассматривал убитую красавицу, отливавшую золотом и лазурью… И мне не было жаль ее. Необходимость защиты пчел не подвергалась никакому сомнению. Совершенно особая тревога проносилась над пчелиным городком, когда из улья вылетал во главе с новой царицей пчелиный рой и комком, похожим на птичье гнездо, прикреплялся к дереву, а папа с учениками, в сетках, ловил этот рой.
Но обычно по утрам, когда я выглядывал из окна отцовского кабинета, пасека выглядела совершенно мирно и пчелки, порхавшие вокруг своих ульев, были так же милы, как мои танцующие пылинки.
Никитский сад, наш садик перед домом, как и сам дом со всеми его комнатами, были папины. Но все это было вместе с тем и нашим, принадлежавшим всем нам. Но вот кабинет с его оленьими рогами, раковинами, книгами, со столпом солнечных лучей, и, наконец, пасека — все это было уже непосредственно папино, это было его безраздельное царство. А ведь вещи для ребенка так же интересны и значительны, как люди. Больше того, вещи, принадлежавшие отцу, были несомненно частицами его самого; любя их, я любил его, своего папу.
Эти утра в отцовском кабинете остались в душе полными музыки. Лейтмотивом ее был столп солнечного света с танцующими пылинками.
Когда много лет спустя я рассказал маме об этих своих утренних посещениях, она рассердилась на меня: «Что ты вечно выдумываешь, какой там столп пыли. У нас была такая чистота,
что никаких пылинок ты ловить не мог». Действительно, мама всегда следила за чистотой, эту страсть передала она и своей внучке, моей Танюше. Но я утверждаю категорически, что эти рои пылинок все же танцевали в потоках солнечного света в кабинете моего отца. Мне и сейчас этот столп пыли, такой золотистый с этими танцующими пылинками, вспоминается как образ моего детского счастья, уюта, чаяния радостей, которые несет с собою наступающий день.
Вечера у меня также связаны с отцом. Столовая. Самовар, всегда такой блестящий, смолк уже давно. Угольки в нем истлели и лежат холодным пеплом. Мама моет посуду. Все чашки, блюдечки, ложечки — все столпилось около нее. Я уже с тревогой посматриваю на часы. Стрелка приближается к девяти. Скоро поднимется моя бонна и скажет о Sandmannchen'e¹, который бросит мне в глаза песок. А мама поддержит ее: «И сплюшки уже давно прокричали». Это маленькие совки, которые по вечерам меланхолически кричат: «сплю! сплю!» Но, о радость, папа подзывает меня к себе. Он достает из кармана осьмушку бумаги и карандаш. Я взбираюсь на одно его колено. Он, обхватив меня левой рукой, ухитряется ею же придерживать листик бумаги. Я слежу за каждым движением его правой руки, из-под которой на бумаге появляются: белка, лошадь, лисичка, нарисованные тонкими штрихами. Я много рисовал своим детям. Как запомнятся им эти минуты?
Я не помню, чтобы папа при этом рассказывал, как это делал я. Но не думается мне, чтобы я мог своим детям внушать когда-нибудь то чувство почитания, соединенного с благодарностью, какое внушал мне отец. На камине тикают большие часы. Это были часы карманного типа. Они лежали в коробке с открытой крышкой на подставке из синего бархата. Эти часы и в эту минуту, когда я пишу об отце, также тикают мне через 45 лет.
Мой час настал. Я делаю усилие, чтобы скрыть зевок, но, увы, начинают слипаться глаза. Я не помню, чтобы старался пальцами поддерживать веки, как это делал маленький Давид Копперфильд. «Ну, — говорит мама ласково, — Sandmannchen уже бросил тебе в глаза щепотку песка. Теперь пора». Я смотрю вопросительно на отца. Он делает едва заметное движение глазами. Но мне понятен этот молчаливый ответ. Я должен следовать призыву мамы. Я соскакиваю на пол, целую поочередно всех, начиная с папы, и нехотя бреду в спальню. Но уже в коридоре я чувствую, как приятно будет сейчас перелезть через сетку кровати и положить сонную голову на свою «думку». Только перед этим нужно перенести неприятное прикосновение холодной воды. Когда я уже натягиваю на себя одеяльце, то знаю, что откроется дверь, войдет мама, перекрестит меня, сядет рядом и будет сидеть так в тишине, пока я не усну. А мне будет казаться, что она так будет всю ночь охранять мой сон.
¹ Песочный человечек (нем.).
Особенно дорожил я прогулками с отцом по парку. Папа тонко чувствовал природу и прекрасно знал ее жизнь. Эти прогулки были первыми моими экскурсиями. Отец учил меня распознавать деревья и травы по их цветам, листьям, коре и корням, птиц — по их крикам и пенью, по их полету и оперению. Мы подбирали упавшее перо, скорлупку, выпавшую из гнезда, останавливались перед ящерицей, спрятавшейся на каменной стене за веткой лиловой глицинии, перед стеблем, по которому ползло похожее на стебель насекомое, делая странные движения передними ножками (это была богомолка).
И я, восхищенный всей этой движущейся вокруг меня жизнью, столь пленительной в своем бесконечном многообразии, рано начал подбирать или ловить все, что интересовало меня и было доступно власти моих неловких и робких движений, и тащить к нам в башню, над которой вертелся флюгер. Там был устроен мой первый музей (в комнаты тащить весь этот «сор» мне запрещала мама). Я не настаивал. Ничего лучшего этой башни и представить себе было невозможно. Это было мое неограниченное царство, где я был полным владыкой.
Ходил я с отцом и к морю, купаться, через виноградники, казавшиеся мне бесконечными. Берег был каменистый. Из воды тут и там поднимались каменные глыбы. Папа плавал хорошо, но он никогда далеко не уплывал, чтобы не оставлять меня одного. У берега росли огурцы, маленькие и шершавые. Если к такому притронуться — он выстрелит. Как забавляли меня эти огурцы — лучших игрушек и в Ялте не купишь. В зеленоватой воде плавали прозрачные медузы. В волнах они нравились мне, но какими противными студнями лежали они на берегу, выброшенные прибоем! В камнях было много крабов, которых я с увлечением ловил руками, не боясь их клешней. Меня так забавлял их бег боком. Плавать я тогда не умел. Величайшим моим удовольствием было перебираться по воде от одного камня, торчавшего из нее, к другому. А потом взобраться на него и смотреть в безбрежную даль. Но почему-то эта даль пугала меня. В ее бесконечности было что-то грозное. И я предпочитал уноситься в эту даль, когда после купания мы сидели с папой рядом и следили за белым парусом или за стайкой дельфинов, или за дымком парохода. И у папы было такое спокойное, умиротворенное лицо. Я знаю, что ему было хорошо со мной. А мне от этого лица папы бесконечность уже не казалась грозной.
Но лучше всего были прогулки в горы, точнее на гору-мачту. Бесконечной кипарисовой аллеей поднимались мы из парка к дороге, которая спиралью вела к Яйле. Почему-то с этими прогулками у меня больше всего связалась весна: раннее утро, когда мы с папой по дороге собирали крокусы — ярко-оранжевые цветы, торчавшие прямо из земли. Мы поднимались на гору, окруженную пропастями. Над ней высились скалы Поликастра, а там где-то далеко-далеко протянулся хребет Яйлы. Внизу ярким пятном зеле-
нел Никитский сад, а среди деревьев виднелись две белые точки — башенки нашего дома. Море отсюда было еще необъятнее, а мир в своем величии казался здесь еще более грозным. Но со мной был мой папа. Я держал его руку, и набегавший на меня страх таял, как легкое облако в ясном, лазурном небе.
Папа рисовался мне всегда защитой и охраной. Мысль о нем отгоняла всякий страх. А страх — такое же чувство, сопутствующее детству, как грусть сопровождает юность, а скорбь — старость.
Я просыпаюсь ночью от непривычных и непонятных звуков.
Колеблющиеся тени от свечи, которые движутся. Слышны какие-то удары. Меня охватывает ужас, пронизывающий все существо.
Лицо матери очень встревоженное.
Но лицо папы спокойное. Он подшучивает над нею, стараясь рассеять остатки страха. Заметив, что я не сплю, оба подходят ко мне и ласкают. Я вижу, что опасность была и что она уже миновала. Но на мои вопросы один ласковый ответ: «Спи, спи, Кокошка, все благополучно!»
Утром я узнал тайну ночи. Мама проснулась от ощущения, что кто-то по ней ползет; она вскочила и тем самым смахнула с себя какое-то существо, разбудившее ее. Папа зажег свечи. Это была огромная сколопендра. Животное злое и ядовитое. Ее чешуйчатое тело с бесчисленными ножками навсегда оставило во мне какую-то холодную жуть.
Отец убил сколопендру палкой, и я со страхом рассматривал ее отвратительный труп. Позднее я видел, как такую сколопендру сажали в банку со скорпионом или тарантулом, и их бешеный, смертный бой являл ужасающее зрелище.
Этот незначительный эпизод, однако, потряс мое детское воображение, склонное к фантазии. Папа, горящая во мраке свеча, движущиеся тени, палка и убитая гадина — все это отложилось в миф, соприкасающийся чем-то с архангелом Михаилом, поражающим змия. В те годы отец был самый чтимый, самый любимый мною человек.
Я никак не могу понять один сон, в котором было столько невыразимого ужаса от присутствия в светлой и чистой жизни какого-то темного начала, какого-то яда, отравляющего ее.
Мне снилось, что я иду по саду и вдруг на дорожке предо мною вырастает какое-то чешуйчатое огромное (с кошку) насекомое с длинными лапами и толстым брюшком и каким-то глухим и вместе с тем трескучим голосом говорит: «Ты мне должен отдать одного из трех любимых тобою людей: маму, папу или Вику» (Вика — папин ученик, много игравший со мною). И я, не задумываясь, ответил: «Папу». Насекомое исчезло. Но день для меня померк.
А между тем ничто не изменилось. Все так же светило солнце.
Но оно было уже не то. (Вот таким мир, на который легла космическая тень, увидел я во время затмения солнца в 1914 году.)
Когда я проснулся, то горько плакал: «Что я наделал, что я наделал!»
Почему я назвал папу, который был мне дороже всех! А утро и наяву было светлое, ласковое. В окно глядели красивые свечи цветущих каштанов. Из сада неслись голоса птиц. И мир был прекрасен как всегда.
Папа вскоре умер. И этот сон врезался в мою детскую душу как темный голос рока.
Много позднее, купаясь в Мотовиловке с товарищами, в купальне на пруду я увидел и узнал то насекомое. Это была личинка стрекозы. Ее движения наполнили меня вновь тем же пережитым в детстве ужасом. В течение своей жизни я много раз встречал эту личинку. Она уже перестала будить во мне те чувства, что пробуждала в детстве. Но я понял, что тогда, в Никитском саду, я увидал ее переползающей дорогу, и что-то в ее непривычных для насекомого движениях неприятно поразило меня и вскоре всплыло во сне. Но почему подсознательная работа души использовала этот образ незадолго до смерти папы, чтобы создать этот злой сон, — на это, конечно, ответа у моего рассудка нет.
Этот сон не мог разрушить мой детский мир. И светлый образ отца остался в нем как источник всякого блага.
Глава 5. Дом детства
Глава V.
ДОМ ДЕТСТВА
Мы жили в отдельном доме. Это было одноэтажное здание из серого камня, увитое глициниями и мелкими розами. Над домом возвышались две башенки. В сторону сада выходила веранда. Лесенка с нее широкими ступенями вела в сад. По обе ее стороны росли финиковые пальмы. Я до сих пор помню план нашей квартиры.
В центре помещался большой зал с камином. Я любил лечь на шкуру волка, отставить экран и смотреть на уголья. В зале находился мамин рояль. На стенах со стороны столовой висели картины Зичи — «Тамара с Демоном» и «Тамара с Ангелом». Меня пугал мрачный демон, а ангел не мог успокоить. Облик Демона гораздо был значительнее и лучше запечатлевался. Неужели зло сильнее добра? Мне от этих картин становилось грустно. Их приобрел у нас садовод Ф. К. Калайда (ученик папы), впоследствии директор Никитского сада. Когда я бывал в Никитском саду в 1917 и 1937 годах, я их у него видел. В зале было много цветов. Это была тихая, пустынная комната. В ней закипала жизнь, когда съезжались гости.
Налево, также окнами в сад, находилась гостиная, которая одно время была спальней. В ней-то я и сидел на подоконнике с папой, когда отбывал наказание, возложенное мамой. В этой ком-. нате помещалась мягкая мебель (софа, кресла, пуфы), которая
следовала за нами всюду, куда бы нас ни перебрасывала судьба. Здесь находились и вещи, унаследованные мамой от крестной, — большое зеркало «Жакоб», вольтеровское кресло. На стене висел портрет Кононова, участника Бородинского боя. Мама больше всего любила эту комнату. Она сидела в кресле у своего рабочего столика из розового дерева и что-нибудь шила. На этом столе стояла голубая фарфоровая лампа с белым кружевным абажуром. Когда зажигался огонь, то из-под кружев выступали птицы, фрукты, бабочки, сделанные словно из драгоценных камней. Когда я появлялся в гостиной, мама беседовала со мной, продолжая свою работу, а я забирался к этажерке над маленьким круглым столиком-маркетри и рассматривал безделушки, среди которых были бронзовая легавая собака, напоминавшая папину, когда он в Софиевке был охотником, и крошечный серый котенок, тоже из бронзы, привезенный маме из Петербурга. Увы, в нашем доме не было ничего живого. Папа не выносил птиц, заключенных в клетки. А мама, после смерти своего любимого зверька — ласки по имени Мистрис — не хотела больше привязываться к каким-нибудь домашним захребетникам. Но случалось и так, что мама оставляла работу и читала мне «Маленького лорда» или «Принца и нищего», а я рассматривал окружающие меня вещи, которыми не уставал любоваться. Когда я смотрел на портрет Кононова, то думал: а ведь если бы его не убили под Бородиным, он, вероятно, сделался бы героем Севастопольской кампании.
Иногда я, пока мама читала, рисовал. Так я иллюстрировал «Воздушный корабль», сцену за сценой. Особенно мне нравилось изображать Наполеона с его треуголкой в тот момент, когда из его глаз извергалось пламя («и очи пылают огнем»).
По другую сторону зала, также окнами в сад, находилась наша спальня. Я только помню в ней две кровати под красное дерево, разделенные ночным столиком, и свою маленькую кровать с сеткой. Спальня была только спальней, местом сна. Ночника в ней не было. Когда гасили свечу, ее освещал только красноватый, колеблющийся свет лампады перед иконой Богородицы. От этого света струилась тишина. Когда я просыпался, то сейчас же, в одной длинной рубашонке, бросался к окну. Папа открывал ставни, а я смотрел в сад: какие еще распустились цветы? Как бьет струя фонтана? И всегда при этом смотрел вдаль — на море. Оно часто было с белыми гребнями-барашками. А зимой я смотрел, не выпал ли снег. Это бывало так редко. Но зимой мне не давали сидеть на подоконнике и скорее гнали одеваться.
Третья дверь из зала вела в столовую, окна которой выходили на большую дорогу. Эту комнату, в которой проходила значительная часть дня, я помню плохо. Обеденный стол находился среди комнаты. В углу стоял шкаф. На стенах две картины: одна с изображением дичи, другая — с корзиной фруктов. Папа сидел спиной к окнам. Мама — напротив него. Я помню еще то время, как сидел на высоком детском стуле — помещался налево от
мамы. Против меня сидела бонна. Эта комната была центром объединения семьи. Когда у папы бывало время, он засиживался здесь с нами, пока мылась посуда, и происходила уборка стола. Я любил эту комнату не за ее обстановку, как мамину гостиную, а за то, что в ней я мог быть с отцом и матерью.
Из столовой через переднюю и коридор дверь вела в папин кабинет, о котором я уже писал, и в соседнюю с ним комнату бонны. По другую сторону столовой коридор вел в кухню. Из этого же коридора можно было попасть в умывальную, маленькую комнатку с окнами на большую дорогу, в которой стоял умывальник и гардероб. По другую сторону коридора помещалась моя детская, примыкавшая к спальне. В детской в углу у окна стояла моя парта, в которой хранились карандаши, краски, тетради и первая книга, которую я прочел от доски до доски сам — «Веселые рассказы» Буша. Кроме парты в этой комнате был стол, на котором в зимние вечера можно было играть в лото и другие «смирные» игры. У стенки помещалась полка для моей маленькой библиотеки. У другой стоял сундучок, в котором были сложены мои игрушки — зверушки, солдатики и куколка по имени Мигушка (маленькая фарфоровая куколка с закрывающимися глазами). Она была одета в платьице из красного шелка с черными узорами. Эту куколку одевала моя мама. Тут же в сундуке хранились лоскутки. Я их очень любил. Они учили меня чувствовать оттенки цветов. Любил я их также щупать, каждый имел свою фактуру. В особенности тогда нравился мне красный бархат. В детской было мало мебели. «Меньше пыли и больше простора», — говаривала мама. В углу висела икона Николая Мирликийского, присланная мне из Архангельска. На дверном косяке цветными карандашами измерялся мой рост с указанием дат измерения.
Из коридора, примыкавшего к детской, дверь уводила в другой коридор, где была ванна, в которой вода пахла сосной, из коридора лестница наверх, к башням. Там «находилась неведомая бесконечная страна детских чудес и сокровищ» (У. Патер)14. Там был чердак с люком, откуда путь [вел] на крышу к башням. А в башне, из которой было так далеко видно, помещался мой «музей». Здесь находилась коллекция бабочек, жуков, насекомых, перьев птиц, камней, шишек. Здесь, а не в детской, я был полный хозяин. Власть мамы на мою башню не распространялась. Зимой туда ходить запрещалось. Это была моя летняя резиденция. Там был особый запах и очень душно в жаркие, летние дни. Долго оставаться там я не мог, но заглядывать туда было для меня большим наслаждением.
Страсть к коллекционированию в течение моей жизни получала разные выражения. В конце концов, она вылилась в мою страсть к организации выставок.
За холодным коридором была кухня, а рядом с ней дворницкая, где помещался со свой семьей Кузьма.
В нашем доме было очень чисто. Полы часто натирались. Всю
14 Патер (Пейтер) Уолтер (1839—1894) —английский писатель и критик. Н. П. цитирует его автобиографическую книгу «Ребенок в доме» (1894). Русский перевод П, П. Муратова (Патер У. Воображаемые портреты. Ребенок в доме. М., 1908. С. 178) несколько отличается от приведенного Н. П.
ду висели всегда чистые белые занавеси. В вещах царил полный порядок. В доме было обычно тихо и пустынно. Когда я сравнивал наш дом с домом маминой сестры, я не мог не видеть разницы. Там была вечная сутолока, в строе жизни не было ничего чинного. Еды и питья — море разливанное. В том доме было больше жизни. Дети маминой сестры — Маруся и Митя — вносили много молодого шума. Тетя Маша любила принимать гостей, и мне казалось, что двери софиевского дома не затворяются. Моя же мама больше всего любила жить в своей семье в тишине и чистоте. Но ее положение обязывало принимать гостей, и время от времени наш дом тоже наполнялся приезжими. Однако и я, и мама, а может быть, и папа предпочитали — когда мы бывали втроем. Во всяком случае на доме в большей мере сказался характер матери, чем отца. Совершенно прав У. Патер, когда он говорит о том, что дом в детстве становится неотъемлемой частью души, благодаря тому закону, что окружающие предметы входят важным слагаемым в детское существование15.
Мне все казалось в нашем доме незыблемым, для меня он был бытием, а не бываньем. И так было странно, когда спальню перенесли в гостиную. Я твердо верил, что каждая из комнат нашего дома так и создана, чтобы навеки остаться тем, чем она являлась в нашем быту. Детская есть детская, как А есть А, и ничем другим она уже быть не может. Я верил не только во всеведение и всемогущество отца, но и в его вечность и в вечность всего того, что нас окружает. В смерть я не верил. Я знал и из книг, и от окружающих меня людей, что смерть есть, что она неизбежна. Но я в нее не верил.
Хорошо, когда в детстве есть это чувство крепости жизни, в которой распускается новый молодой росток. И наш дом воспитал во мне это чувство устойчивости моего мира. Это чувство дает душе особый моральный закал и воспитывает в ней верность.
Не имея никакой собственности, мы жили как помещики. Папа был полным хозяином Никитского сада и всего к нему относящегося. Он получал особые суммы на представительство. Ему полагалась большое количество фруктов, ягод, овощей, вина. Мне мама говорила, что папе все это было не по душе и он отказывался, например, от бесплатного пользования вином. У нас был свой выезд, прекрасная корова и целый птичий двор. Дом был полная чаша. Первые фрукты подавались нам на стол, как и первые ягоды. На столе у нас были прекрасные вина, хотя отец не любил пить. Он был хорошим дегустатором, и я живо помню, как на нашей террасе собирались виноделы для дегустации и пили вина маленькими глоточками, смакуя их. Давалось определение времени, сортам и расценка.
Отец казался мне повелителем целого мира. Где бы я ни бывал — всюду отец был главным лицом. Он ведал училищем, парком, виноградниками Магарача. Ему приходилось не только быть директором и выполнять свои служебные обязанности, но стано-
15 Там же. С. 176. Также с разночтениями.
виться и миротворцем во всех областях быта. Его называли «красным солнушком». Много тогда еще было патриархального в положении директора. Еще чувствовались в жизни остатки феодальных отношений и феодальных понятий. Судя по тому, что меня каждое десятилетие после смерти отца встречали в Никитском саду как желанного гостя, я могу смело сказать, что мой отец вполне справился со всеми трудностями своего положения. И учителя, и бывшие ученики, и рабочие, и татары — все встречали меня самыми горячими похвалами Павлу Григорьевичу.
Обязанность «представительства» была для отца тяжелой обязанностью. Он любил труд, природу и семью. Он никогда не роптал на «приемы», но я знал, что ему милее были наши тихие вечера.
Никитский сад посещали «высокие гости». Помимо разных министров, сюда приезжали, если мне не изменяет память — и Победоносцев, и даже Иоанн Кронштадтский, который останавливался в имении «Селям» гр. Орлова-Давыдова. Приезжали сюда и ученые, писатели. Рассказывали о приезде А. П. Чехова. Всего этого я не помню, кроме приезда отца Иоанна и связанного с этим торжественного богослужения в нашей церкви.
В доме же у нас бывали гостившие летом в соседних дачах и именьях — у Алисовых, Анастасьевых, Орлова-Давыдова. Я помню семью музыканта Блюменфельда и его сына Виктора, моего сверстника, окруженного сестрами, еще лучше помню семью подруги мамы Алисы Фермер, у которой было три сына и две дочери. Со средним сыном Шурой я охотно играл. Гостили у нас в доме и родные: папин племянник Н. М. Сибирцев, папины родственники Курбатовы (отец и сын) и семья маминой сестры Леванда. Раз приезжала даже, к моей великой радости, моя бабушка и делала мне булочки-хрустунчик. С ней у меня была самая нежная дружба.
Среди наших гостей наиболее колоритной фигурой был князь Голицын — высокий и рослый толстяк, владелец знаменитых виноградников и прекрасный ценитель вин. Он славился необычайной щедростью и независимостью. За какую-то смелую выходку (помнится, пощечину петербургскому градоначальнику) сидел в Петропавловской крепости. Это был феодал, не терпевший бюрократическо-полицейской монархии с ее чинопочитанием и лакейством. Голицын очень уважал моего отца. Я помню этого крупного толстяка с сигарой в руке, когда он ворчал, шутил, бранился, вспоминал и фантазировал. Он всегда привозил с собой подарки — литовский старый мед, шампанское, херес «Педрохим» (в заплесневелых бутылках). Помню, как мама (уже в Киеве) хотела почтить гостя старинным хересом, сохранившимся у нее из коллекции вин Голицына, и к ее ужасу прислуга подала ей бутылку тщательно вымытую, на которой не осталось и следов от патины времени. На именины мамы Голицын как-то привез коробку конфет, показавшуюся необычайно тяжелой. Когда ее открыли, внутри оказался ящик с серебряными монограммами» а внутри ящика — ларец
из серебра, на котором была изображена цветущая ветвь яблони. В ларце были шоколадные конфеты, показавшиеся особенно вкусными.
Я, как большинство маленьких детей, относился с интересом к взрослым. Вслушивался в их разговоры, хотел понять их. С этой целью я забирался на кресло, где сидела мама, стараясь устроиться между ее спиной и спинкой кресла. Взрослые мне тогда казались существами совершенно другого порядка, чем мы — дети, и хотя я знал, что буду тоже «большим», но плохо верил в это. Я тогда непосредственно воспринимал взрослых как другую породу существ, чем дети. Есть большие звери: львы, слоны, тигры, есть маленькие — зайцы, белки, тушканчики, так есть большие люди — это взрослые, и маленькие, люди — это дети — вот что говорило мне непосредственное чувство. А все же хорошо быть взрослым, умным, все знать и все уметь.
90-е годы были в истории глухим временем.
В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл16.
Я не увидал этой тени. Мне казалось, что жизнь — рай, в котором, правда, ползает, где-то притаившись под древом познания добра и зла, змий, но все же мир — прекрасен. Так чувствовал и я. А как переживал это безвременье мой отец? Я о нем знаю так г мало. Все же мне кажется, что несмотря на то, что над ним тоже тяготел Петербург и отцу приходилось изредка ездить туда отчитываться перед департаментом, все же мой отец мог пользоваться достаточной независимостью и проводить у себя свою глубоко гуманную линию. Он любил свой Никитский сад.
События внешнего мира редко волновали наш дом. XIX век заканчивался спокойным десятилетием. Я запомнил только, как [однажды] вечером, когда мы сидели за столом, пришел Долинский и долго о чем-то шептался с мамой. Папа был в Петербурге. На следующее утро мама мне сказала: «Царь умер». Детвора собралась на площади у тысячелетнего дерева, откуда хорошо видна ялтинская бухта. Там появилось много необычных судов. Среди них белый броненосец «Синоп», на котором увезли тело умершего царя.
Прошел год, была коронация. В саду перед училищем — иллюминация и фейерверк. Через несколько дней пронеслось непонятное мне слово «Ходынка», которое произносилось шепотом. Все это я помню очень смутно. Лучше всего мне запомнилось то, что в день коронации я впервые в жизни лег в 10 часов. Это был уже серьезный шаг навстречу моей взрослости.
16 Начальные строки «Вступления» ко второй главе поэмы Блока «Возмездие». Пунктуация приведена нами в соответствие с оригиналом.
Главными событиями жизни нашего дома в моем детском сознании остались праздники, как церковные, так и семейные. Эти праздники не наступали внезапно. Их ждали, к ним готовились. Так повторялось из года в год, и в этом я ощущал ритм времени, те же безусловные законы, как и в жизни природы. Настанет день, подуют теплые ветры, и быстро в балках исчезнут остатки снегов. И там, на горах, не будет больше белых пятен. Еще говорливее сделаются потоки, несущиеся с гор вниз, к морю. Появятся белые чистые и нежные подснежники с их тонким ароматом, а вслед за ними и темные фиалки с их чудесным крепким запахом. Они растут не на грядках, как цветы парка, а растут вольно, где хотят — среди камней, увитых плющом, под кипарисами. Так же неизбежно придет и Пасха. Постились у нас недолго, всего лишь несколько дней Страстной недели. Но перед праздником все обновлялось в доме, как и в самой природе. Радость очищения, обновления — радость праздника. Я еще не говел и не знал тогда полноты радости. Но причащение оставляло уже и тогда в душе глубокий след. Я помню светлое и строгое выражение Отца, когда он подводил меня к причастию. Священные хлеб и вино, чаша в руках священника, походившего на иконописное изображение Христа, — все это наполняло душу трепетом приобщения к чему-то бесконечно великому. На заутреню меня не брали. Праздник начинался для меня лишь утром при веселых перезвонах колоколов. Пасхальный стол с белой пасхой, куличами и бабами, с агнцем, державшим знамя, зеленая горка с цветными яйцами, белые и синие гиацинты — все это уже было не просто праздничным столом. Все это имело касательство к таинству жизни и смерти.
В этом и было отличие годового круга природы от годового круга церкви. Все, что касалось религии, хотя и было также связано со временем, но эта связь уже выходила за пределы времени, в ней было уже касание вечности. И когда для меня наступил религиозный кризис в 14—15 лет, я очень мучительно переживал переоценку тех ценностей, которые, казалось, были незыблемы в душе. И чем глубже и крепче я пережил их в доме моего детства под влиянием моих родителей, тем более тягостен был кризис и тем радостнее возвращение.
В доме детства выкристаллизовалось в душе какое-то крепкое ядро, которое послужило основой для всей последующей жизни.
Когда у нас родились дети, я делал все, чтобы создать им дом детства, но он рухнул от сильных внешних бурь прежде, чем исполнилось их детство <...>.17
17 На опущенных страницах: глава VI «Игры. Чтение. Первые друзья» начинается размышлениями Н. П. о смысле игры: «Игры ребенка—это труд взрослого, его искусство и его спорт. Ребенок играми преодолевает время (...). Конечно, не из-за страха перед скукой ребенок играет, также как не ради борьбы с ней взрослый трудится. Но удовлетворяя другим запросам души, и труд, и игра вместе с тем спасают человека от бремени времени». Далее: описание игр со сверстниками в Никитском саду — «палочка-стукалочка», «морской бой», «сторожа-разбойники»; бой с татарчатами из села Никиты; размышления Н. П. о «театральном моменте» в любой игре; игра в театре; первые опыты рисования; первая детская мечта об острове блаженных, где живут мирные звери вдали от хищников. Первые книги — «Принц и нищий», «Малелький лорд», сказки Андерсена, братьев Гримм, Гауфа, Густавсона; позднее — «Отверженные» Гюго, навеянные им размышления о единстве добра и красоты. Интерес Н. П. к «страшным рассказам» («Присутствие в жизни чего-то грозного возвышало ее значительность и тем самым ценность»). Детский журнал «Родник», интерес к истории обороны Севастополя. Знакомство со Священной историей, любовь к Библии, особая привязанность к сюжетам Страстей Господних («С Библии начался мой интерес к истории»). Рассказы родителей о Древней Руси, эллинских древностях Крыма. Друзья детства: дочь письмоводителя Катя Долинская, сын курьера Саня Щербина, сын дворника Семен Савин, его отец Кузьма — «Савельич» Н. П. Игры на птичьем дворе. Воспоминания о посещениях Никитского сада и встречах с друзьями детства в 1907, 1917, 1927 и 1937. Постояльцы «министерской дачи» Никитского сада: Ермоловы, Витте, Нарышкины. Детская любовь Н. П. к Мусе Ермоловой, ее дальнейшая судьба.
В следующей главе: болезнь отца, отъезд за границу для его лечения (весна 1897 г.), посещение по дороге Софиевки, семья Леванда; Варшава, Берлин, чуждость немецких нравов; Наугейм, встреча с Блоком — будущим поэтом, «русским юношей с нерусским лицом»; пребывание в Вильдунгене, семья профессора-окулиста Гиршмана; возвращение в Россию, остановка в Софиевке и смерть там отца 18 ноября 1897 от саркомы мозга; поездка матери в Петербург для хлопот о пенсии.
В последней главе этой части: возвращение в Никитский сад, уже «чужой», в котором «больше нет дома детства», распродажа и отправка имущества, переезд на «министерскую дачу» по приглашению семьи Нарышкиных, дружба с их сыном Петей, тетка последнего — детская писательница В. А. Цурикова; отъезд из Никитского сада, последующие посещения его в 10-летние годовщины смерти отца. «Покинув Никитский сад, я расстался со своим детством».
Из части второй. Годы отрочества
Глава III Переезд в Киев
Глава III.
ПЕРЕЕЗД В КИЕВ
Из края в край,
Из града в град
Судьба, как вихрь людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Что нужды ей?.. вперед, вперед.
Киев не был чужим городом. Я уже много слышал о нем от мамы. О Киеве читал и в «Тарасе Бульбе», и в «Вие». Это столица родной Украины. Это начальные страницы русской истории — город Владимира Красного Солнышка. Я мечтал побежать к его памятнику на Владимирскую горку. Мне хотелось поскорее очутиться под сводами Владимирского собора, побывать в Киево-Печерской лавре, в Софиевском и Михайловском соборах. Нетерпение, терпение. В Киев я приехал больной, с острым желудочным заболеванием. Мы остановились в гостинице на углу Безаковской и Бибиковского бульвара (ну, как же мне было не вспомнить моего Мишеля1), против Ботанического сада. Прежде всего мне пришлось познакомиться с аптекой, на которой была таинственная надпись ЮРОТАТ. Это было первое встреченное мною механически созданное слово. Оно означало «Южно-Русское общество торговли аптечными товарами».
Был конец августа (1899 г.). Строгая диета изнуряла меня. Ни ягод, ни фруктов. Как-то принесли бульон, показавшийся мне необыкновенно вкусным, как тот суп, которым угостила колдунья Карлика-Носа в сказке Гауфа. Когда я немного окреп, мама сказала: «Иди в Ботанический сад, в дом директора Навашина. Ты должен поблагодарить его жену за бульон. Это она была так добра, что прислала его тебе».
Я тотчас же собрался. Нужно было только перейти улицу и в глубине сада отыскать директорский дом. Мне думалось тогда: и я жил в большом саду, в директорском доме! Меня встретила красивая и гордая дама, с седыми волосами и молодым лицом, словно в парике XVIII века. Это была Александра Савельевна Навашина.
Она потрепала меня по голове и послала в сад играть с детьми. Ко мне подбежал коренастый мальчик с коротко стриженой головой, с большими живыми глазами, с обильными веснушками на круглом лице. Он был подпоясан широким поясом с карманами. Это был старший из детей Навашиных — Митя. Познакомились мы в день его рождения 30 августа. Он был ровно на месяц моложе меня. Митя предложил мне пойти посмотреть кошку, которую он только что повесил. Была ли это озорная выходка, которая должна была ошеломить незнакомого мальчика с бледным изнеженным лицом, или он действительно повесил кошку — это осталось для меня тайной (думаю, скорее первое: выдумщиком Митя был всю свою жизнь). Я со смущением отклонил столь
1 Часть вторая «ГОДЫ ОТРОЧЕСТВА» начинается с главы «На чужбине». Всей части предпосланы слова А. Блока: «Детство и юность человека являют нам тот божественный план, по которому он создан, показывают, как он был задуман».
Приезд к двоюродному брату Н. М. Сибирцеву в Ново-Александрию (Пу-лавы) Люблинской губернии. Неприветливость нового места: хозяин на лечении в Италии. История Ново-Александрии. Н. М. Сибирцев — профессор-почвовед, «монах науки». Чувство заброшенности у Н. П. в большом пустом доме родственника.
Среда сверстников — профессорских детей. Странствующая по квартирам школа — изобретение профессоров Глинки и Саноцкого. Дом профессора Н. Б. Делоне, сближение Н. П. с его старшим сыном Борисом. Семья Делоне, ее «французский дух». Открытие Н. П. «мира гоголевской романтики», формирование у него основ национального чувства. Обострение этого чувства благодаря польско-еврейскому окружению в Пулавах: детские проявления межнациональной вражды и размышления Н. П. о ее причинах. Военная игра в спички. Празднование Рождества 1898.
В следующей главе: братья Фортунатовы Федор и Григорий, их отец — профессор Алексей Федорович, их старшие братья Константин и Александр, зарождение полувековой дружбы Н. П. с Фортунатовыми.
Родственник Е. М. Анциферовой — М. А. Бибиков — «персонаж из сказок Гофмана», его неустроенность, веселый нрав, выдумки, «театр для себя», последняя весть «от этого скитальца» через 20 лет из инвалидного дома под Черниговом.
Привязанность Н. П. к семье Фортунатовых, сыновнее отношение к ее главе. Постановка увлеченным театром Саней Фортунатовым пьесы «Данило Зозуля» летом 1899. Сближение с Григорием Фортунатовым, судьба дружбы с ним, ее продолжение в последующие годы.
Смерть Н. М. Сибирцева от чахотки, переезд Фортунатовых в Киев, предотьездная экскурсия с ними в г. Казимир. Мысль Н. П. о перспективе женитьбы на Мане Фортунатовой; последняя встреча с нею в 1917 в Симеизе, ее смерть.
Подготовка к переезду в Киев вослед Фортунатовым. Последующие встречи с семьей Делоне: в Киеве в 1908, затем в 1940-е с Борисом, уже академиком-математиком, дружба последнего с О. Ю. Шмидтом, их встреча в Москве в 1920, рассказ Шмидта о Ленине, не спящем ночью «капитане корабля, тянущего баржу России к прекрасным берегам»; помощь Б. Н. Делоне семье Анциферова после ареста Н. П. в 1929, встреча со старшим Делоне в Киеве в 1923 и рассказы того о попытках «марксистской перестройки» математики; встречи с Глинками, их судьба; сбор пулавских друзей детства в Москве в 1947.
Речь идет о родственнике Е. М. Анциферовой — М. А. Бибикове. См. о нем в предыдущем примечании.
необычайное предложение. Митя сделал презрительную мину и позвал меня пить чай.
Стол был заставлен великолепными фруктами. За столом расселись: глава семьи Сергей Гаврилович. Это был европеец, мало того — английский лорд. Тонкие черты лица с орлиным носом, острые, насмешливые серые глаза, над которыми, поднимаясь к вискам, расходились густые тонкие брови. Изящно очерченные усы спускались вниз к гладкому подбородку с маленькой эспаньолкой. Сергей Гаврилович говорил медленно, несколько растягивая гласные, отчеканивая свои округленные фразы, построенные по всем правилам грамматики. Коротко остриженную голову прикрывала черная «академическая» шапочка. За столом, кроме Александры Савельевны и Мити, оказалось еще двое — девочка лет шести, похожая на брата, с волосами, собранными в узел над макушкой, и курчавый мальчик лет 3 — 4, похожий на еврейчика. Девочку звали Таней, младшего мальчика Мишей. Среди общего разговора Миша взял сливу, самую большую, воткнул в нее три спички и, поставив на стол, воскликнул: «Посмотрите, ведь это Дрейфус!» За навашинским столом любили шутку, ценили остроту, и выходка карапуза была встречена благосклонно.
Это было мое первое посещение Навашиных. Мама сняла квартиру на Караваевской № 39 против Назаровского переулка у самого Ботанического сада. Фортунатовы поселились где-то в конце Бибиковского бульвара в доме с большим садом, а вскоре переехали в Обсерваторный переулок № 7 у Бульварно-Кудрявской. Я бывал у Фортунатовых и у Навашиных. Как непохожи эти семьи! Как различен весь строй их жизни. В Киеве Фортунатовы жили совершенно так же, как и в Пулавах. Ничего в их быте не изменилось2.
В доме Навашиных царил строгий, несколько чопорный распорядок. Александра Савельевна давала свои указания прислуге Ульяне медленным твердым тоном. Роскоши не было и у них, но в обстановке навашинского дома не чувствовался тот аскетизм русских народников, который был характерен для дома Фортунатовых. У Навашиных я чувствовал себя смущенным, мне нужно было внимательно следить за собой.
В кабинете Сергея Гавриловича пахло хорошими сигарами. Он курил только гаванские из изящных деревянных ящиков с красочными картинками. На его столе всегда стоял микроскоп. Как Юпитера постоянно изображают с орлом, а Афину Палладу с совой, так С. Г. Навашина мне трудно представить без микроскопа. В те годы я не имел представления о его мировой известности как ученого. Я мог его узнавать с других сторон. Сергей Гаврилович в отличие от Алексея Федоровича Фортунатова любил вкусно и изысканно покушать. Он уловил эту мою слабую черту, угощал английским сыром стильтоном и розовым ликером. По вечерам Сергей Гаврилович поднимался наверх — в большую детскую и читал нам «Одиссею» Гомера. «Илиаду» уже кончили, и я
2 «Скромная обстановка, простота отношений, дружный тон всей семьи <...) большой духовный аристократизм. (...) В доме Фортунатовых я не помню никаких следов буржуазной обстановки с ее склонностью к декоративности» — таков, по словам Н. П., «дух дома Фортунатовых».
попросил у него дать мне на дом старинную книжку с иллюстрациями, сделанными в подражание древним. На фронтисписе были изображены: Агамемнон, Менелай, Одиссей, Нестор, Ахиллес и Диомед. Я страстно полюбил эту книгу и искал повсюду это издание и не находил.
Митя тогда не подходил к общему строю семьи. Он напоминал Тома Сойера и жил своей обособленной жизнью в рощицах, оврагах, сторожках Ботанического сада, где у него были какие-то таинственные встречи, совещания, бои. К этой жизни он почему-то не подпускал меня.
С осени начались совместные уроки. Наш учитель Николай Иванович Левченко (впоследствии петлюровский атаман) явно предпочитал мне Митю, и это угнетало меня, хотя я и сознавал, мне не под силу тягаться с Митей, блестяще одаренным мальчиком. Сестра его Таня, замечая, что я выходил из учебной комнаты с поникшей головой, хотела привлечь меня к своим играм, но я сторонился девочки, дружба с которой казалась мне недостойной мальчика, которому исполнилось десять лет. Все же я не устоял, когда она предложила мне издавать журнал «Первый опыт», В подражание Чехову я написал тогда рассказ из жизни собачки: «Амочка». На первом номере наш «Первый опыт» оборвался.
В начале киевской жизни я еще оставался верен своему увлечению русской стариной. Да и впечатления от города некоторое время питали этот интерес. Я посетил могилу Кочубея и Искры в Лавре. Я побывал в прохладном сумраке Софиевского собора и был поражен тем. что на стенах лестницы, ведущей в храм, изображены гусляры и скоморохи.
Владимирский собор мне тогда понравился больше и Софиевского, и Михайловского. Фрески Васнецова были для меня откровением. Вот оно, родное искусство! И как по летописи Владимир был потрясен картиной Страшного суда, так и я был потрясен фреской Васнецова, изображающей Страшный суд и возмездие грешникам.
Мне хотелось читать о Киеве, найти что-нибудь по истории Украины, но в книжных магазинах Оглоблина и Идзиковского не оказалось интересовавших меня книг. Мама где-то вычитала объявление о продаже библиотеки по истории Украины. Владелец библиотеки привел меня в восторг: он походил на Тараса Бульбу. С волнением я начал перелистывать тома, которые он показывал мне, с изумлением посматривая на мальчугана, столь заинтересованного историей Украины. Но мальчик разочаровал его. Книги мне показались чересчур учеными, и я, преисполненный великого конфуза, сказал маме: «Знаешь, мне кажется, они писаны не для меня!» Когда мы уходили, я уловил насмешливый взгляд щирого украинца.
Вскоре другая эпоха, другая культура, другие герои увлекли меня. Это были Пелеев сын Ахиллес и муж хитроумный Одиссей.
Очарованию Эллады содействовал и гекзаметр, придававший пленительную торжественность эллинской речи. Я погрузился в мифологию еще с большей страстностью, чем в казачество. Мое новое увлечение не питалось никакими национальными чувствами. Величие античного мира имело самодовлеющую привлекательную силу. Я прочел ряд книг по мифологии и в отрывках «Илиаду». «Одиссею» я слушал у Навашиных. Читал и трагиков — Эсхила, Софокла, Еврипида в издании «Дешевой библиотеки» Суворина. Моими любимцами были Орест и отец его Агамемнон, а также Гектор. Я не мог без трепета читать о прощании его с Андромахой. Но чем прельстили меня Орест с Агамемноном? Трагичностью своей судьбы? Я помню, как сжималось мое сердце, когда я читал о возвращении на родину Атрида после десятилетнего отсутствия и о гибели его от коварной и неверной жены. Особенно волновала меня фраза «радостно вождь Агамемнон землю родную объемлет», а потом горькая жалоба его тени: «И убили меня, как быка убивают при яслях». Позднее я полюбил Британика — из-за его гибели от сводного брата Нерона, герцога Кларенса — «вином проклятым смытого с мира» по приказу брата Ричарда и, в особенности, невольного клятвопреступника, последнего саксонского короля Гарольда, погибшего со всеми своими братьями на Гастингском поле. В сущности никто из моих любимцев не отличался какими-либо доблестями. Мои симпатии вызывала трагичность их судьбы, а следовательно, в основе моей симпатии лежала жалость — чувство, сыгравшее большую роль в моей жизни, в моих взглядах и поступках. Но я забежал вперед — 1899—1900 годы стояли у меня под знаком Эллады. Я ознакомился с картой Греции и архипелага, всюду искал изображения богов и героев. Лучезарный мир Эллады ослеплял меня своей красотой, и мне хотелось поклониться его богам наравне с Христом, как Александру Северу.
По вечерам, ложась спасть, я произносил имена героев, и самый звук их доставлял мне неописуемое наслаждение. Летом 1900 года я услышал, как мой сосед по даче учил наизусть по-гречески начало «Одиссеи», и я до сих пор помню эти строки.
Теперь я думаю: мир Эллады оттого увлек меня, что он переносил меня на южный берег Крыма, в родные места, туда, где Орест и Пилад были спасены Ифигенией. И не случайно моей любимой богиней была Артемида, храм которой был где-то недалеко от Гурзуфа (Партенит).
Ни Фортунатовы, ни Навашины не разделяли страсти моего увлечения, хотя также читали Гомера и трагиков. Любимцем своим Костя Фортунатов объявил Нестора, а Гриня — Одиссея. Я в этом видел подтрунивание над собой. Болтливый старец — и вдруг лучший из героев. Да разве он герой? (Пенелопа — это другое дело.) А Федя посмеивался и над Гриней: «Улис, у кого ты учился хитрости?» — «У лис».
А мне было даже оскорбительно думать, что герои Эллады
были из плоти и крови, а не из мрамора. Я всегда представлял их сверкающими белизною на фоне синего моря или лазурного неба. «Шлемоблещущий Гектор с копьем длиннотенным»! Все это в солнечном сиянии, слепящем взоры. Это был мой мир, и никто из моих друзей не понимал меня.
Несмотря на равнодушие Фортунатовых к моему новому увлечению меня по-прежнему тянуло к ним. Алексей Федорович собирал нас у себя, раздавал нам четвертушки бумаги и хорошо отточенные карандаши: «Ну, господа доктора, рисуйте, а я вам буду читать». И он читал нам из Жуковского, из Некрасова.
Иногда чтение заменялось диктантом, а позднее — переводом латинского автора. Моя дружба с Федей продолжала развиваться. В те годы он часто болел приступами аппендицита, пока ему не вырезали аппендикс. Эта болезнь сближала нас. Федя был неистощим на выдумки. Одна сложная, полная фантазии игра сменяла другую. На смену «похождениям Суркина»3 явилась планета Марс. Мы населили ее всадниками, неразлучными со своими кочями (но не кентаврами). На квадратных листиках рисовались эти марсиане. У каждого из нас было свое государство со своим правительством, с университетами, с судом и войском. Марсиан сменила «Одесса». Появился флот — схематические планы кораблей. В кружках рисовались адмиралы, капитаны, лейтенанты, мичманы, матросы. Был и город Одесса с городским головой, с купцами, с босяками, грузчиками, музыкантами. Тут были и турки, и греки, и итальянцы. Один из мичманов был Федор Фортунатов, другой — Анциферов Николай.
Особое развитие получила игра в Амонию, Парамонию и Рондалию. Эта игра возникла случайно. У каждого из братьев Фортунатовых был свой письменный стол, похожий на кухонный, с неокрашенной доской. Эта доска подвергалась беспощадной обработке перочинными ножами; она была испещрена фигурками, буквами и т. д. Как-то вечером Федя стал залеплять дырки воском и соединять восковые кружочки веревочками. Так на столе появилась карта с городами. Федя начертил ее границы — так возникла Парамония. Карта этого государства была перенесена на бумагу и значительно расширена. Разложить ее было возможно только на полу. Вслед за этим Гриня сделал карту своего государства Амонии и я своего — Рондалии. На наших картах столицы были отмечены особым знаком. Крепости рисовали звездочками. Появились портовые города с удобными бухтами. Особенно нравилось нам создавать по типу С-АСШ Национальный парк, заповедник с обрывистыми горами, водопадами и озерами. Вслед за картами появились тетради. В них были нарисованы государственные гербы, национальные флаги, гербы городов, монеты, марки, ордена. Были нарисованы также и формы военных, чиновников, учащихся. Потом появились портреты замечательных людей и царствующего дома. Наконец — серии картин, изображающих различные моменты из истории наших государств, в особенности,
3 «Похождения Суркина»—рисованная игра Н. П. и Федора Фортунатова в Ново-Александрии, изображавшая быт и нравы «задворок польских России».
конечно, из истории войн. Одного из царствующего дома Фединой Парамонии я особенно полюбил — это был князь Андрей в мундире цвета кармин. Этот князь Андрей сделался источником моих страданий. Если Федя хотел что-нибудь получить от меня в нашей игре, он сейчас же грозно говорил: «Не уступишь — князь Андрей закурит и вообще сделается мерзавцем». А я по вечерам в свою молитву включил моление: «Не допусти. Господи, чтобы князь Андрей закурил». Этим путем Федя добился ряда льгот для своей Парамонии.
Между тем в Рондалии иссякла старшая линия династии и воцарился представитель младшей линии — юноша Севастиан. Он был белокур, голубоглаз, с чуть наметившимися баками. Новый король предпринял решительную борьбу с пьянством. Он понимал, что декретом, воспрещением спиртных напитков, пьянство не искоренить. Севастиан распорядился продавать по ничтожной цене водку десяти градусов. Если и пять бутылок подряд выпить, то не опьянеешь, а больше пяти кто же сможет выпить? Увы, король Севастиан плохо понимал психологию алкоголиков. Другим его мероприятием был закон о «вечном мире». Издав его, Севастиан распустил армию. Тогда Федя отдал немедленно приказ войскам Парамонии захватить лучшие порты Рондалии. Бедный Севастиан с горя умер. А его преемник восстановил армию.
Утопизм был мне всегда свойственен, начиная с «Острова блаженных» [из] моих младенческих мечтаний, этого острова, где живут только миролюбивые птицы и звери. Реальный и трезвый ум Феди всегда боролся с моей романтической мечтой.
Я был очень правдив и очень откровенен. Но иногда, увлекаясь рассказом, хотел прикрасить действительность и тогда. прерывал рассказ и спрашивал: «Федя, приврать можно?» «Ну, соври», — отвечал он, смеясь, и я тогда со спокойной совестью давал волю фантазии.
В наших отроческих играх находили отклик и исторические события переживаемой нами эпохи. Сперва бурская война. Конечно, мы были всецело на стороне слабых силами, но сильных духом буров. Сесиль Роде, Китченер, Чемберлен были нам ненавистны. Президент Крюгер и генерал Ботта — вот наши герои.
Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Вслед за бурской войной [возникли] волнения в Китае, «Движение Большого Кулака» и речь Вильгельма о бронированном кулаке. Новый век начинался под знаком Марса. Пошли слухи о появлении в Тауэре тени английской королевы Виктории. Среди маминых знакомых поговаривали о конце света. Помню вечер, запомнившийся мне какой-то мистической жутью. В. М. Сикевич, автор полемических «Цветов просвещения», читал отрывки из «Трех разговоров» Владимира Соловьева. Шел разговор о панмонголизме как предшественнике конца истории. Никто из старших, ведших беседу, не обратил внимания на десятилетнего мальчика, который цепенел от ужаса, вслушиваясь в этот разговор
взрослых. Конец истории, конец мира. Мне казалось, что я слышу широкий поток всемирной истории, волны которого вот-вот сорвутся в какую-то пропасть. Тень легла на весь мир. Несколько дней я бродил сам не свой, пока не отправился к Фортунатовым. Веселый смех последовал на мой тревожный вопрос. Но мое религиозное сознание требовало доказательств не от разума. И мне сказали: «Не весте ни дня ни часа в оный же Сын человеческий приидет»4. Это показалось вполне убедительным, и солнце вновь залило своим спокойным светом мир, омраченный в моем сознании беседой взрослых.
Летом 1900 года мама сняла дачу в Мотовиловке под Киевом за Васильковом. Васильков — один из центров Южного общества декабристов, связанный с одним из наиболее симпатичных его членов С. И. Муравьевым-Апостолом. В Мотовиловке имел место бой с правительственными войсками восставшей части во главе с Бестужевым-Рюминым. Все это я узнал позднее. В том же году, когда мы впервые проводили лето в Мотовиловке, это было для меня лишь дачное место.
Мне не был симпатичен этот дачный быт, напоминавший быт из истории похождений Суркина. Вокзал — место гуляний мотовиловских франтов и модниц. Встречи, проводы и тот пошловатый смех, который называли inepta laetitia¹. Позже я узнал все это в стихотворении «Незнакомка».
И каждый вечер за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
После отхода почтового поезда гуляющие собирались в вокзальном зале, где почтмейстер выкрикивал имена адресатов полученных писем. При вокзале был и театр, устроенный в товарном отделении. Играла труппа любителей, организованная артистом Вербатовым (гимназистом восьмого класса Войцеховским), юношей со сросшимися бровями над близко поставленными глазами. В нем все было театрально, начиная с манер и интонаций. Особенно нравился мне в этой труппе гимназист Ваня Павлищев, исполнявший роли простодушных типов. Из этого Вани Павлищева вырос народный артист И. Н. Берсенев.
Мы жили на даче со старыми знакомыми моей мамы семьей Галенко. Глава этой семьи напоминал мне Короля из «Гекельберри Финна». Сын его дочери Екатерины Александровны Поповой — Саша («Попик») стал на долгие годы моим другом, и сейчас мы подписываем наши письма «amicus tuus frater que aeternus»².5 Это был жизнерадостный мальчуган девяти лет, страстно увлекавшийся театром и постоянно декламировавший сцени-
4 Евангелие от Матфея, 25:13.
5 Воспоминания А. П. Попова о Н. П. с приложением копий писем последнего хранятся в ОР ГПБ. Ф. 27. (Сообщено Н. Б. Роговой.)
ческие отрывки. Его дядя — Коля Галенко — гимназист пятого класса, играл в труппе Войцеховского.
[Мы втроем решили организовать] свою труппу на даче Барсукова. Для начала поставили последнюю сцену из «Горя от ума», сцены из «Ревизора» (2-е действие) и последнюю сцену из «Женитьбы». Мне были первоначально доверены лишь молчаливые роли — Степана («Женитьба»), Осипа («Ревизор») и Фильки («Горе от ума»). Но вскоре во мне был открыт «талант» и мне поручили роль жениха в «Предложении» Чехова. Я сумел справиться и с «сердцебиением» и с «тиком в правом глазу».
В спектакле все увлекало нас. И писание афиш, где значилось: антрепренер Соловьев (псевдоним Коли Галенко, походило на Соловцев, фамилию антрепренера известного театра — ныне им. И. Франко); режиссер Н. Круглов (это был мой псевдоним), и изготовление занавеса, и расстановка стульев для зрителей, и переодевание с гримировкой. Пробкой я рисовал себе брови, матросская черная курточка преображалась во фрак. Играл я с упоением, с полным перевоплощением, веря в то, что Угадай действительно лучше Откатая, и что «Воловьи лужки» — действительно мои. Я имел большой успех у зрителей, и зрители постоянно требовали возобновления спектакля «Предложение». На этом началась моя актерская карьера, на этом и кончилась.
Саша мне постоянно рассказывал об актерах театра Соловцева, эти имена были окружены каким-то сиянием в моем воображении. В особенности много рассказывал он мне о постановке романа Достоевского «Идиот», и с образом князя Мышкина я сроднился очень рано.
В Мотовиловке Саша и я держались обособленно от дачников, наших сверстников. Здесь были дети профессора Флоринского (их отец-профессор был впоследствии расстрелян ЧК, а один из братьев, Дмитрий, был крупной фигурой в Наркоминделе) — лощеные франты, презрительно посматривавшие на нас. И вся их компания нарядных девиц и благовоспитанных кавалеров была нам весьма антипатична. Мы назвали их «аристократами» и обменивались руганью, с употреблением латинских слов sus¹ и stultus², которые тогда звучали для нас очень свежо.
С живым интересом присматривался я к «хохлам», к этим «дидам» в широких шароварах, подпоясанных широкими поясами, в «брилях» (особые головные уборы); к этим «дивчинам» в монистах, с венками на головах (не увижу ли среди них Оксану или Катерину). Мне запомнилась ночь накануне Ивана Купала, когда на пруду Мотовиловки появились десятки венков со свечами, а дивчины пели песни, такие мелодичные, следя жадными глазами, чья свеча потухнет первой (той первой найти суженого). Те же дивчины внезапно с хохотом набрасывались на парубка и бросали
его в воду. Фыркая как водяной, выбирался парубок на берег и отряхивался, как пес, вылезший из воды. Все это было окрашено в моих глазах гоголевским колоритом и было бесконечно мило, так же мило, как эти белые, чистые мазанки-хатки с их садиками, где цвели подсолнечники, созданные по образу и подобию солнца, и разноцветные мальвы. Мне вспоминались мои новоалександрийские впечатления и здесь я чувствовал себя на родине6. Одно огорчало меня в Мотовиловке: со мною не было Фортунатовых. Они гостили у своей бабушки Данилович в Черниговской губернии в имении Степановке.
И я ждал с нетерпением осени, чтобы вновь соединиться с ними.
6 «Никогда позднее, — писал Н. П., — я не сознавал себя так остро, болезненно остро русским, как тогда, в Ново-Александрии. И это несмотря на то, что я принадлежал к «господствующей национальности». Происходило это по двум причинам, в своей совокупности усиливавшим свое воздействие на сознание отрока. Полу французская семья Делоне, француженки и немки, все проникнутые национальной гордостью, возбуждали во мне инстинктивное утверждение в себе сознания, что я чисто русский и что русским быть не только не постыдно, наоборот, даже очень хорошо. Это был инстинкт утверждения своей личности в своем народе и его культуре. Другая причина была — это окружение в Пулавах русских поляками и евреями. На нас смотрели евреи недружелюбно, опасаясь оскорбительных выходок, к которым их приучила детвора, и русская, и польская. Но этого отношения я тогда не понимал, а недружелюбные взгляды и возгласы побуждали меня и моих товарищей к дурным выходкам, задевавшим еврейских ребят».
Глава IV Отроческий мирок
Глава IV.
ОТРОЧЕСКИЙ МИРОК
Федя был в упоении от жизни в имении, в деревне. К даче он отнесся с величайшим презрением. В нем проснулся помещик-хозяин. Эти интересы позднее окрепли, и, когда Федя кончал гимназию (экстерном), все были уверены, что он поступит в сельскохозяйственный институт Петровско-Разумовского. Я, подтрунивая над Федей, говорил — быть тебе предводителем дворянства. Он и теперь похож на предводителя — высокий, статный, с окладистой бородой, с уверенными и изящными манерами, слегка картавящий, с цветистой речью, всегда сдобренной шуткой. Страстный любитель и знаток лошадей, постоянный созерцательный посетитель скачек и бегов. Из него действительно мог бы выйти и помещик-хозяин и предводитель дворянства (несмотря на все его демократические и социалистические симпатии и теории). Я, посматривая на него, вспоминал: «Предводителев жеребец—удивление всей губернии». Вот владельцем такого «удивительного» жеребца я представляю себе Федора Фортунатова.
Вскоре Федя вновь слег из-за своего аппендицита. Моим товарищем по бродяжничеству сделался Гриня. Братья, любя друг друга, не ладили между собой. Федя постоянно дразнил младшего брата и доводил его до несвойственных ему вспышек гнева, когда «Мут», нагнув голову, бросался его бить, или же, схватив его, «вонзал» в плечо Федора свой подбородок, «острый, как кинжал». Гриня в тот год увлекся Достоевским, в особенности «Братьями Карамазовыми». Но до Достоевского ни я, ни Федя не доросли. «Мут у нас филёсоф», — насмешливо говорил Федор о младшем брате, всегда задумчивом и молчаливом. (Гриня вместо «л» долго говорил «р», а позднее и уже навсегда — мягкое «ль»).
В фортунатовский дом ввела своих двоих детей еще одна мать, потерпевшая семейный крах — Елена Николаевна Белокопытова (об этой семье я писал в очерке Villa Schiller). Она также хотела воспитать их под сенью этой прекрасной семьи.
Старший Вова (Всеволод) был моложе меня на год, младший Туся (Константин) — на три года. Мальчики Белокопытовы жили в собственном доме (на Бульварно-Кудрявской) между Фортунатовыми (Обсерваторный переулок) и мной (Подвальная, №29). Эта территориальная близость способствовала нашему сближению.
Из Мотовиловки я привез новую игру — в рыцари. Родилась эта игра так. В тетрадке я рисовал (увлекшись Вальтером Скоттом) рыцарей, поколение за поколением, по библейскому принципу: «Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. Сыны Арама: У ц, Хул, Гефер и Мешех. Афраксад родил Салу, Сала же родил Евера, у Евера родились два сына»7. Я давал иные имена: Эдуард, Ричард, Роланд, Роберт и т.д. И каждому сочинял биографию. В один прекрасный день я вырезал своих рыцарей, аннулировал их родственные связи, сделал их современниками друг другу. Первоначально мелом наносились на досках пола: карты с замками, городами, деревнями, реками и горами. Позднее деревни, города и замки стали в схематическом виде наноситься на планы из склеенных крахмалом листов бумаги. Игра заключалась в осадах замков и городов. Стены замка пробивались ударами ножа. Пока стена не пробита, в осажденных нельзя ударять ножом. Убитыми считались те, кто получил удар в глаз, ранеными — те, кто получил удар в лоб. Остальное было закрыто шлемом. (Ранение в другие части лица не считалось опасным.) Наряду с войнами устраивались турниры. На турнирах удары наносились карандашом. В каждом замке кроме семьи рыцаря были: дворецкий, оруженосец, герольд, паж, шут, тюремщик и отряд солдат с их начальниками. В Мотовиловке к игре примкнули Саша и его сестра Лина. В Киеве моя игра была восторженно принята Навашиными и вступившими в наш круг Белокопытовыми. Примкнул к ней и Гриня. Федя покровительственно наблюдал за ней, сам не имея своих рыцарей. В наших домах возникли целые фабрики рыцарей. Федя, лежа на одре своей болезни, охотно и со вкусом рисовал нам все категории людей эпохи феодализма, потребных для нашей игры, придумывая им характеры. Рисование рыцарей было едва ли не столь же увлекательно, как игра с ними. Мы начали коллекционировать краски, именно коллекционировать, подбирая самые разнообразные сочетания их и оттенки. Здесь были и индиго, и сольферино, и кобальт, и всеми любимый кармин. Краски покупались кирпичиками с рельефным изображением палитры. Лучшие из них — в серебряной обертке, как плитка шоколада. Митя покупал «медовые» краски, в особых коробочках (очень дорого).
Между мной и Митей вспыхнула борьба за первенство в дружбе с Федей, и тот забавлялся нашей борьбой и ревностью. Пылкий Митя доходил до слез. Позднее, через много лет, Федя мне признался, что все его симпатии были на моей стороне, и подарил мне карточку с надписью «Моей первой любви».
Рыцари, нарисованные Федей, считались у нас лучшими и
7 Первая кн. Паралипоменон, 1:17—19. Цитата приведена нами по современному изданию Библии.
вызывали зависть к тем, кому они доставались. Для хранения рыцарей были использованы великолепные деревянные коробки из-под гаванских сигар профессора Навашина.
Праздник. Звонки. Один за другим, без опоздания, приходят игроки со своими рыцарями. Все располагаются на полу. Внимание сосредоточено. Все молчат. Мелом наносятся планы. Размещаются войска с учетом расположения местности. Завязывается бой. Слышатся удары ножом по полу. Страсти разгораются. Митя подвывает, в его руках не нож, а острая палочка из черного (эбенового) дерева. Он слишком горячится, чтобы удары его получали нужную легкость. Бой кончен. Поле покрыто трупами. За кем победа? За Англией, за Саксонией, за Бургундией? Чье знамя развевается на холме? Рыцари вновь в коробках из-под гаванских сигар. Но что стало с полом? Моя аккуратная мама чуть не плачет. Пол похож на лицо переболевшего натуральной оспой.
Турниры протекают в более мирной атмосфере и, вместе с тем, более праздничной. Широкий квадрат, окруженный рыцарями, дамами, пажами, оруженосцами, пестрыми герольдами. У рыцарей шарфы цвета их дам. Шарфы изготовлялись из ленточек, которыми промокательная бумага была прикреплена к тетрадям писчебумажных магазинов Чернухи или Тейфеля.
Участники турнира прикрыты щитами. На каждом — девиз на латинском языке и герб. Митя, торжественно растягивая слова, возглашает: «Ви-хо-дит ге-рольд и... ви-хо-дит» и тут пронзительно громко выбрасывал имя рыцаря: «Лорд Суффольк фон Эссекс».
Победитель получал щит побежденного и венок от королевы турнира. Бывали у нас и заговоры: преступников казнили. Казни бывали жестокие. Быстрым закрытием лезвия перочинного ножа положенный на рукоятку рыцарь лишался головы. Это была легкая казнь. Тяжелых преступников клали в часовой механизм и заводили его. Это было колесование. Рыцарь выходил искромсанный колесами. Еретиков инквизиторы сжигали на свечке.
Устраивались и крестовые походы. Были у нас и сарацины, и нубийцы. Гриня-философ ввел разновидность [героев] — их назвали «шкавалеры». Это были философы-скептики, независимые бедняки, которые не признавали существующих порядков. Инквизиция преследовала их как еретиков. Конечно, большую роль играли разбойники, похищавшие и рыцарей, и дам. Одной шайке удалось захватить в плен короля Артура Баварского. Из-за отказа в выкупе король Артур был высечен разбойниками. Владелец его Вова Белокопытов слег от огорчения с высокой температурой после часового рыдания. Его мать была глубоко уверена, что в постель ее сына свела поруганная честь короля. Выздоровев, Вова жестоко отомстил разбойникам. Поймав некоторых из них, он ввинтил их в металлические шары, украшавшие его кровать. Когда шары были отвинчены — вывалилась бумажная труха. Честь короля Артура была восстановлена.
Особенною популярностью пользовался Фальстаф и его свита: Бардольф, Пистоль и Ним. Эти персонажи Шекспира сильно возбудили наше воображение. Каких только новых приключений мы не сочиняли для них! Шекспиром зачитывались все. Страницами знали его наизусть. Конец Ричарда III я помню до сих пор (последнюю его ночь с кошмарами и гибель). В то время предпочтение отдавали мы историческим драмам английского гения. Конечно, и в рыцарской игре проявилась моя мечта о «вечном мире», о «золотом веке». Мой шотландский рыцарь Годвин с длинной седой бородой снял с себя плащ и перья и оставил только цепь, как знак своего достоинства. Он удалился в свою скромную «обитель», где сохранилась патриархальная простота, где жизнь народа гармонировала с жизнью природы. И Годвин со своими сыновьями (за исключением Тостига: в семье не без урода) зажил заодно со своими вассалами, слил свою жизнь с их трудовой жизнью, в заботах об их благополучии и просвещении. (О Л. Толстом я еще ничего не знал, кроме того, что он отлучен от церкви, за что я его не любил.) Когда я создал себе новое государство — герцогство Монферрат в Италии, на смену Годвину явился Тито Ланческо, оставивший такую же светскую обитель.
Между тем мои исторические интересы перешли от Эллады к Риму. На елке у Фортунатовых я получил в подарок квитанцию на получение по подписке истории Рима Вегнера (издание Вольфа) и я стал с жадностью получать книжку за книжкой этого иллюстрированного издания. Интересовал меня и республиканский Рим, и мифические цари и герои Республики, суровые и величественные Муций Сцевола, Курций, Регул, в особенности Публий Сципион. Гракхи тогда еще мало затронули меня. Больше всего увлек меня период Принципата и падения Империи. На это же время падает и увлечение «Катакомбами» Евгении Тур и позднее романом Сенкевича «Quo vadis?» — [книгой, одной из] наиболее потрясших меня в детстве. Само слово «Рим» сияло ослепительными лучами. И опять-таки я полюбил его не за силу, а за трагедию, за «закат звезды его кровавой»8. Я запомнил имена всех цезарей от Августа — кончая Александром Севером (одним из моих любимцев). И Алексей Федорович, экзаменуя меня, посмеивался и говорил: «Доктор Николай Павлович Анциферов за Пертинаксов, а я против», т. е. против мелочей в истории. (Пертинакс — император, поставленный преторианцами и правивший несколько месяцев.) В особенности полюбилась мне плеяда принцепсов, следовавших за Нервой, и кончавшаяся Марком Аврелием.
В тот год (1901—1902) жили мы в Десятинном пер., №7, в древнейшем районе Киева — Детинце, у Десятинной церкви. Наш дом стоял на краю обрыва — оттуда открывался просторный вид на сады и лачужки киевской бедноты. По воскресным дням я отправлялся на близлежащий Подол. Путь шел мимо Андреевской церкви Растрелли, царившей над городом, церкви легкой и наряд
8 Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон» («Оратор римский говорил...»).
ной. Оттуда открывался еще более прекрасный вид: на Подол, на Днепр и Заднепровье. Крутая деревянная лестница вела к Подолу.
Этот приречный район Киева обладал особой притягательной силой: там была старая бурса, где учились сыновья Тараса Бульбы, а также Хома Брут; там были «Контракты» — ежегодная ярмарка, устраиваемая Великим Постом — с веселыми пряниками и казанским мылом «Свежее сено»; там [шумел] птичий базар на площади Подола, где был фонтан «Самсон», изувеченный временем.
У старых евреев (теперь они уже были для меня не Янкели, а Шейлоки) можно было купить старинные монеты, и я рылся в груде, которую они высыпали со звоном из грязных, но очаровательных таинственных «волшебных» мешочков на прилавок, выискивая в этой груде рельефные головы римских принцепсов, обмирая от радости, когда встречал недостающего цезаря: с жилистой шеей и горбатым носом Веспасиана, с курчавой бородкой щеголеватого Адриана, со сплюснутым вытянутым черепом Валентиниана (это уже эпоха упадка). Монеты, как и их владельцы — старые евреи, — были реликтами иного мира.
Потом я любил взбираться по ветхой лестнице в ожидании того счастливого мгновения, когда приду в свою комнату, достану свой комодик, вывезенный еще из моей детской в отчем доме в Крыму, выдвину ящик, раздвину ряд монет и вставлю новую туда, где ей повелевает лечь хронология. Как я любил эту вереницу голов, таких разнообразных, таких выразительных, на которых отложились тысячелетия.
Вскоре к моим увлечениям присоединилось новое — совершенно из другого мира — певчие птицы. Это увлечение также вело меня к щелкавшим, расшатанным ступеням на Подол. Подоконник моей комнатки украшали клетки, где жили: синицы, чижи, снегири, перепелки <...>9.
Чудесное время, когда так свежи, так ярки «все впечатления бытия», и, вместе с тем, когда душа отрока, еще скованная родом, традицией, не вступила в «негативный период» своего развития, когда еще не наступило для нее время «бури и натиска»!
Еще одно увлечение ввергло меня в те годы в вихрь волнующих чувств, скорбей и восторгов: это театр <...>. Все это обычно, и не стоит об этом много писать, да я и не сумею должным образом описать эту «театральную болезнь юности» <...>.
Мама не сочувствовала <...> .моему увлечению <...>10. «Коля, если ты с этих лет начинаешь увлекаться актрисами, что же будет дальше?» Как часто эту ошибку повторяют и профессиональные педагоги, забывая о своеобразных болезнях, присущих каждому возрасту. Моя дочь Танюша еще более ярко была <...> одержима театральной болезнью. Я вспоминал свое отрочество и слегка охлаждал ее пыл, не мешая ей, по крайней мере, стараясь не мешать. Разница только между моим и ее увлечениями
9 Опущено: дневник наблюдений над птицами, любимая из них — лазоревка, чтение книги Д. Н. Кайгородова «Из царства пернатых».
10 Опущено: увлечение Н. П. оперным театром, участие в этом увлечении братьев Александра и Федора Фортунатовых, любимые певцы: Цветкова, Ковелькова, Бочаров и др., высокая оценка театральных воспоминаний А. А. Фортунатова, гастроли Шаляпина, «тайная любовь» Н. П. к сопрано Шульгиной.
в том, что Танюша была всецело поглощена театром, а я совмещал свое увлечение и с историей (Рима и Средних веков), и с игрою в рыцари, и с коллекционированием монет, и с птицами. Много было у меня противоядия театральному яду.
Ну, а как же обстояло с учением? Мама соединила меня с Вовой Белокопытовым, и он оказался мне под пару. Учителем нашим был Костя Фортунатов. В том же году (1900—1901) он только что поступил в университет на физико-математический факультет. Я так ясно помню его юное, чистое лицо, которое еще в Ново-Александрийской церкви11 произвело на меня такое глубокое впечатление. Теперь Костя был в голубовато-серой тужурке студента, которая была ему очень к лицу. Алексей Федорович признал в Косте «настоящего студента», и он получил звание «первого студента» — «вторым студентом» признал он меня12. (Ни Саня, ни Федя, ни Гриша не получили этого почетного в устах Алексея Федоровича звания.)
Уроки происходили в доме Белокопытовых, в комнате с многочисленными птичьими клетками, в комнате, где свободно порхали чижи, снегири и щеглы. Это было нам по душе. Наш учитель Костя не только превосходно вел нас по тропам школьного учения. Всегда ясный, веселый, иногда чуть насмешливый, он старался воспитать наш ум (в особенности мой). Он хотел вывести нас из туманной дали голубой романтики в современную жизнь, оторвать наши мысли от прошлого и направить их к грядущему дню. По существу это были первые уроки социализма, хотя это слово тогда не было сказано. Костя старался охладить безграничное преклонение перед рыцарскими временами, преклонение в духе Жуковского, т. е. в духе сентиментальной романтики. Костя подтрунивал, например, над нашим увлечением одеждами феодальной эпохи и восхвалял простоту, строгость и удобство современной одежды. (А я должен был возражать ему словами Чацкого о фраке и о старорусской одежде.) Костя рассказывал нам много о Соединенных Штатах, об их демократии, об успехах техники. (Тогда впервые я услышал о тракторах.) Он читал нам «Без языка» Короленко. Все это было чуждо нам, даже враждебно. Но от Кости веяло таким душевным благородством, такой крепостью и бодростью, что мы слушали его с полным доверием и симпатией. Скажу только о себе: все же я нисколько не был сбит со своих пассеистических позиций. И несмотря на это, Костя навсегда остался для меня выражением того лучшего, что есть в русском интеллигенте (...)13.
Осенью 1902 г. меня как громом поразила весть: Фортунатовы переезжают в Москву. Алексей Федорович возвращался в свое Петровско-Разумовское. И как мы потянулись за ними из Ново-Александрии в Киев, так теперь из Киева потянулись за ними Белокопытовы. Мама на этот раз отказалась менять город: «Ну, а если они из Москвы уедут в Петербург, мы снова потянемся за ними?!» Фортунатовы уехали, и Киев для меня опустел.
11 Там Н. П. впервые увидел братьев Фортунатовых.
12 «А.Ф. Фортунатов говорил, что его лучшими друзьями и единомышленниками на протяжении жизни были старший сын Константин, Александр Герцен и Фридрих Энгельс» (Фортунатов И. К. Биография К. А. Фортунатова — Архив Н. И. Фортунатовой, Москва).
13 Опущено: судьба К. А. Фортунатова, работа санитаром в 1905 на баррикадах Пресни, женитьба на медичке В. М. Золотаре вой, работа земским врачом, смерть от тифа в Гольдапе (Восточная Пруссия) в январе 1915, поездка А. А. Фортунатовой на похороны сына. Дальнейшая жизнь вдовы В. М. Фортунатовой, встреча с ней Н. П. в 1909 г., ее слова о счастье брака.
Единственный из братьев Фортунатовых — Александр, вопреки желанию родителей, поступил в шестой класс Киевской первой гимназии. Он не уехал с семьей, хотел кончить свою гимназию. Саня брал уроки у моей мамы и бывал у нас, застенчивый и молчаливый. Приблизилась весна 1903 г. Мы получили приглашение от Фортунатовых приехать к ним на Пасху вместе с Саней.
Ранняя весна. На деревьях Петровско-Разумовского уже раскрылись почки. Гомон птичьих голосов заполнял аллеи старого парка. Дом, где жили Фортунатовы, находился в самом парке. Это было белое двухэтажное здание с балконом, выходившим против центральной аллеи. С каким радостным волнением поднимался я по ступеням этого старого дома. С каждым приездом все более крепла моя сыновняя связь с Алексеем Федоровичем. И здесь вокруг каждого из его сыновей образовалась школа на дому, где Алексей Федорович преподавал все предметы товарищам его сыновей и дочери. Подрастал и младший в роде, родившийся в Киеве «последыш» Миша <...>.
С тех пор, едва ли не каждый год поднимался я по ступеням белого фортунатовского дома. Каждый раз я ощущал пройденный мною путь и свое изменение, созревание. Я это ощущал потому, что дом Фортунатовых стал для меня отчим домом, и подъем по этим ступеням стал чем-то вроде обряда. И как я грустил, когда в 1915 году мне пришлось уже подниматься по ступеням другого дома, чтобы посетить Фортунатовых.
Волны времени смыли этот дом и рассеяли сыновей Фортунатовых. Только одному из них удалось создать семью и дожить в ней до старости. Преемником Алексея Федоровича в этом смысле явился Саня. Он создал крепкую семью, которую бережно обходили удары судьбы. Сам построил себе в Лосинке дом, окруженный садом, в одну квартиру с лесенкой внутри. Это хорошо для уюта. В этом доме собрал Саня многое из вещей своего «отчего дома». А в кабинете его есть шкаф, где собраны труды всех Фортунатовых: братьев, отца, дяди Филиппа (известного лингвиста-академика), дяди Степана (историка), деда и предков. Здесь лары и пенаты Фортунатовых. Но этот фортунатовский дом принадлежит уже другой эпохе14.
14 Значительная часть архива Фортунатовых хранится ныне в ОПИ ГИМ. Дом в Л осинке вместе с частью библиотеки и рукописных материалов сгорел в 1975.
Глава V Конец отрочества
Глава V.
КОНЕЦ ОТРОЧЕСТВА
Каждый возраст имеет свою природу, со своими красками и формами, запахами и звуками, со своим пространством и своим временем. Природу я любил во все периоды жизни. Любил ее по-разному, потому что она менялась, все новым наполняясь содержанием.
В зрелые годы я сознавал, что воспринимаю пейзаж в целом, и через целое воспринимал детали. Так художник Кватроченто
творил свои картины, присоединяя одну схваченную деталь к другой, а чинквечентисты и сейчентисты — писали целое, вписывая в него подчиненные ему детали. В годы отрочества, как и в годы детства я был кватрочентист. И все же природа моя в годы отрочества была уже не той, что в младенческие годы. Совершенно изменилось чувство пространства. Пространство больше не давило сознание; я уже преодолевал его. Изменилось и звездное небо. Оно перестало быть грозным в своем величии. Его бесконечность уже начинала тогда пробуждать томление., какие-то смутные порывы к слиянию. Душа «уж с бесконечным жаждет слиться»15. Но это еще очень смутно.
В мире больше не создавалось символов (горы, деревья). Каждая вещь в природе влекла к себе сама по себе в своей ограниченной бытийности. Вместе с тем все явления были полны одного общего дыхания <...)16.
После отъезда Фортунатовых и Белокопытовых я привыкал к одиночеству. Саша Попов не мог мне заменить уехавших друзей. Я очень много читал, никем не руководимый. Я прочел всего Вальтера Скотта, а за ним всего Диккенса. Диккенс уводил меня в иной мир, близкий нашему времени, мир, который я воспринимал как современность. Мне был понятен этот мир. Люди разделяются на добрых и злых. Добрые должны торжествовать над злыми. («Наше дело правое, и мы должны победить»). Бог помогает добрым. Этого требуют и справедливость, и милосердие. Страшный суд творится Всемогущим здесь, на земле. Если праведник гибнет (Нелли — в «Лавке древностей», Смайлс — в «Николасе Никльби»), то гибель это тихая и ясная, как вечерняя заря весной. В ней есть нечто примиряющее со смертью, она уже освещена вечностью. В романах Диккенса я нашел своих любимцев, которые были любимцами автора. Эти «Иванушки-дурачки» русских сказок, «нищие духом», которым в заповедях блаженства обещано царство небесное. (В «Давиде Копперфильде» — Традельс, Дик, в «Домби и сыне» — Туте, в «Лавке древностей» — Кит, в «Николасе Никльби» — Смайлс, в «Мартине Чезлвите» — Пич и т.д.). Редкий роман Диккенса обходился без такого блаженного нищего духом. Не случайно Достоевский назвал английского романиста самым христианским писателем.
Читать я любил больше всего по вечерам, у себя в комнате, при закрытых ставнях, при свече. Этот полумрак открывал пути моей фантазии, и воображение мое легко переносилось в жизнь иную.
Не имея вблизи себя друга, с которым я мог бы обмениваться всем, что тревожит ум и волнует чувства, я начал привыкать к замкнутой внутренней жизни, к молчанию, к безгласным думам. Подчас мною овладевали безотчетные страхи, но среди страхов один имел свое имя — это страх смерти. И пережит он был мною в вечерние часы за романом Диккенса. Это особый мистический страх смерти. На мою веру в загробную жизнь не падало тогда ни
15 В стихотворении Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..» ст. 11—14: «Как жадно мир души ночной//Внимает повести любимой!// Из смертной рвется он грудин/Он с беспредельным жаждет слиться!..»
16 На опущенных страницах: лето 1901 в имении Белокопытовых «Дубрава», отец семейства Н. Н. Белокопытов, его культуртрегерские попытки; соседи Белокопытовых; коллекционирование птичьих яиц и перьев, собирание бабочек. Летние месяцы 1902 и 1903 на даче в Мотовиловке под Киевом, увлечение птицами.
тени сомнения. Но именно тогда я переживал весь ужас конца жизни, за которым следует неведомое. Я молился, но рука моя, осенявшая меня знамением креста, дрожала от ужаса.
В Мотовиловке 3 года назад я пережил другой, близкий этому мистический страх — конца мира. Оба эти страха теперь соприкасались и сливались в одно чувство, в одну мысль: о бренности всего живущего. Мне нечем было преодолевать этот ужас — его преодолевала, и преодолевала навсегда — сама жизнь, она не дала никаких ответов, но она утвердила мою душу в своем бесконечном потоке и успокоила ее.
(Я верю в бессмертие, но я не знаю, что душа бессмертна, и обратно: я знаю, что умру, но я не верю в свою смерть.)
Как-то вечером мама читала своей племяннице Христе Курбатовой — «Черного монаха» Чехова. Этот образ пронзил мое воображение. Черный монах представился мне кораблем, который, рассекая волны времени, бегущие ему навстречу, рвется вперед через века. Набегают и убегают все новые волны, а корабль им не подвластен, он идет вперед и вперед, оставляя их позади себя — убегающими в бесконечность былого.
Этот образ имел какое-то отношение к моим смутным тогда мыслям: о смерти, о борьбе со временем, об истории, но мысли эти были очень не отчетливы¹.
Иногда в мой замкнутый отроческий мирок вторгались события из внешнего мира, словно метеор из космического пространства. Убийство в Сербии царя Александра Обреновича и его супруги Драги, воцарение Петра Карагеоргиевича. Эти события напоминали события из нашей рыцарской игры. Летом того же 1902 года умер папа римский Лев XIII. «Что ему Гекуба и что он Гекубе?», но я почему-то с большим интересом отнесся к выборам нового папы, к конклаву. Я знакомился с характеристикой всех кандидатов. Читал о них, где только мог <...>17. Мне эти кардиналы напомнили рельефы голов римских императоров на монетах моей коллекции. Мне казалось, что и я в числе римлян, где-то у Тибра с нетерпением жду появления дымка над зданием, где заседает изолированный от всех конклав. Этот дымок означал сожжение поданных избирательных бюллетеней <...>18.
Но вот в мою жизнь вторглись события, про которые не скажешь «Что мне Гекуба?» Внезапное и вероломное нападение на Россию Японии. Как ни далеко пылала война, где-то на краю света, но ее дыхание ощущалось всюду. Помню поезда мобилизованных, потянувшиеся мимо Мотовиловки на восток. Помню первоначальные разговоры взрослых о «макаках», «япошках» — такие презрительные — сменившиеся тревогой. Пасху 1904 года я проводил у Левандов, на своей родине, в Софиевке. Митя Леванда был в
¹ Я изложил их теперь в ненапечатанных статьях: «Герцен в борьбе со временем» и ««Историческая наука как форма борьбы со временем». (Прим. Н. П. Анциферова).
17 Опущена характеристика кандидатов на папский престол Капичелятро, Орельи, Рамполлы, Ванутелли.
18 Опущено: победа на выборах венецианского кардинала Сарто, огорчение Н. П., его встречи в Риме в 1911 и 1914 со своими «любимцами» кардиналами Рамполлой и Ванутелли.
Порт-Артуре — мичманом. Пришла весть о гибели «Петропавловска» вместе с Макаровым и далее цепь известий все более и более грозных. Какая-то судорога пробегала по огромному телу России, раскинувшейся на шестую часть планеты, и Дальний Восток уже начинал восприниматься как что-то близкое.
Мир переставал казаться таким устойчивым. А границы государств, которые я вычерчивал в Ново-Александрии, — не казались уже проведенными на бронзе. Уж не на песке ли чертила их Клио?
Детство мое заканчивалось смертью отца. И мой мир и мой дом — с ужасом понял я — подвластны каким-то жестоким и неотвратимым законам. Все, казавшееся мне созданным благим Отцом на века, не было вечным, все было под властью времени. Так, и отрочество мое заканчивалось» когда уже не мой дом, и не мой детский мир колебались, а дрогнула Россия и этот трепет, пробежавший по ней, ощутили и я с мамой, и все окружавшие меня.
А сердце мое, такое робкое, жаждало чувства устойчивости. Той твердой земли под ногами, о которой так тоскуешь во время качки на пароходе. Но качка началась уже на полвека, и кто знает, когда поколения людей опять ощутят землю под ногами. Это уже будет новая земля, открытая новым Колумбом истории.
А я крепко держался за старый мир. Я так мало знал его, но не зная любил, как привычный и родной; любил за то, что уже отходило в былое. Моим идеалом была патриархальная жизнь помещика, который заводит, однако, больницы и школы, который лично помогает крестьянам, зная нужды каждого из них в близлежащих деревнях. Меня пугал вид мастеровых, грязных и угрюмых, которые часто бывали пьяны, ругались и дрались. Крестьяне казались мне приветливее, степеннее. Их одежды — красивы и жизнь их гармонична. Мне хотелось тогда, как моему рыцарю Годвину, жить с ними одной жизнью. Хотелось иметь поместье, где можно встречать все времена года. Какое счастье жить с природой! Это от нее такой лад в крестьянах. Но и тогда уже мне были более любы кацапы с их окладистыми бородами, с их русскими рубашками и лаптями. В них я усматривал какое-то сходство с образами иконописи. Вспоминал своего Кузьму и его сына Сеню <...>19.
Как пламенно говел я в те годы, строжайше соблюдая пост, как трепетал перед исповедью. Темные одежды священнослужителей, полумрак, шепот — все приглушено, душа распростерта перед Богом...
А потом как жаворонок взвивалась она к небу с ликующей песней. Причастие, заутреня. Все стало белым, все засияло ослепляющим светом. Никакие сомнения ума еще не смущали душу. Владимир Соловьев в своем триптихе писал о юной душе:
Душа молилася неведомым богам.
Искать своего «неведомого» Бога, обретенного в муках сом-
19 Опущено: привязанность Н. П. к матери, страх ее потерять.
нений, — задача души созревшей. Душа отрока молилась тому Богу, который ей дан традицией, родителями, воспитателями. Это Бог ему данный, а не Бог найденный им, силою свободной и творческой веры, той веры, которая вслед за Тертуллианом готова сказать: «Credo, quia absurdum»¹.
Отрок, молясь Богу, не считает его «неведомым» — это Бог его отцов.
С атеизмом я столкнулся десяти лет. Он предстал мне в отталкивающем образе. У нас жила в кухарках жеманная женщина, уверявшая, что она — урожденная княжна Вяземская. Как-то утром она шумно вошла к маме и с негодованием сообщила: «Барыня, а Семен-то оказался безбожником». Мама с тревогой обернулась на меня. Семен был столяр, работавший у нас по починке мебели (в связи с переездом на Подвальную ул.). Этот Семен был пьяница, с красным лицом и большой бородавкой под носом, припухшими глазами. У него была клочковатая рыжая борода и красная рубаха. Семен был мрачен и очень груб. Глядя на него, я вспоминал земского Ярышку из «Юрия Милославского». Когда для рыцарской игры я рисовал палача, то прототипом мне был этот Семен. Его безбожие нисколько не смутило меня. Оно вызвало лишь интерес курьеза.
Года через два я услышал об учении Дарвина. Уже не помню, при каких обстоятельствах. Мысль о том, что человек происходит от обезьяны, а не от Адама, была мне оскорбительна. Но о дарвинизме говорили люди, внушавшие доверие. Это уже не Семен. Я был смущен, растерян. Тяжелое впечатление было парализовано чьей-то шуткой: «Дарвин выдумал свою теорию, изучая в зеркале свое лицо».
Еще более я был встревожен учением Ницше. Оно показалось мне отвратительным своей жестокостью. Быть же по ту сторону добра и зла — казалось мне — быть вне жизни, вне священного ее смысла.
Все более и более ощущал я, что в воздухе носились идеи, враждебные моему миру. Но продолжал крепко держаться за него, не имея вблизи друга, который помог бы справиться со всем, омрачавшим ясное небо моего патриархального миросозерцания.
Но что-то нарастало и во мне самом, грозило каким-то взрывом изнутри.
Какие-то новые чувства волновали меня, вызывали тоску, порождали тревогу. Эти чувства имели какое-то непонятное отношение к женщине. Я ничего не знал о тайне зачатия.
«Безвестных наслаждений тайный голод меня смущал»20.
А мысль становилась все требовательнее. Она ставила все новые вопросы, которые уже не могли оставаться безответными.
В Мотовиловке как-то вечером я гулял с Сашей Поповым. У него завязалась ссора с мальчишками. И я ясно услышал, как
¹ Верую, потому что нелепо (лат.).
20 Из стихотворения Пушкина «В начале жизни школу помню я...».
один из них пригрозил ему, что он побьет его мать. Эта угроза показалась мне чудовищной. Бледный, с дрожащим голосом я обратился к Саше: «Ты слышишь, этот скверный мальчишка грозит побить твою мать». Саша был смущен и ничего мне не сказал, а, к моему удивлению, только махнул рукой. В те годы слова имели для меня реальное значение. Пустых или мертвых слов, которые сотрясают душный воздух, для меня еще не существовало.
Вскоре, однако, я услышал эту брань отчетливее и понял, что речь идет не о битье, а о чем-то постыдном. Но о чем? Не о той ли тайне, которая связана с рождением человека. Теория, аиста меня уже не удовлетворяла. Я задумался над словом «целомудрие», встречавшимся в романах. Посмотрел в словаре Брокгауза и Ефрона, в котором привык искать ответы на возникавшие вопросы. В найденной статье мне попался новый термин — «растление», и так я шел от термина к термину и начал догадываться...
Разгадка потрясла меня. Разоблаченная тайна глубоко оскорбила во мне достоинство человека и на всю жизнь бросила тень. Помрачился мой идеал брака. Я мечтал о жене, похожей на Агнессу из «Давида Копперфильда». И мне думалось, что голубоглазая с русыми косами Маня Фортунатова, застенчивая и добрая, будет похожа на Агнессу. Вспомнился дом и сад в Крыму. Я ощущал музыку «сверчка на печи», и мне хотелось и в своей жизни услышать эту мелодию сверчка21. И вот между мной и этой мечтой возникла теперь преграда — разгаданная, постыдная тайна.
Как бы мне хотелось подумать вместе, побеседовать с Федей или Гришей. Но я был одинок. Милый Саша Попов, как-то очень просто, как мне казалось, бездумно смотрел на жизнь. Он меня не поймет.
Так заканчивалось мое отрочество в нашей чистой, уютной и нарядной квартирке в Десятинном переулке, в окружении книг, птиц, монет, рыцарей, В гимназию меня мама не отдала (влияние Фортунатовых). Я уже 2-й год держал экстерном при 1-ой гимназии, благополучно сдавая за учебный год экзамены <...>22.
21 Образ домашнего счастья, найденный Анциферовым еще в отрочестве в рассказе Ч. Диккенса «Сверчок на печи», стал одним из сквозных мотивов в его последующей жизни.
22 Опущено: домашние учителя Н. П. — латыш Альберт Иванович Витин и студент Киевского университета Владимир Николаевич Хандриков; слуга Анциферовых И. И. Землянский, его «простонародное западничество», желание прославиться и связанный с этим комический эпизод; приезд бабушки Прасковьи Андреевны; размышления Н. П. о своем мемуарном труде: «То, что здесь записано,—лишь материал к мемуарам. Я писал тем языком, на каком думаю, говорю, пишу. Я не искал ни языка, ни понятий моего отрочества. У меня нет дара воссоздать их. Я искал в памяти, что осело в ней от моего детства, и записал то, что нашел. Записал так, как понял уцелевшее в душе, уже затронутой надвигающейся старостью».
Часть третья. Prima vera
Глава I.Святошино
Глава I.
СВЯТОШИНО
Где с ранней юностью
Младенчество сливалось.
Пушкин
Свою юность я начинаю тем памятным днем, когда нас посетил в Десятинном переулке профессор Навашин.
Я лежал на кушетке и читал «Дон-Кихота», когда к нам вошел Сергей Гаврилович.
— А я за Коляночкой, что же он скрылся с нашего горизонта?
Навашиных я действительно потерял из виду. Уже 3 года ничего о них не слышал. В эти годы они приобрели дачу в Святошине и покинули Ботанический сад. Сергей Гаврилович сообщил, что меня ждут Митя, и особенно (подчеркнул он) Таня. Я должен заехать на следующий день в университет и вместе с ним отправиться в Святошино.
Сергей Гаврилович говорил медленно, чуть насмешливо. Еще раз меня поразила его аристократическая манера, в которой не было ничего от родовитости, от породы, все в нем от себя самого, от высокой умственной культуры и повышенного чувства собственного достоинства (...)1.
* * *
Сергей Гаврилович был председателем общества благоустройства Святошина. К нему все относились с большим почтением, хотя и не все любили его. Гордость и насмешка Навашина создавали ему врагов. Даже его коллеги, профессора, говорили с ним как-то особенно почтительно. С. Г. казался либеральным английским лордом, вигом. Александра Савельевна еще в большей мере, чем ее муж, высоко держала знамя своей семьи. Она часто говорила детям: «Помните, что вы — Навашины». За общим столом С. Г. остроумно и зло высмеивал своих посетителей, подмечая в них и дурную русскую речь, и невежество, и глупость. По существу это был добрый и очень деликатный человек, но сознание своего превосходства над окружающей средой и острый язык, который «для красного словца не пожалеет ни матери, ни отца» давали тон беседе. И все трое — Митя, Таня и Миша усвоили эту манеру. Миша был мал и не в такой мере, как старшие его собратья, воспринимал тогда атмосферу родного дома. Но Митя и
1 Опущено: встреча в Святошине с повзрослевшими детьми Навашиными, их трения с ханжой-гувернанткой, беседы с Митей Навашиным о поэзии Байрона, решение Анциферовых лето 1904 провести в Святошине.
Таня чувствовали себя высоко в замке, отдаленном от прочего мира валами и рвами, и сообщались только из нужды с ним через опускаемый подъемный мост (...)2.
2 На опущенных страницах: увлечение Шекспиром, Дюма и Байроном; святошинский дневник Н. П., отражение в нем стыдливости и замкнутости автора: «Основное содержание этого лета — была борьба за устои своего диккенсовского миросозерцания». Споры о Байроне, чуждость его демонизма для Н. П. Дружба с Т. Навашиной, ее отношение к вере. Кризис детской веры Н. П. Влюбленность его в Т. Навашину, насмешки над ним младшего брата Навашиных — Михаила. Поездка в Межигорье — монастырь на Днепре. Известие о смерти Чехова. Приезд родственника Шуры Ярославцева, его поверхностность. Детские развлечения, влюбленности Мити Навашина.
Глава II.В башне рыцарского замка
Глава II.
В БАШНЕ РЫЦАРСКОГО ЗАМКА3
...Игра в войну... в разбойники, — это ведь тоже... зарождающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представление на театре, только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры.
Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы», XII, стр. 635 (Поли. собр. соч. Спб„ 1895]
Основным содержанием нашей святошинской жизни была игра в рыцари. Мой дневник того лета (1904 г.) полон записей об этой игре. У играющих не было теперь особых государств. Мы все сошлись на одном, и это, конечно, была родина Шекспира — Англия.
Благодаря способности Мити к рисованию у нас значительно повысилось качество наших рыцарей. Процесс рисования, придумывание одежды, подбор красок, характеристика лица, биография — все это было интересно само по себе.
Игра первоначально вращалась вокруг демонической личности Байрона Монтегю, смелого заговорщика, стремившегося к захвату власти при помощи «черни», обитавшей в припортовой части Лондона. К концу лета, вероятно в связи с приближением нашего поступления в гимназию (мы трое: Митя, Таня и я впервые должны были вступить в стены казенного учебного заведения) наши интересы сосредоточились на школе, попечителем которой был любимый Танин рыцарь — герцог Йорк. Школа была построена по принципу совместного обучения. Директором школы был первоначально епископ Оксфордский, распутный прелат, вскоре разоблаченный и смещенный. У него был ключник, пьяница с заплывшими глазками, который всюду рыскал, все вынюхивал и доносил. Он же был сводник. После скандала, вызванного разоблачением епископа, директором школы явился епископ Кентерберийский, почтенный и ученый муж. Среди учеников был сын испанского посла Дон Жуан Арчвелла, доставивший много хлопот школьному начальству. Когда на уроке английского языка была задана тема «Что испытывает благочестивый католик в храме», он написал деистическое стихотворение. В памяти сохранилась у меня одна строка:
Колени не склоняя, молюся духу я.
Юный Дон Жуан чуть не попал под суд инквизиции. Едва доброму Йорку удалось замять дело. Еще худший скандал выз-
3 Ср. размышления Н. П. о смысле игры в прим. 17 к части первой.
вало стихотворение на странную тему: «Что испытывает английский патриот, покидая поле брани». Дон Жуан написал:
Отступать так отступать,
Что жив этом нет проклятья:
Я спешу скорей бежать
Ко возлюбленной в объятья¹.
В Йоркской школе обучалась и красавица-дочь герцога Йорка Тереза. У нее были глаза, похожие на весенний цветок вероники. Одежда ее отливала! тонами перламутра. Она была прекрасна, ветрена и горда. В нее был страстно влюблен юноша Люцио Пакенгейм, ее товарищ по школе. У него был соперник — веселый трубадур Жюисак. Тереза принадлежала Тане, Люцио — мне, Жюисак — Мите. Да и не один трубадур был соперником бедного моего Люцио. Люцио был одет в черный камзол, отделанный пурпуром и голубым. Он носил золотую цепочку. Лицо у него было окаймлено каштановыми кудрями, бледное, с глубокими, синими глазами. Он увлекался философией Спинозы, но Тереза рассеянно слушала его рассуждения о единстве субстанции. Любимым предметом учеников Йоркской школы была геральдика, эта рыцарственная наука. Рыцари часто ссорились между собой и между ними возникали дуэли. Но мгновенно забывались все распри, когда возникал конфликт с задорными и пышными рыцарями королевской свиты. Тщетно преследовались дуэли, тщетно карали за них.
Между тем умер бездетный король и оборвалась старшая линия Плантагенетов. Вопрос о престолонаследии вызвал разногласия. Старшей в роде оказалась женщина, дочь беспутного герцога Бетфорда, вождя реакционеров в парламенте. Звали ее Элеонора. Она была девица. Следующим претендентом явился Роланд; он был старшим в роде по мужской линии. Эту кандидатуру поддержали и Йорк, и Лейстер (Пагенгейм), и Дувр, и все самые могущественные и чтимые лорды парламента. На престоле был утвержден Роланд. Это был прекрасный, просвещенный юноша, преданный науке и лишенный всякого честолюбия. Он был влюблен в дочь Лейстера —Лору (сестру Люцио Пакенгейма). Болезненный Роланд отказывался от престола, но его убедили для блага и спокойствия Англии согласиться возложить на себя корону. Однако его воцарение не принесло ни блага, ни спокойствия.
Честолюбивый герцог Дувр начал проводить жестокую политику централизации, стеснения и уничтожения местных вельмож. Первой его жертвой пал Эдгар Пакенгейм (младший брат герцога Лейстерского). Он был наместник в Корнуэльсе. Демократ, привязавший к себе угнетенную национальность кельтов, этот лорд даже женился на дочери простого кельта. (Рыцарей мы рисовали на слоновой бумаге, остальные сословия — на простой.) Этот брак вызвал страшное негодование в Лондоне. Дувр обвинил Пакенгей-
¹ Оба стихотворения юного Арчвелла принадлежали Тане.
ма в потакании сепаратизму кельтов, в то время как его управление, благоприятное кельтам, наоборот — мирило их с владычеством англичан. Когда по настоянию Дувра Пакенгейм был смещен, а на его место был поставлен дуврский ставленник, в Кор-нуэльсе вспыхнуло восстание. Желая дать возможность молодому и смелому Люцио Пакенгейму отличиться и блестяще начать свою военную и политическую карьеру, ему поручили подавить восстание. Но молодой лорд, поднявшись на трибуну палаты лордов, с негодованием сказал: «Если я приму участие в этой войне, то на стороне кельтов, бьющихся за свободу, а не на стороне их угнетателей. Dixi». Этим словом наши ораторы заканчивали речи.
На трибуну поднялся Дувр, 9 обстоятельной речи он доказал опасность для королевства кельтского сепаратизма и потребовал предания суду Люцио.
Люцио не был предан суду, но был исключен из парламента.
В парламенте образовались две враждебные партии. Они не имели никакого отношения ни к ториям, ни к вигам. Это были централисты и федералисты. Первых возглавлял Дувр. С утонченными манерами, с тонким профилем, с опущенными веками, окаймленными длинными, загнутыми вверх ресницами, с шелковистыми кудрями — Дувр казался похожим на девушку. Его пышная одежда, обилие украшений, великолепные перья на берете — все это увеличивало его сходство с девушкой. Дувр играл с жизнью. Он много путешествовал. Объездил не только Европу, но и север, Африку, побывал даже в Индии. Он был «влюблен в материю». Это выражение Мити. В его замке был собран прекрасный музей из старинных вещей народов Европы, Африки и Азии, а сам замок отличался сказочной роскошью. Ходили слухи, что у него не только изумительные вина в погребах, но что за высокими стенами замка укрывается целый гарем. Политикой занялся Дувр со скуки, устав от путешествий и томясь от безделья в своем волшебном замке. Идея централизации Англии по примеру Франции ему показалась «забавной», и он стал настойчиво добиваться ее осуществления.
«С девичьей улыбкой, со змеиной душой». Так оценил я Мите его любимца — Митя со смехом закончил:
«Отверженный Богом Басманов».
«Воображаемый портрет», созданный мальчиком, когда ему только минуло 15 лет, напоминает мне теперь образ Фридриха II Гогенштауфена, короля Сицилийского.
Федералисты не имели выдающегося лидера. Люцио, примкнувший к ним, был еще слишком молод. Изгнанный из парламента, он удалился в свой феод. Вынужденное уединение вполне соответствовало его вкусам и мечтам. Люцио видел (как позднее наши славянофилы) в своем положении сеньора возложенный на него Провидением долг: содействовать счастью своих вассалов. (Еще раз обитель Годвина!) Он заводит школы, организует больницу, смягчает феодальные повинности. В своем замке он собира-
ет библиотеку, в которой почетное место занимают сочинения Спинозы. Но все время Люцио гнетет тоска по Терезе. Он едет в Лондон (украдкой) и зовет ее к себе, к старым паркам с оленями, с большим и тихим озером с лебедями. Но Тереза в ответ смеется и, не отказывая Люцио, говорит ему: «Мне еще хочется пожать при дворе, не торопи меня».
Создавая образ Люцио Пакенгейма, еще раз я выразил свою мечту «о золотом веке» на земле, осуществляемом одинокой личностью с благой волей. Когда позднее я читал «Идиота» Достоевского и «Росмерсхольм» Ибсена — я вспоминал свои заветные, исконные мечты.
Между тем в нашей детской Англии события принимали все более грозный оборот. Восстанием кельтов воспользовалась партия Элеоноры Плантагенет. Граф Сругемптон и другие феодалы юга подняли восстание для защиты прав «законной королевы». Началась междоусобная война. Элеонору тайно поддерживала Франция. Верным королю Роланду войскам не удавалось усмирить мятежников. Во главе королевских войск был поставлен герцог Лейстер (отец Люцио) — честный, храбрый, но ограниченный человек и к тому же очень доверчивый. Собрав войско, он решил прекратить одним ударом затянувшуюся войну. Во время боя на сторону восставших перешел граф Страфорд, командовавший правым флангом. Левый фланг и центр оказались под перекрестным огнем (по правилам игры преимущество заключалось в двойном количестве ударов) (...>. Части, верные королю Роланду, сражались героически. Лейстер успел выдвинуть заслон из шотландских стрелков и, перегруппировав войска, вывести их из мешка. И Лейстер, и его сын Люцио были ранены. Шотландцы были все перебиты, но войско спасено.
Эта неудача дала возможность Дувру выступить вторично в Парламенте против семьи Пакенгеймов. Дувр потребовал суда над главнокомандующим герцогом Лейстером (Пакенгеймом). На защиту отца выступил Люцио. Он в пламенной речи изложил весь ход событий, указал на находчивость и военное искусство отца, сумевшего найтись при столь тяжких обстоятельствах и спасти хоть часть войска. (Дувр — с места: «Уложив лучшую часть армии!») Люцио: «Славная смерть их — пример героизма и верности. Они, умирая, видели спасение армии». Лейстер сам сложил с себя главнокомандование и удалился в свой феод. Борьба продолжалась безуспешно. Тогда герцог Дувр предложил исход: братоубийственную войну можно закончить браком претендентов на трон. «Пусть Роланд откажется от своей невесты Лоры Пакенгейм и женится на Элеоноре. Этого требует благо Англии. Dixi!» Так кончил речь Дувр. Его предложение было принято Парламентом. Депутаты обратились к королю Роланду.
Тем временем болезнь его (туберкулез) прогрессировала. Несчастный король еще раз пытался отречься от трона, но Парламент не дал своего согласия. Этим не достичь умиротворения.
И Роланд согласился на брак. Торжественно, но печально была отпразднована свадьба. Она походила на пышные похороны. Лора Пакенгейм должна была постричься в монахини. Первым лицом в государстве стал Дувр. Смерть Роланда приближалась.
Чувствуя близкий конец, король сел на коня и в сопровождении верного пажа ночью покинул Лондон. Он держал путь в монастырь, где была пострижена Лора. Был лютый холод. Вокруг месяца широкий морозный круг. Лора ждала своего бывшего суженого. Она спустила из окна веревку, по которой поднялся король. Паж оставался внизу. Бедная Лора была потрясена болезненным видом Роланда. Она поняла, что дни его сочтены. Роланд стал перед ней на колени. Он знает, какой риск для обоих это посещение. Когда король встал, Лора заключила его в объятия. Прощальная речь была произнесена Роландом в стихах (это была импровизация Тани). Оба мы, играющие (Мити не было), были вдохновлены импровизацией. Потрясенный всем пережитым, Роланд умер в келье монахини. Лора не захотела спустить его труп по веревке к пажу. На другое утро все знали, что в ее келье было обнаружено тело исчезнувшего короля. Лора была заточена в отдаленнейший монастырь Шотландии. Когда она умирала, ее посетило виденье: Роланд, распятый на кресте. Судьба дочери была последним ударом и для старого герцога Лейстера.
Когда мы сложили наших рыцарей в коробки из-под гаванских сигар и вышли в столовую, Александра Савельевна Нава-шина ахнула от нашего вида. «Много уже раз я требовала прекращения этой игры. Но сегодняшний вид ваш показал, что стоит вам ваша игра. Будет! Довольно!»
Мы вышли в сад. Всюду лежал глубокий снег. Тишина охватила нас. Холод, и тишина. Небо было ясное. Звезды глядели равнодушно и холодно. А нам было так тяжело, что мир столь равнодушен к людским страданиям. Все же наши родители не решались окончательно запретить эту игру. А между тем мы все трое уже учились в гимназиях и много новых интересов волновало нас. И все же ни один из них не мог вытеснить страсть, владевшую нами <...>4.
Белинский писал: «Еще созданье художника есть тайна для всех, еще он не брал пера в руки, а уже видит их (образы) ясно... он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьет и свяжет их между собой»5. Такими sui generis¹ художниками были и мы тогда, художниками-импровизаторами.
Со смертью моего любимого героя у меня упал интерес к рыцарской игре. Я потерял свой центр. Каждый из нас так срастался со своим героем, что мы и без рыцарей, гуляя где-нибудь в лесу и затевая беседы и споры, называли себя име-
¹ Своего рода (лат.).
4 На опущенных страницах: поездка Н. П. к родным в Софиевку зимой 1904, его тяжелая болезнь по возвращении, события января 1905, продолжение рыцарской игры; включение в нее сюжета англо-французской войны, смерть героя Н. П. — Люцио Пакенгейма.
5 С небольшими искажениями из статьи В. Г. Белинского «О русской повести и повестях Гоголя (Арабески и Миргород).
нами наших героев. Игра так вплелась в жизнь, что грани стерлись (...).
Это было то, что называл Н. Н. Евреинов «театр для себя». Было что-то общее и с московским театром «Semper ante» <...>.
Теперь, через сорок лет, я попробовал записать то, что сохранилось в памяти. Уцелела и та тетрадь, в которую я вклеивал рыцарей, выбывавших из строя. Некоторые вклейки снабжены краткими биографиями. Есть и родословные таблицы. Своды законов, выработанные на бурных заседаниях, пропали.
* * *
Мой сын Светик также по нашему примеру играл в рыцарей со своим другом Шуркой Павловым. Характерно отличие рыцарей двух поколений. Нас больше всего интересовало лицо — и мы делали погрудные изображения. Моего сына и его друга интересовала поза, движение — и они рисовали фигуру в целом, мало уделяя внимания лицу.
В первый год Мировой войны я встретил мальчика Дружинина, сына сотрудника Третьяковской галереи. Это живой, несколько бледный мальчик с русой головкой. Он сидел в сумерках и что-то раскрашивал. «Алеша! Пора чай пить. Да ты и глаза портишь, смотри, уже совсем стемнело!» — сказала ему мать. «Ах, подожди, я сейчас!» — отвечал с волнением мальчик, окуная еще раз кисточку в мутную от красок воду. Он рисовал рыцаря. Я с волнением подошел к нему. Мы разговорились. И все, что он рассказал о своей рыцарской игре, так живо напомнило мне мое отрочество. Мне казалось, что я вижу самого себя из дали десятилетий. Передо мной был мой двойник, двойник отрока из Десятинного переулка. Его рыцари были несколько более художественно исполнены, чем наши, и сделаны во весь рост, как рыцари моего сына. В рассказах Алеши об игре я не нашел социальных утопий о золотом веке. Насколько их рыцари были сложнее, настолько сама игра проще.
Итак, смертью Люцио Пакенгейма закончилась игра в рыцари, а вместе с нею и мое затянувшееся отрочество. Ведь я же был уже юношей. Когда же юноши играют в солдатиков?
Глава III. Мы в гимназии
Глава III.
МЫ В ГИМНАЗИИ
Мне только что минуло 15 лет, когда я поступил в Первую Киевскую гимназию. Вопрос о выборе школы уже давно волновал маму. Многие советовали ей отдать меня в частную гимназию, куда и поступить легче, и где учиться легче. Но частные гимназии в те годы не пользовались в Киеве доброй славой. В особенности гимназия Петера, куда принимали всех исключенных из дру-
гих гимназий. Хорошей школы Науменко тогда еще не было (а если она и существовала, то как-то незаметно).
Первую гимназию теперь широко знают благодаря Художественному театру. Она является местом действия «Дней Турбиных» (сцена гибели Алексея Турбина). Ворчащий на юнкеров школьный сторож — наш Максим. Вестибюль с лестницей и хорами, и вдали портрет основателя гимназии Александра I — все это схематически представленный на сцене интерьер моей школы.
Она считалась в те годы лучшей в Киеве. Помещалась на перекрестке Бибиковского бульвара с Владимирской улицей (две главнейшие артерии города, не считая Крещатика и Фундуклеевской). На противоположном углу находилась Вторая гимназия (сохранившая греческий язык), а на другой стороне бульвара — Университет. Все три здания в строгом классическом стиле.
В Первой гимназии учились дети киевской интеллигенции и вместе с тем — знати. В моем классе обучался князь Дмитрий Репнин (во 2-м отделении) и князь Сергей Трубецкой (в 1-м отделении) — сын философа Евгения Трубецкого. К чести гимназистов нужно сказать, что аристократы ума расценивались в классе выше, чем родовые аристократы. Одновременно со мной в разных классах обучались: Павлищев (И. Н. Берсенев), Паустовский (К. Г.), Булгаков (автор «Дней Турбиных»), Некоторое время здесь обучался Вертинский. Из учеников моего класса вышел будущий министр иностранных дел Украинской Рады, ее представитель на конгрессе в Версале, сын учителя русского языка А. Шульгин. Много было детей профессоров: Фортунатов (Саня), Навашин, братья Жуковы, Иванов (сын депутата в 3-ю Гос. думу), Флоринский, Букреев и т. д.
Мама, долго опасавшаяся моего поступления в гимназию, теперь стала всячески добиваться этого. Она считала ложным направление моего ума и, вместе с тем, осуждала влияние на меня Навашйных, находя их слишком гордыми и изолированными от жизни. Она теперь хотела для меня товарищеской среды, которая поставит все на место.
Однако попасть в число учеников Первой гимназии было не легко: не было свободных вакансий. Требовались протекции. Сергей Гаврилович взялся помочь. Уже начались занятия. Уже явились в форме Митя и Таня (поступившая в гимназию Дучинской и ходившая теперь в длинном платье сочно-зеленого цвета). Грустно бродил я один в Святошине по саду, в котором уже кружились и падали пожелтевшие листья. Я ждал возвращения друзей из города, их оживленных рассказов о новой среде: я казался себе отверженным.
Но вот как-то в хмурый вечер меня подозвал Сергей Гаврилович и сказал: «Ну, Коляночка, можешь покупать форму. Смотри же, оправдай характеристику, какую я тебе дал». Я готов был обещать все.
Тем временем мы вернулись в город, на новую квартиру (Бульварно-Кудрявскую, № 15). Я бродил по незнакомым мне комнатам, вспоминал уют Десятинного переулка. Я чувствовал, что уже не вернусь ни к птицам, ни к монетам, ни к старым, любимым книгам. Теперь уже начинается все другое, и я сам уже другой.
В необычайно радостном возбуждении отправился я с мамой на Крещатик, в лучший магазин платья — Манделя. Мама обратилась к приказчику:
— Покажите для ребенка гимназическую пару.
— А мерку-с захватили-с?
— Зачем мерка, вот же мальчик.
Мама не представляла, что я от смущения готов был провалиться сквозь землю.
Мама была на всю жизнь убеждена, что я не подвластен времени. Совершенно не считаясь с моим самолюбием, она еще долго пришивала перчатки к рукавам шубы, чтобы я их не терял. Гимназическая пара куплена. Но она оказалась не только не модной, а вопиющим противоречием моде. Щеголи носили совсем короткие курточки, моя же была до колен — один из поводов смеяться над бедным новичком.
В тот вечер — в полной форме я занял свое кресло на опере «Травиата». Но никого из знакомых, увы, я не встретил.
Наступил долгожданный день. Инспектор, преподаватель математики Чирьев (прозвище — «Куб») ввел меня в мой класс. Впечатления были так сильны, что я до сих пор могу разместить по партам всех 48 учеников 5-го класса 2-го отделения Киевской Первой гимназии.
У меня кружилась голова от того шумного водоворота, в который я попал. Физиономия класса мне не понравилась. Лица показались грубыми и ординарными. Меня посадили на единственное свободное место на последней парте в углу, «на камчатке». Товарищи насмешливо поглядывали на меня, но бить не били. В этой толпе я чувствовал себя безнадежно одиноким.
Я зашел в класс Мити (он поступил в б-й). На меня набросились парни, подняли и, зацепив поясом за гвоздь, повесили на стене, рядом с грифельной доской. Пояс расстегнулся, и я упал при общем хохоте. Митя меня не смог защитить.
Впечатления первых дней были очень тягостны. Меня потрясала площадная брань моих товарищей, брань, которую я едва понимал, но то, что я понимал, вызывало во мне непреодолимое отвращение. Сальные анекдоты, рассказы о распутных похождениях — все это было так ново и так ужасно. Прошло много времени, прежде чем я понял, что все это может как-то странно уживаться не только с возбужденными умственными интересами, но и с относительной нравственной чистотой.
В наше время часто говорят об ужасном упадке дисциплины в школах. Когда я вспоминаю дисциплину своей гимназии, я дол-
жен сказать, что сомневаюсь, была ли она лучше современной! На уроках математики (преподавал Варсонофий Николаевич Иванов) совершенно невозможно было следить за объяснениями. Помню, как учитель толковал нам задачу о курьерах, отправленных: один из С.-Петербурга в Москву, другой в обратном направлении. И вот класс, под дирижерское махание рукой удалого В. Бурчинского, хором шептал: «Курьеры, курьеры, курьеры», пока дирижер не вскочил на парту и не закричал при дружном хохоте класса: «Тридцать тысяч одних курьеров!» Однажды тот же Бурчинский, сопровождаемый аплодисментами товарищей, выехал на спине того же Варсонофия Николаевича. Такое же бесчинство царило в классе и на уроках физики Извекова, у которого постоянно, ко всеобщему удовольствию, не удавались опыты.
Своеобразную фигуру представлял собой Николай Трофимович Черкунов — преподаватель географии, автор географической игры — лото. Дома у него был целый музей, который охотно посещали гимназисты. Он казался старым холостяком, обросшим волосами, седыми и длинными. Из этой копны волос глядели огромные светло-голубые глаза, глаза совы при дневном освещении. Это был фантастический гном. Говорил он тихим голосом для избранной группы учеников. Остальные занимались, чем хотели. Камчатка пела хором:
Черкунов, Черкунов
Ходит дома без штанов,
А на улице зато
Одевает он пальто.
Немецкий преподавал Оскар Федорович Иогансон. Он увлекался музыкой — сочинил музыкальную пьесу «Дух Токайского вина». Он приходил и читал нам что-нибудь вслух, обычно комическое. Читал по-русски, потом задавал уроки и покидал класс.
Очень огорчил меня историк Бодянский («Бужан») из известной семьи русских ученых. Урок его меня увлечь не мог. Бодянский, войдя в класс, требовал открыть тетради для хронологии и диктовал даты. Вслед за этим требовалось открыть учебники. «Считайте, 8-я строка сверху от слов: «Генрих IV после Каноссы...» Нашли? Вычеркните 5 строк, кончая словами: "Его преемником был Генрих V"». После этого начинались вызовы. «Скажите, Лескевич, годы правления Карла Великого». Лескевич, задумавшись: «772—821».—«Ничего подобного—768—811! Хронологию не учили. Садитесь — два. Дашкевич! Битва при Гастингсе? Год?» Дашкевич отвечает мгновенно: «1166». Бодянский ворчит: «Ну, не совсем так: 1066. Но видно, что учили». Лескевич ошибся на несколько лет. Дашкевич на целый век. Но Лескевич угадывал, имея представление об эпохе, и угадал довольно точно. Дашкевич зубрил. Но... он учил хронологию!
Латынь преподавал сам директор, похожий на Зевса-Громовержца, Евгений Адрианович Бессмертный. В классе мертвая тишина. Громовержец с лицом Перикла, во всяком случае, с боро-
дой этого вождя афинской демократии, озирает острым взором класс, как поле сражения. И потом внезапно тишину вспугнет как удар грома: фамилия жертвы. В ожидании этого гимназисты, склонившись над партами, шепчут молитвы и крестятся.
Среди наших педагогов особое место занимал Лаврентий Федорович Батуев, прозванный Лоренцо Великолепным. Ходили темные слухи, что он «либерал». Он был застегнут на все пуговицы, изящно подстрижен, холоден и спокоен. Его умное лицо было всегда серьезно, шутил он редко. Требователен Батуев был чрезвычайно. Все боялись его, боялись и уважали, ценили, даже любили (впрочем, лишь некоторые). Оценил его я много позднее. Батуев приучал нас к тому, что Гершензон назвал «медленным чтением». Он требовал знания таких деталей: «А как Гоголь определил хождение чиновников вокруг Чичикова, когда тот стал херсонским помещиком?» — «Перепелками».
Вместе с тем Батуев добивался знания западноевропейской литературы, связанной с русской. Но самым замечательным было требование знать теорию литературы по сочинениям И. Тэна, Гюйо и Летурно. Мы были многим на всю жизнь обязаны «Лоренцо Великолепному».
Знакомство с ним, да можно сказать и с классом, началось для меня очень неблагоприятно. На уроках я всегда сидел, притаившись в своем углу. Когда меня вызывали, терялся так, что у меня голова совершенно пустела. Лаврентий Федорович знакомил нас с русским фольклором и коснулся темы о суевериях. «Быть суеверным очень глупо и стыдно. С уверенностью могу сказать, что и среди вас есть немало суеверных, но никто не признается, сознавая в душе, что только невежественные люди бывают суеверны».
Мне эти слова не понравились, я знал, что суеверию не чужды и люди гениальные и просвещенные. Я поднял руку и поднялся. Батуев и весь класс заодно с ним посмотрели на меня. Я смутился, но отступать было поздно. «Вы что, Анциферов?» — обратился ко мне Батуев. «Да ведь Байрон же боялся пятниц». — «А потому и вы, Анциферов, должны бояться пятницы?» — и Лаврентий Федорович пожал плечами. Весь класс захохотал. С того дня прозвали меня «Пятницей», как негра Робинзона Крузо.
Я не считал себя выше класса. Я уже знал, что среди моих товарищей есть ряд юношей и умней, и способнее и начитаннее меня. (Поллак, Вышомирский, Вильчинский, Киричинский). Но я считал себя особенным, человеком другого мира, и в этом усматривал свое преимущество.
Я уже заметил, что площадная брань и сальные анекдоты были не всем по душе. Первый ученик Анатолий Жмакин, самый сильный в классе, застенчивый добряк, не блестевший ни умом, ни талантом, трудолюбивый и скромный, всем помогавший — так же, как и я, ненавидел «хульного беса», царившего в классе. Эту черту знали товарищи и мучили Жмакина всякой
похабщиной, как Алешу Карамазова, доводили его до ярости и тогда рассыпались во все стороны, боясь его могучих тумаков.
Как-то раз, вернувшись в класс после большой перемены, я почувствовал, что произошло что-то необычайное. Был пустой урок. На учительском месте сидел, помнится, Бурчинский и читал (о ужас!) мой дневник. По ошибке вместо тетради по географии я принес свой злосчастный дневник. Товарищам попалась запись, где я давал каждому характеристику, обычно весьма нелестную. Сцена несколько напоминала финал «Ревизора». Дневник переходил из рук в руки. «Тут что-то неясно, прочти-ка ты!» После пытки (убежать я не мог — в коридоре дежурили помощники классных наставников) ко мне подошел Лескевич, типичный шляхтич. Он строго сказал мне, презрительно поднимая верхнюю губу: «Что ты такое, Анциферов, не поймешь, институтка какая-то. Пишешь об игре в какие-то куклы (т. е. рыцарей), ведешь дневник, записываешь про маменьку, ну совсем институтка!»
И наряду с Пятницей — прозвали меня «Институткой» <...>6.
Первые месяцы моего пребывания в гимназии были отравлены «хульным бесом». Особенно ужасало меня то, что такие гимназисты, как Вышомирский, исключительно начитанный, с острым умом, с большими способностями, не отставал от других в сквернословии и сальных разговорах. Я как-то высказал ему свое удивление. «А что же тут плохого, Анциферов? Раз эти вещи существуют, их нужно называть так, как они называются». Я тогда, сознавая всю правоту своего протеста, не нашелся ему возразить, не знал еще, что вещи окрашиваются отношением к ним, и не только окрашиваются, но и меняют свою сущность. И популярная у нас брань и все связанные с нею слова относятся к безлюбовному общению полов, относятся не к миру Эроса, а к миру Приапа, а этот мир потребовал особой терминологии (...)7.
6 Опущено: обращение Н. П. за помощью в борьбе с одноклассниками к Мите Навашину, эпиграммы последнего на обидчиков Н. П.; столкновение с товарищами, вызванное их скабрезными выпадами в адрес Т. Навашиной; рост авторитета Н. П. в классе.
7 Опущено: пропуски занятий по болезни, оставление Навашиными гимназии.
Глава IV. Я2
Глава IV.
Я2
Недолгое пребывание в гимназии показало мне, насколько я был изолирован в особом, созданном мною мирке. Мой пассеизм принимал сознательный характер. Я не любил современности, она казалась мне враждебной. Живо помню вечер, когда мама убеждала меня приняться после «Notre Dame de Paris»¹ за Тургенева и Толстого. Я ей доказывал, что в них ничего не найду хорошего, так как «современность» меня прельстить не может. Мама на этот раз твердо стояла на своем. Я ей с горечью сказал: «Вот если бы папа был жив, он не стал бы меня насильно тянуть к нашему времени, лишенному всего героического и прекрасного». Мама бы-
¹ «Собор Парижской Богоматери» (фр.).
ла оскорблена этими словами и все же продолжала настаивать. И я, уйдя к себе, горько плакал от сознания своего одиночества.
Правда, в семье Навашиных я также встречал презрительное отношение ко всему окружающему. Но я чувствовал, что источники этого у нас были разные. Если бы у меня было больше знаний, я бы сказал тогда: «Развитие России в сторону капиталистической Европы есть большое несчастье». Но тогда у меня таких слов не было. Я был бессознательным славянофилом (или народником). Навашины же презирали современность с позиций байронизма, причем Митя, в сущности, верил в прогресс и ценил успехи цивилизации.
Мама между тем перешла от слов к делу. Она подарила мне собрание сочинений Тургенева. Но я не стал читать. Итак я, знакомившийся с греческими трагиками и Шекспиром в десятилетнем возрасте, начал свое знакомство с Тургеневым и Толстым в 15 лет!
В один осенний вечер (1904 г.) Сергей Гаврилович обратился к нам, возлежавшим на полу со своими рыцарями: «Ну, молодые люди, убирайте-ка ваших «солдатиков». Я хочу вам почитать». В его интонации звучала какая-то насмешка, заставившая меня насторожиться.
Рыцари сложены. Мы сидим за столом. Ждем. Сергей Гаврилович медленно раскрыл книгу. В тот вечер он начал читать нам «Накануне» Тургенева. Один за другим в сознании возникали образы Елены, Инсарова, Берсенева, Шубина... Это был совсем новый мир, неожиданно покоривший нас. Теперь я уже сам начал читать Тургенева. Отчего все это, казавшееся чуждым, враждебным, вдруг оказалось таким родным, как ничто до этого?
В день моих именин мама подарила собрание сочинений Льва Толстого, и я стал читать «Войну и мир». С первых же страниц я почувствовал неведомую мне мощь и новую правду. Я горел, когда читал том за томом этот роман. Я бредил его героями, я весь был во власти мира, открытого мне Толстым <...>8.
Роман «Война и мир» озарял меня новым светом при каждом повторном чтении в разном возрасте — он оставался для меня «книгой книг», каким-то уже нечеловеческим созданьем, несмотря на то, что на нем так ярко горит печать индивидуального духа его творца.
За «Войной и миром» следовала «Анна Каренина»... В образе Левина я нашел что-то очень близкое мне, с моим отроческим идеалом: патриархальной семьи, крестьянского труда и искания правды, но этот герой не мог стать рядом с моим избранным на всю жизнь героем, с Андреем Болконским. За Толстым следовал Достоевский. Но в тот год я прочел только один роман: «Идиот». Это стало третьим откровением о жизни. В князе Мышкине я узнал того человека, который был и для меня «рыца-
8 Опущено: чтение «Войны и мира» в 1920-е сыну Сергею и его реакция на эту книгу.
рем бедным» — виденьем, «непостижимым уму». «Идиот» как-то соединил тот огромный мир, который открывался моему юному сознанию, с моим отроческим миром. Смерть князя Андрея и безумье князя Мышкина стали моим подлинным горем той зимы (1904—1905 гг.), когда я и сам был на грани жизни и смерти9.
Выздоровление было каким-то полным обновлением всего моего существа, а наступившая весна пробудила страстный порыв к счастью. Внутри что-то зрело. А что — я еще и сам понять не мог.
Между тем интересы, пробудившиеся в душе, еще мало нашли внешнее выражение. Я с Митей, Сашей и другими сверстниками еще не освободился от «святошинских настроений», еще не расстались с тремя мушкетерами. Мы бродили по старым улицам Киева в ожидании каких-то необычайных приключений. Особенно привлекал нас район между Подвальной и Житомирской, где сеть путаных улочек пролегла между Софиевским собором и Сенной площадью (Стрелецкая, Рейтарская и др.). Там была вывеска, изображавшая старого еврея с огромными ножницами. Под ней надпись: «Я умею брить и стричь». Эта вывеска казалась очень фантастической, а еврей, изображенный на ней, — Агасфером. Я теперь бы сказал — ее мог написать Шагал.
В этих путаных и пустынных улицах мы прятались по дворам и садам, выскакивали с криками, с протянутыми рапирами и развевающимися плащами, и вступали в бой. Кто-нибудь падал у Монастырской стены, как Валентин от удара Мефистофеля. Остальные разбегались. Редкие прохожие не знали, что им делать. Звать ли полицию, заметить ли значок гимназии на фуражке и жаловаться директору, или просто обругать нас. Такого удобного слова, как «хулиган», в обывательском лексиконе еще не было <...)10.
* * *
Раз под вечер, в начале мая мы с Таней отправились к тому святошинскому пруду, где прошлым летом катались на байдарках. Надвигалась гроза. Над прудом низко скользили стрижи. Вдали слышались глухие раскаты. В лесу стало внезапно тихо. «Гроза будет жуткая! Надо бы домой!» — сказал я нерешительно. Мне очень не хотелось возвращаться. «Вот глупость, что она нам сделает?» — весело возразила Таня. Еще удар грома. Молния прорезала свинцовую тучу, и полил ливень. Мы спрятались в барак, где хранились байдарки. Гроза бушевала. Но бушевала она и во мне: я был охвачен безвестным порывом. Хотелось схватить мою лазоревку11 и осыпать поцелуями. Мне нужна была большая сила воли, чтобы сдержать свой порыв. Гроза пронеслась по-весеннему быстро. Быстро очистилось и небо. Оно стало такое ясное, спокойное, словно омытое грозой. Все прояснилось и во мне.
Я не был Паоло, а Таня — Франческой да Римини.
Через несколько дней мама объявила мне, что она получила
9 Речь идет о болезни пневмонией Н. П., простудившегося во время поездки к родным.
10 Опущено: посещение Наващиных в 1905, создание Таней и Митей комедии о коллегах их отца, игра Тани на фисгармонии.
11 Так Н. П. называл про себя Т. Навашину.
письмо от Антонины Николаевны Курбатовой, в котором та приглашает нас к себе в Рязанскую губернию.
Я решительно отказался. Мама настаивала. Она рассказала мне о дружбе тети Нины с моим отцом, о желании отца, чтобы я сблизился с Курбатовыми: «Знай: это его завещание». Когда я сослался на свою дружбу с Навашиными, мама прямо сказала мне: «Я не могу допустить, чтобы для тебя весь свет сошелся на Навашиных. Кроме того, ты побываешь у Фортунатовых, у Белокопытовых. Неужели же ты и все и вся забыл ради Навашиных?»
Я покорился. С тяжестью на душе поехал в Святошино и рассказал Тане о предстоящей разлуке. Мы сидели на скамье в садике, где в начале зимы смотрели на звезды, такие равнодушные к земным страданиям.
— Нас хотят разлучить, Коля. Но мы должны дать друг другу клятву под этими звездами, на этой земле, что ни у тебя, ни у меня не будет более близкого друга!
И мы поклялись. После этого Таня встала и пошла в дом. Она принесла с собой кипарисный крестик в коробочке. Нагнувшись, достала из-под скамейки, на которой мы сидели, комочек земли, раздавила его и наполнила им коробку. «Вот та земля, на которой ты клялся». После этого мы дали друг другу обещанье часто переписываться. Мы, убежденные в том, что нас разлучают, решили что и за перепиской нашей будут следить. Нам нужен шифр. Как же мы будем писать о нашей дружбе? И решили так: Я2. Ведь мы теперь едины, но нас двое. Значит я в квадрате. Мы простились. Скоро я уехал в Москву.
Так закончилась моя prima vera. Я еще не знал тогда, что навсегда покинул тот призрачный замок, из узкого готического окна которого смотрел на мир.
Но мой замок отличался от замка Мити. Я не чувствовал ярко-цветных витражей, тяжелых доспехов, блестевших в сумраке на стенах высокого зала, украшенного узорными коврами, золотых кубков с драгоценными камнями, оленьих рогов со светильниками. Для меня все это были лишь красочные пятна. Я, замкнутый в своем замке, смотрел из него в это узкое окно и дышал запахом полей. Я прислушивался к звукам, которые перелетали через валы и рвы, к далекой песне жаворонка в небе, к крику незримого перепела в золотистой пшенице.
Пришел час отойти от окна и покинуть замок.
* * *
Наша ребячья клятва была отвергнута жизнью. Она не походила на клятву Герцена и Огарева на Воробьевых горах. Она была обращена не к миру, не к людям, а лишь друг к другу и к звездам. И Я2 распался. Мы пошли в жизни разными путями <...>12.
12 Опущена гл. V «Судьба Навашиных», в которой: возвращение Н. П. осенью 1905 из Рязанской губернии «нашедшим свой путь в жизни». Его попытки возобновления отношений с Навашиными. Печаль и замкнутость Тани, новая среда общения Мити: увлечение в ней Ницше и Пшибышевским. Митина бравада безнравственностью его новых друзей. Недолгий интерес Мити и его друзей к революционным событиям, их отход от освободительного движения (осень 1906). Отрицательное отношение Н. П. к Пшибышевскому, «хаосу бушующего пола». Драматургические опыты Мити, посылка его пьесы Станиславскому. Споры Н. П. с Митей, отрицавшим моральный прогресс человечества. Мизантропические стихотворения Д. Навашина, отголоски идей Канта и Шопенгауэра в них. Охлаждение отношений Н. П. с Навашиными.
Д. Навашин на юридическом факультете Киевского университета, его светские успехи, отношения с женщинами, отъезд в Сибирь по завершении, образования, тамошние авантюрно-предпринимательские успехи.
Приезд Т. Навашиной в Петербург в 1911, ее нежелание учиться на Высших женских курсах, ее работа в архиве под руководством профессора Я. Л. Барскова, Танина подруга О. М. Вивденко; Танино отрицательное отношение к студенческой среде, болезненное продолжение ею «рыцарской игры», заболевание туберкулезом и отъезд на лечение в Давос.
Встреча Н. П. с Митей в 1915. Исчезновение из его облика всего романтического. Его новые политические идеи о необходимости власти профессионалов: промышленников, врачей, учителей, рабочих и т. п.; стилизация им себя под делового человека.
Новая встреча с Д. С. Навашиным в июле 1917 на митинге, устроенном в честь П. А. Кропоткина. Речь философа Федора Степуна против войны и заурядное выступление Мити о положении русских военнопленных в Германии. Митина идея о создании своей партии «социал-эволюционеров» под лозунгом «К социализму — через Великую Россию!». Отсутствие сторонников у этой идеи.
Посещение Навашиных в Москве в 1925, семейный обед у них: полнота Мити и Тани, седина и «американизм» Миши.
Рассказы встреченного Н. П. через несколько лет Н. Н. Кутлера о «двойной жизни» Д. С. Навашина-финансиста в Париже и Москве: респектабельность за границей и темные связи в СССР. Известие об убийстве «невозвращенца Навашина» в Париже в январе 1937. Размышления Н. П. о том, «троцкистами или фашистами» организовано это убийство. Навашин — прототип Дессера в романе Эренбурга «Падение Парижа», его участие в борьбе против антисемитизма.
Сопоставление Н. П. своего увлечения Т. Навашиной с отношением Герцена к Гаэтане. Встреча с нею в 1945: неудачное замужество за военным прокурором Рогалиным, привязанность к сыну брата Михаила, одиночество, работа техническим редактором академических изданий для заграницы. Мысли Н. П. о возможности примирения жизни и сказки.
Часть четвертая. В тумане утреннем
Глава I. Барановка
Глава I.
БАРАНОВКА
<...> Посещение стариком Курбатовым нашего дома в Никитском саду я едва помнил. Но в моем воспоминании живо сохранилась первая поездка в Москву, когда я познакомился с семьей Курбатовых.
Весной 1903 года мы проводили Страстную и Пасхальную недели в Москве. Основная цель поездки в моих глазах была встреча с Фортунатовыми в Петровско-Разумовском. Мы поехали с Саней, который хотел в родном доме провести пасхальные каникулы <...>.
Но не одни Фортунатовы манили меня. Мне хотелось познакомиться с родными отца, и в особенности хотелось увидеть Москву, Кремль, Третьяковскую галерею. И что же могло быть заманчивее, чем знакомство с Москвой в дни Страстной недели, встреча в старой столице России светлого русского праздника Пасхи!
От этого первого посещения мне запомнился великопостный звон, призывный, сдержанный и строгий, напоминающий о духе «целомудрия, смиреномудрия, терпения и любви».
Мне вспоминаются и бульвары с клейкими весенними листочками, золотые маковки «сорока сороков», черные галки в небе и черные монахини у Страстного монастыря, а также неуклюжие конки с «империалами», куда я взбирался по крутой лестнице, чтобы глазеть во все глаза на этот самый русский из всех русских городов.
Курбатовы жили в Замоскворечье, близ Данилова монастыря в Павловской больнице. Мой дядя Иван Ильич Курбатов был врачом. (В подобной больнице в Москве протекало детство Достоевского.)
Мои родственники занимали белый двухэтажный дом с садом и старыми липами, усеянными гнездами грачей.
Это была патриархальная семья. Иван Ильич — коренастый старик с больными ногами, опиравшийся всегда на палку с резиновым набалдашником. Лицо его могло показаться суровым. Густые и седые брови нависали над умными пристальными глазами. Над высоким лбом поднимались откинутые набок густые волосы чудесного серебристого оттенка. Прямой, короткий нос. Лицо
обрамляла борода, придававшая Ивану Ильичу сходство с Тургеневым. Когда я вспоминаю своего дядю, то вижу его в широком темно-коричневом халате, сидящим глубоко в кресле, к ручке которого прислонена неразлучная с ним палка. Иван Ильич был часто погружен в чтение книги или газеты (конечно, «Русские ведомости»).
Свое медицинское образование Иван Ильич заканчивал в Париже. Он любил вспоминать и рассказывать о годах жизни за границей. В особенности дорого ему было воспоминание чествования Виктора Гюго. Русская колония Латинского квартала избрала Курбатова своим представителем, и Иван Ильич приветствовал лично великого писателя. Портрет Виктора Гюго всегда украшал его кабинет.
Талантливый молодой врач шел быстро в гору, но болезнь ног повредила его карьере. Он осел в своей семье, любимый и чтимый.
Когда мы гостили у Курбатовых, Иван Ильич был ординатором Павловской больницы. Это уже были последние годы его службы.
Несмотря на твердый характер и непререкаемый авторитет Ивана Ильича, весь дом вела его жена Антонина Николаевна — двоюродная сестра моего отца. Это была статная красавица, умная и властная. В ее благородном облике что-то напоминало боярыню Морозову.
Впрочем, ни в какой области Антонина Николаевна не была фанатиком. По крайней мере, я не застал ее уже с каким-нибудь пламенем внутри. Ум ее был трезвый и спокойный. Быть может, она уже остыла. И все же в ней еще сохранялись черты былого идеализма, поднимающего жизнь на несколько ступенек выше общего уровня.
Антонина Николаевна родила много детей. Не все выжили. Вырастить ей удалось: Антонину, Федора, Екатерину, Наталию, Христину, Дмитрия, Николая, Татьяну и Михаила. Дети чтили и любили ее, как и отца. Но у них не было той интимной близости, которая вносит столько очарования в отношения детей и родителей. Может быть, многочисленность потомства мешала этому. Со всеми в равной мере вплотную сойтись нельзя, Курбатовым приходилось делить себя между всеми дочерьми и сыновьями, и для каждого оставалось не так уж много, да и в характере Ивана Ильича и Антонины Николаевны не было того, что расположило бы кого-нибудь из детей к особой интимности. Это была поистине патриархальная семья, в которой родители величаво возвышались над детьми, как старые ели, окруженные молодняком.
Курбатовы длительными годами работы в земстве были тесно связаны с деревней. В Рязанской губернии они купили небольшое именье в 46 десятин, — хуторок Барановку, который служил им дачей. Вся семья дружно любила свою Барановку. Когда
мы приехали к Курбатовым на Пасху, часть семьи отбыла в этот хуторок. Там любили они встречать весну. Митю, Колю, Наташу я тогда не застал в Москве.
На всю жизнь запомнилась мне эта подготовка к встрече праздника целой семьей. Я давно был в такие дни один с мамой, без отца, и всегда без братьев и сестер. Тянуло меня к такой дружной, крепко спаянной семье. К Фортунатовым присоединились Курбатовы.
Приближался торжественный час заутрени. Вся Москва насторожилась, словно дыхание затаила в ожидании светлого часа. Мы все в домовой церкви. Сигнал дал Иван Великий, и волны колокольного звона, все ширясь, кругами прокатились по всей Москве. Это был поистине всенародный праздник. Это было всеобщее ликование. Обетование торжества над смертью:
«Смертию смерть поправ!»
В домовой церкви все были без пальто. Белые, праздничные одежды. Светлые ризы священнослужителей. Сотни огоньков, трепетавших над легкими восковыми свечами. Братские трехкратные поцелуи — «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Образ рая на земле. Чаянье золотого века.
А в белом домике — пасхальный стол. Иван Ильич, тщательно причесавший свою копну серебристых волос, в белом галстуке, повязанном широким бантом, окруженный всей семьей и друзьями pater familias¹. Из сестер мне лучше других запомнилась тогда Катя в своем кремовом платье. Ее темные и круглые, похожие на вишни, глаза сияли таким счастливым блеском молодости. Улыбка, чуть насмешливая, загадочная улыбка вспыхивала и гасла на ее устах. Рядом с ней — студент в сером кителе с открытым широким лбом, с большими серыми спокойно-внимательными глазами, ее двоюродный брат Петя Кипарисов. Много горя сулила ей жизнь. Но будущее знать не дано. Scire nefas quern tibi, quern mihi finern di dederint, Leuconoe².1
Левконоя не знала и была счастлива.
А на другой день — приятная праздничная истома. Все время возобновлявшийся колокольный звон. Игра с катанием цветных яиц с горки, устроенной между пальмами и фикусами. В игре участвовали: моя ровесница Таня, полная девочка с большими серо-голубыми глазами и русыми косами, и кудрявый, черноокий мальчик Миша (Вениамин семьи Курбатовых). Младшие дети жили наверху, спускаясь для игр со мной из своей детской по внутренней лестнице, которая придавала такой уют дому.
Так семья Курбатовых включилась в мою жизнь.
Прошло два года. Итак, весной, навсегда всем памятного 1905 года, мама решила меня разлучить с Навашиными и увезти в Барановку. Проездом мы задержались на неделю в Москве.
1 Из 1—2 ст. оды Квинта Флакка Горация «К Левконое» (I, 11). В переводе С. Шервинского: «...нам наперед знать не дозволено,//Левконоя, какой ждет нас конец...»
Хотелось побыть и с Фортунатовыми. Дом в Павловской больнице был уже пуст: Курбатовы переехали в Рязанское имение. Нас поджидала Христя, гостившая у мамы в Мотовиловке в 1903 году. Скитаясь по опустевшим комнатам белого дома, я набрел на лестницу, ведущую во второй этаж. По лестнице спускалась незнакомая мне девушка. Она шла необычайно легко, словно скользя по ступеням. Увидев меня, девушка остановилась в недоумении, потом глаза ее вспыхнули и она вся озарилась улыбкой: «А! это, верно, Коля Анциферов, а я Наташа».
Да, это была Курбатова. Печать семьи лежала на ее облике. Она походила и на сестер, и, в особенности, на мать. Имя Наталии Курбатовой уже жило в моей душе, главным образом, по рассказам Христи — прекрасной рассказчицы. Наташа сливалась у меня с Катей, казалась ее близняткой, двойником. Но мне особенно было дорого это имя — Наташа. Его носила любимая мной героиня «Войны и Мира».
Теперь имя и человек слились. И не имя осветило человека, а человек — имя. Наташа была Курбатова и, вместе с тем, она была другая, совсем особенная. Она предстала передо мной видением. Казалось, от древней фрески отделилась одна из священных дев, отбросив пальмовую ветвь, преисполненная прекрасной и таинственной жизнью. И я узнал ее, не виданную мною, лишь доселе неведомую... <...>2.
С этого мгновения для меня началась новая жизнь. В ту эпоху нарастающего импрессионизма славили мгновения, хрупкие и благоуханные, которые вспыхивают и гаснут. Нет, не таким мгновением была для меня встреча с Наташей» Она раскрыла мне смысл любви и подготовила меня к счастью, указав мне путь. И я теперь, через 40 лет, оглядываясь на пройденную жизнь, могу сказать, что тогда действительно для меня началась новая жизнь, основам которой я хотел быть всегда верен.
В тот день я не говорил с Наташей. На следующий мы с Христей уехали в Барановку.
У маленькой станции Назаровка нас ждала коляска, заложенная гнедым мерином Жупелом. Правил работник Аким. До Барановки езды было верст восемь. Хутор расположен на холме, окруженном с трех сторон оврагами. Большой двор, поросший травой, с двух сторон окаймляли дубовые рощи, по опушке которых расположены: с одной стороны — конюшня и коровник, с другой — рига и кухня. Деревянный дом с мезонином не походил на старое дворянское гнездо. Все же и у него с двух сторон были террасы в два этажа. С третьей стороны к дому прилегал фруктовый сад, прорезанный березовой аллеей. Сад полукругом обрамляла дубовая роща, спускавшаяся по склонам холма в долину узенькой речки Ненгур. В конце березовой аллеи находился деревянный стол на одной ножке, окруженный скамьями.
Каждый уголок этой усадьбы мне сделался памятным на всю
2 Опущены строки из стихотворения В. Ф. Ходасевича «Встреча» (1918), входящего в его книгу «Путем зерна».
жизнь. Здесь все стало моим и здесь я понял, что не нужно быть собственником, чтобы любить землю как свою, как родную.
Курбатовы мало походили на помещиков. Правда, у них был работник Аким, а в дни уборки урожая они нанимали на поденную работу крестьян из соседних деревень Выдерги и Поповки, но с ними вся молодежь семьи Курбатовых принимала участие во всех сельских работах. При этом Катя тяготела к огороду, а Таня — к скотному двору и курятнику. Иван Ильич даром лечил крестьян, они доверяли ему больше, чем земскому врачу и собирались толпой у крыльца барановского дома в ожидании приема.
Как в Москве, так и здесь центром всей жизни был не pater familias, а Антонина Николаевна, определявшая стиль всей барановской жизни — дружной, бодрой и ровной.
Отношения с крестьянами были добрососедские. Не только ради лечения заглядывали они в Барановку, но и за всяким мудрым советом. Несмотря на это курбатовская молодежь чувствовала особый «классовый стыд» перед деревней. Все Курбатовы избегали гулять там, где работали крестьяне, избегали проходить деревенской улицей. «Наш праздный вид, наши одежды должны раздражать их». А крестьяне говорили о Курбатовых: «Наши господа совсем не помещики. Будет революция, мы им еще землицы прирежем». И действительно, Барановку не тронули. Она просуществовала, пока был жив Иван Ильич, — до 1925 года. Это было одно из последних дворянских гнезд.
С соседями-помещиками Курбатовы общались мало. Рассказы о быте рязанских дворян, вероятно, сгущенные слухами, напоминали еще гоголевские времена <...>3.
Я охотно верил всему дурному, потому что восприятие жизни в юные годы требует светотени. «Чем ночь темней, тем ярче звезды». А я так любил эти звезды! И мне хотелось для их сияния не прекрасной, достойной их оправы, а наоборот, чего-то резко контрастного: Ормузд в борьбе с Ариманом. Таков закон жизни. Окружающее зло повышало ценность добра. А я был влюблен во всех Курбатовых сразу, как Васька Денисов в семью Ростовых, в эту «дуг'ацкую Ростовскую пог'оду». Добрый, застенчивый, мешковатый Митя, студент-технолог — напоминал мне Пьера, а красивый, шумный, жизнерадостный Коля, студент-агроном, любимец семьи — казался похожим на Николая.
В пяти верстах от Барановки находился хутор Чугры, принадлежавший зажиточному крестьянину Матвееву. Его сын Алеша дружил с братьями Курбатовыми. Это был невысокий юноша, крепкого сложения, с энергичным лицом. Маленькие, широко расставленные глаза Алеши выражали упорную мысль. Он был застенчив, неловок, молчалив. Вскоре я понял, что не братья Курбатовы привлекали его в Барановку, а младшая из сестер — Татьяна.
Как изменилась она за эти два года! Это была русская красавица — статная, высокая, с умными, задумчивыми глазами.
3 Опущено: история о богатыре Муретове со сложением Собакевича и повадкой Ноздрева, родственник Курбатовых — земский начальник Н. А. Бер, его циничные рассказы.
Ее прекрасные русые косы были заплетены вокруг головы. Правильные черты гордого лица придавали ей сходство с Юноной Фарнезийской («Волоокой Герой»). Таня была молчалива, редко смеялась. Она много занималась хозяйством (то кур кормила, то полола в огороде). Однако в душе она не была хозяйкой, Таня готовилась в народные учительницы. Но и мирная жизнь тогда не привлекала ее. Она чаяла приближения великой бури. Она не хотела умереть среди плаксивых баб и лекарей. «Порог» Тургенева выражал ее душевную настроенность того времени. В ней было что-то суровое, даже резкое, пугавшее меня. Мама моя говорила про нее: «Татьяна быка за рога схватит и остановит на бегу».
Был вечер. Я с Таней шел по проселочной дороге. Мы провожали Алешу. Садилось солнце, и рожь от лучей заката становилась еще золотистей, Алеша, прощаясь с нами, достал тонкую брошюрку с изображением очень волосатого и очень лохматого человека. «Кто это?» — «Это Карл Маркс». — «Кто этот Маркс?» — «Неужели вы не знаете, это великий философ». — «Какова его система?» — «Система его не в том, чтобы познать мир и только, она заключается в том, чтобы его переделать заново, поняв его сущность». И Алеша познакомил нас с идеями социализма. «Социализм». Это слово я слышал много раз, но оно проплывало мимо, среди других многочисленных незнакомых терминов, всяческих новоявленных измов. «Так вот что такое социализм, — думал я. — Да ведь это же моя исконная мечта о рае, здесь на земле, о золотом веке — как венце истории».
Социализм — каким солнечным казалось это слово! Само сочетание звуков сулило что-то светлое для русского слуха. Солнце, месяц, звезды, зарница, заря, свет, сиянье, сверканье, золото, серебро — все эти образы связаны со звуками: з, с, ц. Вспоминается строчка Фета, пронизанная светом:
Сверкают звезд золотые ресницы.
В тот вечер познакомил нас Алеша и с разногласиями в лагере социалистов. Эсеры мне понравились тем, что основную силу революции они видели в крестьянстве, которое я считал народной основой, эсдеки же имели то преимущество, что они отрицали террор. И я колебался в своем выборе. Но одно было ясно — я конечно, социалист.
Когда Алеша говорил, лицо его пылало, исчезла его скованность. Его высокий голос звучал с большой силой. И Таня, и я видели в нем сына народа.
У села Фролова сохранилась старинная деревянная церквушка XVIII века. Она стояла одиноко в поле, окруженная несколькими ветхими крестами, утопавшими в высокой траве. Здесь мы простились. Алеша шел залитый последними лучами заката. А мы смотрели вслед ему. Он, прощаясь и крепко пожимая руку, звал нас к себе в Чугры. В молчании, погруженные в свои думы, шли мы медленно домой.
Моя дружба с барановской кузиной Таней развивалась неровно: то мы сближались, то отходили друг от друга. В свободные часы Таня удалялась со мною в овраг и мы читали с ней «Войну и мир», а потом Тургенева. Страницы романа Л. Толстого, посвященные теме «мира», так гармонировали с моим тогдашним восприятием жизни и, в частности, барановской жизни. А тема «войны», бросавшая свой отблеск на картины «мира», придавая им особую значительность и углубленность, связывалась тогда с мыслями о близкой, как мы верили, революции, которая придаст героическое величие нашей жизни. Мы читали «Накануне» и думали, «Канун» уже наступил. Это наш исторический день <...>.
Тане попалось стихотворение в прозе Тургенева «Роза», смысл которого для нее остался загадочным. Мы заговорили первый раз о любви. Таня рассказала мне о своем двоюродном брате
Коле Кипарисове, которого в семье называли Зайцем. Это был изящный молодой человек, спокойно уверенный в себе и холодный. Он враг всякого романтизма. В беседе с Таней он хотел открыть ей глаза на любовь, разрушить тот ореол, которым окружает ее юное сознание девушки. Таня мучительно переживала этот разговор. Ей казалось, что жизнь отвратительна, что мужчины покрыты, как проказой, развратом. Ей стало неприятно всякое общение с ними. А тут она еще прочла «Крейцерову сонату», словно подтвердившую верность суждений Зайца. Но выводы из поучений Зайца мы оба сделали другие, неожиданные для него — не приятие прав пола, не «свободная любовь» — а полный отказ от плотской любви. Не может быть компромисса между духом и плотью. Огонь и вода не могут находиться в соприкосновении <...>.
Но я не мог полностью согласиться с выводами Л. Толстого. Любовь-Эрос — великая и творческая сила. Только платоническая любовь — подлинная и ценная духовная сила. Она дает целостность духу, и дух становится мудрым. Отсюда прекрасный русский термин «целомудрие». Это понимали и древние греки. Не случайно, что богиней мудрости была дева Афина Паллада, не случайно и то, что особо чтимая богиня Артемида также была девственницей. Судьба Ипполита, не признававшего власти Афродиты, вызывала во мне глубокое сочувствие. И я хотел быть таким, как Ипполит. Но не аскетического подавления пола (к чему призывала «Крейцерова соната») хотел я. Нет — пол, данный нам стихиями природы, должен быть преображен, возвышен, освобожден <...>4.
Но мне надо было знать — был ли когда-нибудь воплощен мой идеал. Были ли не монахи, а люди творческие — девственны всю жизнь. И я с ликованием узнал имена: Спинозы, Ньютона, Владимира Соловьева.
Не все то, что я записал здесь, было мною продумано к тому времени <...>. Все это оформилось года через два, но уже тогда
4 Опущено: волновавшие Н. П. образцы творческой, духовной любви в драмах Ибсена; обращение к средневековой культуре в поисках примеров преобразующей любви.
я понимал многое, и твердо стоял на этом пути к очищающей любви.
Я робко спросил: «А как смотрит на любовь Наташа?» — «О, она, конечно, с нами», — ответила, оживляясь, Таня. Она мне рассказала, что и с Наташей говорил Заяц и Таня потом слышала, как плакала всю ночь ее старшая сестра.
Беседовали мы и о нашем будущем. Нам обоим хотелось стать учителями сельской школы — «идти в народ». В Барановке я впервые жил бок о бок с крестьянами. Мне нравились их умные, сосредоточенные, худощавые лица, загорелые и обветренные, их длинные бороды, их волосы, подстриженные в скобку, их рубахи, синие и красные, высоко подпоясанные, их лапти. Мне они казались обнищавшими и опростившимися князьями древней Руси. В них жил вековой образ русского человека. Хозяйство крестьянина, его труд были такими разнообразными. Крестьянин все умеет, что ему нужно. Он ни от кого не зависит, разве что от кузнеца. Его труд вплетен поэтически в жизнь природы и составляет часть ее процессов. И я думал тогда: насколько ум крестьянина должен быть развитее, живее, многообразнее ума рабочего, который всю жизнь изготовляет деталь какой-нибудь машины.
Что может быть лучше того, чтобы свою жизнь посвятить крестьянам, просвещать их детей и быть с ними в тот грозный исторический час, когда начнется Революция.
Насколько крестьянин мог сживаться со своим товарищем по работе — с лошадью — может свидетельствовать обычай одного из работников в Барановке.
Коля Курбатов обнаружил в конюшне какое-то изделие из сучьев, прутьев и хвои. «Что это у тебя здесь?», — спросил он работника. — «Это лошадиный бог». — «Как лошадиный бог?» — «Ну, а ты что думаешь, что же им жить без бога, что ли?». Ведь это тот же Калиныч или Касьян с Красивой Мечи.
Наташа, нежно любимая всей семьей, держалась особняком. Ей было уже 24 года. Она кончила Строгановское училище и была художницей. В мезонине, в той комнатке, веранда которой выходила в сад, был уголок ее студии. Наташа писала пейзажи. Особенно удавались ей полевые цветы.
Она любила одиночество. Я видел ее то с кистью, то с книгой. Гуляла она тоже одна. В хозяйственной жизни Барановки она мало принимала участия. Я видел ее изредка только на работе в огороде или же в дни покоса.
Наташа выглядела так моложаво, что казалась ровесницей Тани. У нее была необычайно легкая поступь. Она в задумчивости на ходу поднимала руки и гладила ветви дерева, никогда не срывая листьев. Иногда я видел ее с охапкой цветов, которые она бережно и любовно несла, не только для того, чтобы наполнить ими вазы, но и для того, чтобы дать им новую жизнь на холсте, где они станут такими легкими, светлыми и нежными. Помню ее
кофточку из серого холста, покрытую темно-красными узорами, черную юбку, темную косу, охватывающую венком голову, нежный очерк лица, одухотворенный лоб и большие глаза, смотрящие вдаль и вглубь, внезапно вспыхивавшие от чего-то свершавшегося в ее душе, быть может, ей самой неведомого. Иногда Наташа приближалась к нам, влезала на крышу риги и, усевшись, внезапно улыбалась нам. Но беседовала мало, больше отвечала на вопросы. Она была вся настороже, словно чего-то ожидая <...)5.
* * *
Наташа покидает Барановку. Могу ли упустить случай теперь, находясь с ней наедине, спросить ее о том, что меня беспокоило все дни барановской жизни. И я робко спрашиваю, верит ли она в Бога. Наташе неприятен мой вопрос, она слегка сдвинула брови и внимательно посмотрела на меня. Потом тихо сказала: «Я не люблю говорить об этом, но тебе, Коля, отвечу. Я верю в Бога, который есть космос. Знаешь, в того Бога, о котором писал Спиноза». И она замолчала. Я понимаю, что разговор кончен, но я должен задать еще вопрос: «А что есть зло?» Наташа ответила не сразу. «Зло то, что нарушает гармонию, но не будем больше говорить об этом. Тебе еще нужно много пожить и подумать».
На горизонте показались крылья мельницы Путятина. Путь мой был кончен. Я ехал назад один, подгоняя Жупела, и все повторял себе: «Как хорошо, как хорошо!» <...>6.
Глава II.В Киеве в 1905–1906 годах
Глава II.
В КИЕВЕ В 1905—1906 ГОДАХ
Осенью я вернулся в Киев после барановского лета обновленным. Я сознавал себя современником своего времени. Это величайшее благо. Я уже не смотрел назад, я смотрел кругом, я смотрел вперед. С грустью простился я с миром Диккенса и равнодушно отошел от гордого одиночества Байрона, с трудом привитого мне Навашиными. Предо мною раскрылись горизонты социализма, но это была туманная даль с радужными переливами. Возобновились занятия в гимназии. Изменился я, но изменился и весь класс. Он уже не напоминал мне, как в прошлом году, зверинец. Большинство объявило себя социалистами-. Мои товарищи, подходя друг к другу, спрашивали: «Ты с-р или с-д?» Словом, tertium поп datur¹.
Эсеры с Михайловским и Лавровым в руках говорили, что они левее. Жертвенный героизм «сознательной личности», «кровь муче-
¹ Третьего не дано (лат.).
ников— семя обращения». Герои поведут за собой толпу. Террор приблизит революцию. Это — первый этап. Нам, русским, не нужно ждать роста производительных сил, мощных кадров промышленного пролетариата. У России особенная стать.
Эсдеки доказывали, что левее они. Их тактика научно обоснована гением Маркса. Их войско — уже достаточно сильный пролетариат, в особенности таких промышленных центров, как Петербург и Москва. Революцию сделают не личности, а массы, вооруженные учением Маркса, и эта революция будет окончательна, так как она будет созданием масс передового пролетариата, который выдвинет своих вождей.
Инакомыслящие притаились, словно сконфуженные. Сын жандарма Книговский притих: он больше не рисовал лохматых людей с насупленными бровями и не подписывал под своей мазней «социалист».
Мои друзья Киричинский и Вильчинский не объявили себя ни эсдеками, ни эсерами. Они «изучали вопрос», погрузившись в чтение книг, которые после октября (1905 г.) наводнили нижний рынок. Все были охвачены радостным ожиданием великих событий. О войне уже никто не говорил. Ее считали проигранной и относились равнодушно к ее дипломатическим результатам. Не все ли равно, останется ли многострадальный Порт-Артур за нами или нет? Что будет с Сахалином? О Витте говорили, что это фокусник, который из острова сумел сделать полуостров.
Наступило 18 октября, тот день, когда стал известен манифест 17-го октября. Как ни оценивать в свете истории этот документ, для тех, кто пережил эту дату—она останется днем великой народной радости. Но радость эта переживалась по-разному. Для одних это была дата конца борьбы, для других — дата первой победы, после которой должна начаться решительная борьба.
Государственная дума фактически ограничивала самодержавие. Но ненавистное правящим кругам слово «конституция» не было произнесено. В этом уже таилась готовность взять «дарованные права» обратно или постепенно свести их на нет. Характерно было и то, что русский представительный орган был назван не «парламентом» или «палатой», а старым русским термином «дума». Казалось, ограниченный манифестом царь не мог уже называться самодержцем. Однако термин «самодержавие» сохранился, манифест отменил-де самовластие. Все это было очень туманно.
В тот же день те, кто поздравлял с конституцией, получал в ответ «куцая». Толпы возбужденного народа спускались с обоих склонов киевских гор в долину Крещатика. Многие срывали трехцветные знамена, обрывали красную полосу, разрывали ее на ленточки и раздавали всем желающим. Красные ленточки у одних служили перевязью на руке, другие втыкали их в петлицы или прикрепляли к пуговицам. Учащиеся зацепляли их за значки своих школ на фуражках. То тут, то там вспыхивали песни: «Вихри
враждебные», «Смело, товарищи, в ногу», «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и даже «Марсельеза».
На углу Фундуклеевской и Крещатика толпу (она не была еще похожа на колонны демонстрантов) встретил отряд драгун и открыл огонь. С гневными криками толпа рассеялась. Я не видел ни раненых, ни убитых. Может быть, стреляли в воздух? Но мне запомнился свист пуль и удары их о штукатурку. Я спрятался в подворотне. Тогда еще охранители не догадались приказывать дворникам закрывать ворота.
Эти выстрелы породили какое-то смятение в моей душе. Что же они означают? Где же свобода слова, собраний? Обман! Ловушка! Отряд драгун скрылся. Снова из-под ворот, со дворов Крещатика и Фундуклеевской стали стекаться люди, снова Крещатик превратился в русло людского потока. Но недавняя радость была уничтожена. Толпа была возбуждена. Ждали лозунга для начала действий. Поток двигался к думе. После Прорезной началось обратное движение, смявшее нас. В панике неслись извозчики, подгоняемые седоками. В толпе люди шарахались, боясь быть растоптанными скачущими лошадьми. Вскоре показались казаки, гнавшие демонстрантов.
Впоследствии я узнал, что у городской думы были произнесены революционные речи и сбросили двуглавого орла.
Толпа вновь хлынула в подворотни и разбежалась по смежным улицам. Я оказался на Михайловской улице. Здесь я встретил других людей, дурно одетых, с мрачными лицами. В их руках были дубинки или резиновые жгуты. Я не понял, что это громилы, как черные вороны, слетаются на добычу.
В этот же день начался еврейский погром. Правая печать («Киевлянин») выступление черной сотни толковала как отпор народа революционной интеллигенции, как взрыв патриотического чувства негодования широких масс против тех, кто осмелился растоптать государственный герб. Между тем выступление черной сотни носило заранее подготовленный характер. Где же было сорганизоваться этим бандам в столь короткий срок? Ведь события у думы только что разыгрались!
Как мгновенна и как наивна была наша радость!
Погром длился несколько дней. К нам заходил сосед по дому (знакомый еще по Умани) Михаил Фаворов7. Он рассказал, что громилы приняли его за еврея (он был очень смугл и черноволос) и хотели избить. Его спасла матерная брань: «Ну нет, это не жид, это наш!» — решили громилы и оставили его в покое. Не очень лестный вывод для русского человека.
В университетах, институтах выбраны советы старост. Шла борьба за академическую автономию. Профессура также боролась за автономию, вкладывая в нее свое содержание. За высшей школой последовали гимназии, реальные училища.
В нашей гимназии тоже состоялась сходка. Гимназисты старших классов, начиная с пятого, собрались в крайней классной ком-
7 Вероятно, речь идет о сыне священника, крестившего Н. П., — протоиерея Николая Фаворова.
нате. На сходку мы пригласили нашего Зевса-Громовержца — директора Е. А. Бессмертного. «Куб», инспектор Чирьев, пробовал убедить нас разойтись. Мы, конечно, не расходились. Директор ясно понимал, что мы не разойдемся. Он решил, что лучше быть свидетелем событий, и потому принял наше предложение. Горячую речь произнес восьмиклассник Смирнов. Он обрисовал картину «освободительного движения» и призвал нас сорганизоваться и выбрать совет старост, которому предстояло выработать наши требования к гимназической администрации. Перед выборами поднялся внезапно шум. Раздались крики: «Удалить Флоринского, он может донести». Высокий, рыжеватый Флоринский, с прищуренными глазами, как-то сжался и выскользнул из класса. Мы вспомнили его прозвище «Крыса». Приступили к выборам. От каждого класса шесть человек, по три от отделения. Имена кандидатов писались мелом на черной доске. Было названо и мое имя. Евгений Адрианович то хмурился, то улыбался.
Требования гимназистов были сформулированы советом старост и утверждены сходкой. После этого они были переданы Бессмертному. Он принял нашу петицию о правах и обещал ее рассмотреть.
Евгения Адриановича вызвал губернатор Сухомлинов (тот самый, что был впоследствии военным министром). Он изругал нашего директора за потворство революционной молодежи. Вскоре Бессмертный, впавший в немилость, был переведен «в глушь, в Саратов».
Между тем Евгений Адрианович вел себя как педагог и видел в нас не страшных революционеров, а детей, за судьбу которых он отвечает прежде всего перед своей совестью. Он медлил с ответом, тянул, надеясь, что волна возбуждения схлынет. И... она схлынула. Наша гимназия была едва ли не единственной, где никто из учащихся не пострадал. Всюду имели место исключения. Учащиеся, исключенные из реального училища, сделались впоследствии моими друзьями (Оберучев, Селлиский, Вайнцвейг; с Сашей Поповым я был уже знаком). Политическая атмосфера во второй классической гимназии была так накалена, что двое гимназистов были исключены за изготовление бомб: Глеб Мищенко и Даниил Лурье. Бомбы (в сущности, петарды) были изготовлены для обструкции против штрейкбрехеров.
Наша гимназия тоже примкнула ко всеобщей забастовке, и у нас также нашлись штрейкбрехеры. Но никаких эксцессов не было. В гимназию мы заглядывали, агитировали за забастовку среди штрейкбрехеров. Восстание саперов в Киеве, судьба Шмидта, броненосец «Потемкин», восстание в Москве в декабре — все это захватывало нас, подростков, сознанием начала «могучих и великих дней». Над моим столом висела открытка с изображением лейтенанта Шмидта и Марии Спиридоновой. Мы коллекционировали сатирические журналы, в особенности высокохудожественный «Жупел». Конфискованные номера повышались в цене на 100 %.
Эти месяцы высокого общественного подъема <...>, окрылившие нас чаяньем наступления новой свободной жизни, основанной на социальной правде, были омрачены для меня тяжелой борьбой с мамой.
Я был единственный сын. Кроме меня, у мамы никого не было. Сознание этого возлагало на меня особую ответственность. Мама жила в постоянном волнении. Когда я возвращался после сходки или засиживался у товарищей, меня встречал запах эфиро-валериановых капель. С мамой делались ужасные припадки, от которых она задыхалась и синела. Врачи говорили мне: если я не изменю своего образа жизни, я погублю свою мать. «Враги человеку домашние его».
Я сам так изнервничался, что заболел острым нервным расстройством. Те же врачи потребовали взять меня из гимназии и назначили курс водолечения и впрыскиванья мышьяка. Так я выбыл из гимназии. Но связи с ней не порывал. Я посещал своих гимназических друзей, и они посещали меня. Это были Киричинский, Вильчинский и Поллак (русский, поляк и еврей) <...>8.
Озя Поллак был мой юношеский идеал того времени. Стройный блондин, выше среднего роста, с живыми серыми глазами и нежным румянцем, он казался твердым и спокойным, как человек, нашедший свой путь в жизни. Его речь была сдержанна. В отличие от массы товарищей, он никогда не употреблял бранных слов, не курил и, как весь наш тесный круг, не хотел знать богиню Афродиту. Многое, что было свойственно ему, я узнал в образе Рахметова Чернышевского, лишь без его суровости.
Два других моих ближайших друга тех лет — Киричинский и Вильчинский, в отличие от Поллака, были полны сомнений и исканий, но не бесплодных. Им нелегко давалась истина, но, находя ее, они утверждались в ней. Социализм не был для них «модой», «передовым» учением. Они не боялись упрека в отсталости. Они оба шли упорно, но медленно к утверждению его <...>9.
Киричинский впоследствии писал мне о своем обращении в социализм. О том, как его пронзила мысль о нищете и бесправии масс, о язвах большого города, об ужасе проституции. Он проклял капитализм.
Киричинский мне был ближе всех. Он чутче всех меня понимал. С каким волнением и вниманием Воля выслушивал мои рассказы о Барановке! Он не был красив, как Озя Поллак и Ян Вильчинский, у него было широкое лицо, небольшие, узкие глаза, но на лице его лежала печать тонкой одухотворенности. Оно было полно грусти. И мне был дорог внезапный смех Воли, когда он широко раскрывал рот и тряс плечами. Киричинский был болен туберкулезом. Может быть, в нем была не только тонкая душевная организация, но и предчувствие ранней смерти. В его комнате всегда царил порядок. Я помню бронзовый бюст Платона на письменном столе и редкий замечательный портрет Комиссаржевской, особенно дорогой мне потому, что она здесь напоминала мне Наташу
8 Опущена запись в дневнике Н. П. от 6 октября 1906: споры Поллака с Вышомирским об эгоизме творческой личности, размышления юношей о нравственном долге перед народом.
9 Опущено продолжение той же записи: неудовлетворенность Киричинского учением Михайловского.
Курбатову. Думая о своем Воле, я всегда вспоминаю слова Огарева о Грановском:
Он духом чист и благороден был.
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка10.
Иным был Ян Вильчинский. Жизнь в нем била ключом. Глаза его всегда сияли. Его жесты были широки и экспансивны. Его открытое лицо было очень красиво. Мне вспоминается, как Ян рассказывал мне о том впечатлении, какое произвели на него страницы «Войны и мира», где описаны две встречи князя Андрея с дубом. «От волнения я не мог читать дальше. Я захлопнул книгу и воскликнул: Пся крев, до чего же это хорошо!» Вильчинский участвовал в нескольких польских кружках самообразования. Он верил в приближение нового расцвета польской культуры. Поляк до мозга костей, Ян очень любил и чтил русскую культуру, а в особенности литературу и науку. В те годы он переживал увлечение красивой панночкой Лялей, которая разделяла его умственные интересы, но не хотела отказаться от «нарядов», «балов», и всей этой «недостойной чепухи», которая служила поводом к постоянным столкновениям <...>11.
Мы вступали в сознательную жизнь в знаменательные годы великого подъема всей «русской земли». Вслед за ними наступили годы реакции с самоубийствами, эротической литературой, лигами свободной любви и чувственным мистицизмом. Мы шли «против течения», потому что перестали быть «современниками своего времени» и отшатнулись от него, не теряя веры в будущее, в торжество своей правды.
Пришла весна 1906 года. «Идет, гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум». Открытие Первой Государственной думы, «Думы народного гнева». Тон ей давала Партия народной свободы, которая воспринималась нами как партия умеренной русской интеллигенции, которую буржуазия хотела использовать в своих целях. Мы с жадностью всматривались в лица народных представителей Муромцева, Родичева, Петрункевича, Набокова, Герценштейна. Вспоминалось открытие Генеральных штатов во Франции. Требование амнистии, земельная реформа. Несмотря на наши социалистические убеждения, речи кадетов казались очень смелыми. Но еще более увлекала речь трудовика Аладьина, который представлялся мне с широкой бородой крестьянина (такими изображали в Отечественную войну 1812 года партизан). И как я был разочарован, когда увидел его портрет с энглизированным лицом и в кепке.
Мы выбегали за утренними газетами, ловили вечерние. Речи депутатов читали от начала до конца, иногда вслух. Все увлекало нас. Даже вождь правых граф Гейден, мирнообновленец, казался симпатичным своей корректностью и деликатностью формулиро-
10 Из стихотворения Н. П. Огарева «Искандеру» («Я ехал по полю пустому...», 1846).
11 Опущено: выдержки из переписки Вильчинского с Киричинским о «половом вопросе», письмо Вильчинского к Н. П., написанное спустя шесть лет: «...я гордился Вами как моим другом ради этой точки зрения» (речь идет об аскетических убеждениях Н. П.).
вок. О нем говорили, что, желая кого-нибудь назвать дураком, он говорил так: «Это не чересчур умный человек».
Штурм правительства «Думой народного гнева», казалось, должен был закончиться победой: если вся дума от крайней правой до крайней левой была в оппозиции. В ту весну в Киеве были частые грозы, бурные, но мгновенные. И эти грозы, с их громом и молниями, перекликались с речами депутатов. И как после этих мгновенных гроз земля казалась обновленной, полной благоухания, так и исторический день того многообещающего времени воспринимался полным радужных надежд нашей незрелой, «желторотой» политической мыслью.
В здании Оперы шли гастроли Веры Федоровны Комиссаржевской. Помню тот вечер, когда в антракте, до глубины души взволнованные игрой гениальной актрисы, мы с Волей Киричинским вышли на балкон. Гремела гроза. Она обложила город со всех сторон. Молнии, почти беспрерывные, сверкали и слева, и справа.
Мы были совершенно уверены, что за этими очистительными грозами наступят ясные дни. Так будет и на просторах нашей родины <...>12.
12 Опущено: письмо В. Киричинского через два года с воспоминанием о спектакле и грозе.
В тексте воспоминаний Н. П. следующая глава идет перед настоящей; мы поменяли их местами, чтобы сохранить хронологический порядок изложения.
Глава III. Снова в Барановке
Глава III.
СНОВА В БАРАНОВКЕ
Я возвращался с мамой в Барановку весной 1906 г. обогащенным, много пережившим и передумавшим подростком, но не изменившимся. То, что было заложено в Баранрвке прошлым летом, дало свои ростки, и я с нетерпением ожидал встречи с Наташей и Таней. Мне так хотелось сказать, что я стал к ним еще ближе, а они мне еще дороже. Я ехал с тайной мечтой вместе с ними заняться с деревенскими ребятами.
Мы приехали утром. За чайным столом еще сидела вся семья, только не было Наташи и Тани. На мой взволнованный вопрос, где они, я получил ответ: «Там под дубами, они собрали деревенских ребят и возятся с ними». Я вздрогнул. Неужели же все сбылось так, как я хотел! Мама не могла меня задержать. Я сбежал по ступеням террасы в сад. Но по березовой аллее я не бежал, а шел, медленно приближаясь: уже издали видел Наташину темную голову, склоненную над книгой, и вокруг нее русые головки ребят. Таня сидела рядом.
Я не должен был мешать занятиям. Мне следовало удалиться. Но я не мог выдержать и подошел к дубам. Дети, заметив меня, сразу съежились и затихли. На лицах сестер отразилась мгновенно досада, но, узнав меня, они улыбнулись и подозвали к себе. Однако я удалился, недовольный собой и счастливый вместе с тем от сознания, что смогу пригодится в занятиях. Я был уверен, что сестры не отвергнут мое предложение. И сестры допустили меня.
На следующее утро, когда мы пили чай, из сада донеслись веселые голоса. Это пришли ребята. Наташа немедленно встала из-за стола. За ней последовала Таня. Они собрали книжки, взяли бочонок, в котором были сложены кубики с буквами. «Коля, ты не передумал? Идем!» — и мы трое пошли по березовой аллее к дубам. Ребята с ликующими криками неслись к нам навстречу. Впереди, обгоняя всех, малыш — Петя Долгушин. «Дай, что-нибудь понесу!» И я дал ему бочонок. С каким торжественным видом нес его впереди всех этот русый малыш в пунцовой рубахе, без пояса и в синих «портках».
Урок начался. Ребята сидели вольно, кто на скамейке у стола, кто на траве под дубами. Все они были неграмотными. Возраст самый разнообразный — от б до 12 лет. Среди них были уже знавшие буквы, это те, кто пришли первыми с тихим и застенчивым Ваней Трегубовым, крестником Наташи.
Ядро составили 20 человек, из которых около половины было девочек. Вскоре мы разделили наших учеников на группы, по степени их успеваемости. Утренние занятия состояли из обучения азбуке, арифметике и разучивания стихов. Ребята читали хором и нараспев.
Как отрадно было видеть их радость, когда из букв получались слова, а из слов — фразы или когда решалась задача. У нас не было никакого принуждения, кроме одного: «Ты не хочешь учиться, ты мешаешь другим. Уходи и больше не приходи». И шалун мгновенно стихал, а лентяй становился внимательным. Удалять нам никого не пришлось. Уроков мы не задавали, да не было и возможности. Ребята должны были в той или иной мере участвовать в сельских работах. Однако родители всячески поощряли их хождение в Барановку.
Помню, как сын старшей из сестер Курбатовых, Нины — Володя—- способный и бойкий мальчик, после занятий, подбежал к школьникам и одному из них, Паше Долгушину, задал обычный для ребят вопрос, сколько ему лет. Тот отвечал: «Восемь». Володя смерил его презрительным взглядом с головы до ног и сказал: «Какой же ты коротышка!» Пашок выпрямился и засверкал глазами: «Я коротышка, а ты велик! А знаешь почему? Я работаю, отцу помогаю, а ты голубей гоняешь, вот и растешь». Володя смутился, завертелся и убежал. Потом этот разговор был передан в столовой. Много смеялись диалогу «мальчика в штанах» с «мальчиком без штанов».
Бывали дни, когда ребята не приходили. Мы знали, что их забрали на работы, что им так же грустно, как и нам. Помню вечер. Я сидел на косогоре с томом Ибсена (тогда моего любимого автора). Садилось солнце над лугами. И прямо навстречу мне трусил верхом на коне, тащившем за собою борону, Никита Новинский. Поднятая им пыль проселочной дороги казалась золотым облаком. «Микиточка», в красной рубахе, с развевающимися прямыми волосами вокруг разгоряченного, совершенно круглого лица,
мне кричал: «Коля, я боронил!» Прямые волосики, поднятые ветром, окружили его голову золотым ореолом, а лицо, покрытое веснушками, сияло гордостью: «Я боронил!» Микиточке было тогда шесть лет. «Из него выйдет Микула Селянинович», — шутила Наташа.
Наши занятия с ребятами не кончались утренними часами. Вечером я с сестрами шел по живописному берегу речки Ненгур, прорывшей глубокое русло в овраге. Близ деревни Выдерги мы садились на холме и поджидали наших ребят. Они прибегали, уже поужинав, после захода солнца. Кто-нибудь из нас рассказывал сказку или легенду, или что-нибудь из русской истории. Иногда я объяснял строение цветка, или говорил о солнце, луне и звездах, которые одна за другой вспыхивали на небе. А ребята называли нам полевые цветы, рассказывали свои сказки, говорили и о приходской школе, где учились их старшие братья и сестры, говорили дурно (школу не любили). Девочки плели венки. А потом, когда сумерки сгущались, все пели хором. Хор не смолкал, и когда они гурьбой шли к деревне, чтобы разойтись по своим избам. Мы еще долго слушали их затихавшие голоса:
Распрямись-ка, рожь высокая,
Тайну свято сохрани.
Маша Новинская (старшая сестра Микитки), умная рыжуха, командовавшая всеми девочками, рассказывала, как отец полюбил теперь слушать ее. «Вот до чего дожил, моя дочка учит меня, старика, уму-разуму». Маша дружила с Дуней Кочетковой, самой способной из девочек и самой миловидной. Дуня была очень застенчива и, в смущении, чудесно смеялась серебристым колокольчиком. Обе они были большие мечтательницы. Помню, как после рассказа Наташи наступила тишина. Слышно было только, как журчал внизу Ненгур, зацепляясь за камни, да во ржи перепел подавал свой звонкий голос. И Дуня стала говорить о том, как она решила с Машей уйти в лес и жить там, укрывшись от всех, питаясь ягодами да грибами.
«Ну? — заметил недоверчиво один из мальчиков. — А когда придет зима?» — «Тогда домой, не замерзать же в лесу», — возразила с веселым смехом Дуняша, расставаясь со своими мечтами. Была еще тихая девочка — «Акулина — Серый глаз». Она сидела всегда, прижавшись к Наташе. Ее крошечное, темное, как на иконе, личико выражало напряженное внимание ко всему, что говорилось кругом. Смеялась она часто тихим, почти неслышным, смехом и ластилась как кошечка. Среди других резко выделялась Алена Костюхина своим топорным лицом и грубостью. «У, Кос-тю-хи-на», — одергивали ее подруги. Она была из самых бедных. И как же я был тронут, когда эта Костюхина как-то принесла мне бублик, сунула в руку и убежала, не сказав ни слова. Я узнал, что бублик привезли ей из Москвы.
Подошел день моего рождения. Все ребята пришли ко мне в
гости. В долине Ненгура, на лугу был устроен пикник с раздачей подарков. После — игры. Как хороши были девчата, мелькавшие своими красными сарафанами и белыми рукавами, как большие бабочки над изумрудной травой. Запомнилась мне игра в молочники. Хозяйкой была Маша, надевшая ради праздника зеленую шляпу, возбуждавшую общий смех. Она расставила в погребе кувшины с молоком. Вереница ребят уселась на коленки. К молочникам подкрадывался кот и выпивал молоко. Хозяйка отгоняла кота, но тот вновь и вновь появлялся из-за кустов и опоражнивал все новые молочники. Опустелый кувшин опрокидывался на спину. И кот и хозяйка создали подлинные театральные образы <...>13.
К концу лета у нас троих с ребятами создался особый мир, который мы хотели оградить от окружающей жизни. Как тяжело мне было оторвать себя от ребят и уехать с мамой в Киев. У меня сохранилось несколько писем, полученных от них в ту зиму, и два письма Наташи о получении моих писем ребятами. Они наравне с выдержками из дневника Наташи будут свидетельствовать о том, что запись моя не старческая идеализация «доброго, старого времени» или «безвозвратной юности». Моя запись — лишь слабый и бледный отблеск тех чудесных дней, когда мы были полны веры в избранный нами путь <...>14.
* * *
Наша жизнь с ребятами деревни Выдерги мне живо напомнила школу князя Мышкина в «Идиоте». Ведь и его система заключалась в том, чтобы создать в целях воспитания общую жизнь. «Я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними все мои четыре года». В этом было самое ценное его и нашей системы. Школа князя Мышкина возникла не вместо официальной школы, а наряду с ней.
Идиот говорил: «Через детей душа лечится ...я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие, вечно бегущие ножки».
Духом равенства, духом взаимного обогащения должна крепиться связь между учителем и учениками, если у них создалась общая жизнь. Это была тогда не идея, а лишь педагогический инстинкт. Идеей это стало позднее.
* * *
Жизнь барановского дома летом 1906 г. не походила на прошлогоднюю. Со страстным нетерпением семья Курбатовых ожидала газет. Их читали теперь вслух за обеденным столом. Читали по очереди. За чтением следовали горячие споры. Старшее поколение («отцы») сочувствовало кадетам, дававшим тон 1-й Думе, младшее поколение («дети»), в том числе, конечно, и я, были на стороне левых партий. Митя и Коля, нарисовав углем и мелом на большой доске Трепова, учились стрельбе из браунинга. Всем были памятны
13 Опущено: посещение ночного гулянья на деревенской улице.
14 На опущенных страницах: выписки из дневника Н. И. Курбатовой от 29 мая и 4 июля 1906. Обучение крестьянских детей и дружеские отношения с ними. Письмо Н. И. Курбатовой к Н. П. от 22 августа т. г. с описанием реакции детей на его письмо, их просьбами прислать фотографию Н. П.
бои на Красной Пресне. Надо было готовиться к новым баррикадам.
Как-то мне пришлось везти Антонину Николаевну с мамой к соседям и дальним родственникам Курбатовых Берам. (Старик Бер, уже покойник, был один из виновников Ходынки) <...>. Въехав на усадьбу «Угол», я как конюх отправился на конюшню, Сказавшись идти в «такой» барский дом. Там я попробовал впервые агитировать против царизма. Но опыт моей агитации походил на опыт Нежданова («Новь» Тургенева). Пока я говорил о земле и воле, все шло хорошо, но только я затронул царя, как вся дворовая загудела, и один из стариков сказал мне: «Говори, что хошь, но ни царя, ни Бога не тронь, а то мы знаешь, что с тобой сделаем». Я не нашелся, что ответить, и замолчал.
В Барановке теперь часто бывал Алеша и подолгу о чем-то говорил с Митей и Колей. Иногда я замечал, что они шепчутся. Как-то раз Алеша пригласил нас («маленьких») к себе в Чугры. При этом он просил скрыть свое приглашение от старших.
Чугры расположены в низине. Их омывает порожистая, живописная речка Тырница. Алеша завел нас в чащу, на дно глубокого оврага. Вся эта таинственность нам очень нравилась. Там внизу мы разложили костер, и, пока варилась картошка, Алеша извлек кипу книжонок и каких-то листовок. Это были прокламации.
Становилось ясно, что Дума будет разогнана. Революционеры готовились к восстанию. Алеша полагал, что нам еще рано доверять распространение прокламаций, но, вместе с тем, считал нас достойными быть посвященными в начинания революционеров. Брошюры он дал нам почитать. В основном они были посвящены аграрному вопросу. После завтрака, который показался нам в этой обстановке особенно вкусным, Алеша, внезапно покраснев, достал тетрадь и предложил выслушать свою повесть, которая называлась «Пусть вспыхнет пожар». Это был символический рассказ. Пожар — символ революции. Он читал застенчиво, и в лице его было что-то мечтательное и нежное, то, что он с годами потерял совершенно.
Я тогда не знал А. Блока. Но мое душевное состояние я мог бы выразить его словами:
Приветствую тебя, начало
Могучих и великих дней15.
Революционер Алеша Матвеев очень увлекался «Братьями Карамазовыми», особенно главой «Великий Инквизитор». Он уверял, что нельзя сохранить христианскую веру, прочтя эти страницы беспощадного, сокрушительного анализа. Я не соглашался с ним, хотя и отошел уже от веры отцов. В те годы меня тянуло к пантеизму, и рассказ «Тени» Короленко и «У порога» Вересаева удовлетворяли тогда мое религиозное чувство.
Помню день, когда пришло известие о роспуске Государственной думы. Почему-то газеты не были доставлены в Барановку.
15 Искаженные строки стихотворения Блока «Опять над полем Куликовым...» У Блока: «Но узнаю тебя, начало // Высоких и мятежных дней».
Пришлось идти за ними в имение Марии Федоровны Эмме, умной старухи, которую, как исключение среди соседей-помещиков, почитал Иван Ильич.
Был вечер. Вызывалась идти Наташа. Я попросил разрешения сопровождать ее. Мы шли сперва березовой рощей, где в мирные дни собирали грибы, а в лунные ночи гуляли. Эта роща называлась «Рощей Куинджи». Потом шли густым смешанным лесом. Поднималась кроваво-красная луна, как на картине Врубеля (любимого тогда художника Наташи). Кричала резко и тревожно сова. «Это так не пройдет, — думалось мне, — народ поднимется, чтобы отстоять свою Думу, ведь ее же звали «Думой народного гнева». Пожар вспыхнет». Наташа была задумчива, молчалива. На мои взволнованные вопросы она отвечала коротко: «Да, я хочу верить, что народ поднимется».
Перед моим отъездом все Курбатовы пошли погулять в березовую рощу. К нам присоединился Н. А. Бер («Шишка»). По своему обычаю, он издевался на этот раз над нашими надеждами на восстание. «У красных ничего не выйдет. Они не знают народа и народ не с ними. Природа не терпит красного. Посмотрите на лес: он весь зеленый». — «Подождите, Николай Анатольевич, придет осень, и эти клены и осины покраснеют. Лес будет красным».
Гласом вопиющего в пустыне прозвучал призыв Выборгского воззвания16. Народ безмолвствовал <...>. Лес остался зеленым. Мы ошибались. Революция еще не созрела. Это еще не было «началом великих и могучих дней».
Лето 1906 г. сблизило меня с Наташей, в особенности занятия с детьми. Незадолго перед отъездом мы остались с ней вдвоем на веранде. Был уже поздний час. Мне давно хотелось задать ей те же вопросы, которые задал Алеша Карамазов брату Ивану. Робко спросил я ее, верит ли она в бессмертие души. Ее ответ о Боге я помнил и внимательно прочел «Этику» Спинозы, прочел с трудом. Наташа ответила мне, что не может представить себе конца жизни духа. Тогда я решил задать последний вопрос, вопрос о ее взгляде на любовь. И Наташа ответила мне так, как я хотел: и она признавала лишь «духовную любовь». Я испытал в тот час то счастье, которое граничит со страданием. И снова в тишине ночи, над полями пронесся звон далекого колокола.
«Возлюбим друг друга да единомыслием исповемы» <...>17.
* * *
Осень 1906 года была полна ожиданием событий <...>. В гимназии все волновалось. Гимназисты распались на группировки, из которых каждая отдавала свои симпатии одной из борющихся партий. Дома создалась невыносимо тяжелая атмосфера. Если я опаздывал на 15 минут, то заставал маму вне себя от волнения. На столе перед ней рюмка, от которой пахло эфирно-валерьяновыми каплями. Маме все казалось, что я уже тайно втянут в одну из революционных партий, что я участник каких-нибудь нелегальных
16 Выборгское воззвание — обращение группы депутатов Первой Государственной думы (кадетов, трудовиков и социал-демократов), принятое в Выборге в ответ на роспуск Думы. Призывало «граждан всей России» до созыва Думы не давать «ни копейки в казну, ни одного солдата в армию» и объявляло недействительными займы, заключенные без санкции Думы. По делу о Выборгском воззвании 167 депутатов Думы 12—18 декабря 1907 были приговорены к трем месяцам тюрьмы каждый, что лишало их избирательных прав. См. подробнее: Винавер М. М. История Выборгского воззвания. [Б. м.], 1917.
17 Возглас диакона в просительной ектений на литургии верных. Эта мысль стала центральной для Н. П. в браке.
Далее опущено: посещения Барановки в последующие годы, встречи с Курбатовыми и крестьянскими детьми. Превращение Алеши Матвеева в «нового хозяина „вишневого сада"». Рождество 1910 года в Барановке — «граде Китеже»: «сон в зимнюю ночь». Барановка летом 1924: застенчивые и теплые встречи с бывшими учениками. Грустные размышления Н. П.: «И не только сознание недоделанного угнетало меня, не только сознание своего бессилия улучшить их жизнь, но и чувство уходящей жизни, ощущение конца». Прощание с любимыми местами Барановки. Смерть И. И. и А. Н. Курбатовых. Гибель Барановки от пожара — «конец дворянского гнезда». Значение Наташи Курбатовой в жизни Н. П.: «Она неведомо для себя открыла мне тот путь любви, который привел меня к моей Тане (Оберучевой. — Публ.)».
собраний. Я вспоминал мои тревоги в отроческие годы, когда опаздывала она, и молчал. Вскоре возобновились сердечные припадки.
Все это так тяжко действовало на меня, что у меня вновь сделалась бессонница, снова врачи потребовали водолечения, .впрыскивания мышьяка и, наконец, моего увоза из Киева, так как общение с товарищами слишком возбуждает. Я думаю, что здесь был заговор у мамы с врачами. Как бы то ни было, меня решили везти за границу. Вынужденный отъезд очень огорчил меня. Жаль было расстаться с новыми друзьями, общение с которыми давало мне так много. Но мои друзья — и Поллак, и Киричинский, и Вильчинский — одобрили план мамы: «Поездка будет вам полезна во всех отношениях». Да и мне самому было интересно увидеть новые края. Все это меня примиряло с решением мамы.
В Ницце жила ее подруга по Умани Ю. Ф. Ржепецкая, которая усиленно звала мою мать, уверяя, что лучше Ривьеры не найти уголка для зимнего сезона.
Итак, Франция. Я начал внимательно читать книгу Гилярова (киевского философа) «Предсмертные мысли XIX века». Книга очень увлекла. В своем дневнике я делал длинные выписки из нее. Я выписывал не те места, в которых излагались мысли, увлекавшие меня, а те места, которые так или иначе поразили мое воображение. Я уже прочел многих французских романистов (В. Гюго, Доде, Мопассана, Бурже, Прево и др.). У меня мало-помалу выработался взгляд на Францию как на лучшую выразительницу западноевропейской культуры и, вместе с тем, как на страну, истощившую свои исторические силы. Эти мысли мне нравились. За ними неизбежно следовала мысль, что будущее принадлежит русскому народу, полному свежих исторических сил, которые найдут себе выход после победы революции <...>18.
18 На опущенных страницах: калейдоскоп впечатлений по пути в Ниццу — Галиция, Вена, Тироль. Мысль о возможности в последнем «социализма в настоящее время»: «Под социализмом я тогда понимал общинное землевладение в народной республике, чистую, трудовую жизнь в тесной связи с природой. Мой социализм еще недалеко ушел от моих социальных утопий рыцарской игры».
Проезд через Италию, встреча с Ниццей. Описание города и его окрестностей. Кладбище, могила Герцена, попытки Н. П. стереть с нее надписи паломников. Времяпрепровождение Н. П. и круг его чтения: роман Золя, учебник биологии, «Исторические письма» Лаврова. Размышления о природе эстетических чувств у человека, о перспективе исторического процесса, о долге перед народом и др. Склонность Н. П. к эпатажу местной буржуазной публики.
Подруга Е. М. Анциферовой — А. И. Фермор, ее дочь Вера — смолянка. Светский быт Ниццы, рулетка, «жертва игорной лихорадки»—семья Раппопорт. «Ницца — ярмарка невест»: история девицы Кутейниковой. Соседка по пансиону — Николадзе, двоюродная сестра Церетели.
Прогулки по окрестностям Ниццы с Верой Фермор и ее отчимом присяжным поверенным Нежинским. Встреча Нового года в семье Нежинских-Ферморов. Влюбленность в Веру Фермор, ее колебания между «романтизмом» и «светской мишурой». Попытки «раскрыть ей глаза на социальную неправду нашей жизни».
Карнавал в Ницце. Тягостные впечатления от «разложения культуры гнилого Запада, оздоровить который (...) может только революция». Отъезд Нежинских-Ферморов, тоска Н. П. по России.
Знакомство с коммунаром Турским, знавшим Кропоткина и Бакунина. Рассказы Турского о Парижской коммуне, его отрицательное отношение к российским кадетам; поездка с Турским и его семьей в Ментону; знакомство с анархистом Штакельбергом.
Прощание с Ниццей, раздумья на могиле Герцена.
Дальнейшие встречи с ниццуарскими знакомыми: братьями Раппопортами — сотрудником «Речи» Юрием и летчиком Аркадием; семьей Нежинских-Ферморов. Жизнь последних в особняке Мятлева на Исаакиевской площади, помолвка Веры Фермор в 1908 с офицером Семеновского полка Генриковым, расстройство этого брака, замужество Веры за французским адмиралом, будущим морским министром в кабинете Эррио. Посещение Н. П. дома, в котором жили Фермеры, в 1920-е для чтения лекций в Институте истории искусств.
Глава IV. Номер тридцать седьмой
Глава IV.
НОМЕР ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
О, число чудесное!
О, число фатальное!
Горестей конечное,
Радостей начальное.
1. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
<...>19. Был канун Пасхи 1907 года. Я спускался на трамвае по Бульварно-Кудрявской вниз к Еврейскому базару. Я ехал к своему другу детства — Саше Попову. Нетерпение мое было столь велико, что я соскочил с трамвая и побежал по тротуару: мне необходимо было двигаться. И как же я был озадачен, когда друг встретил меня с какой-то растерянной улыбкой: «Подожди, Коляночка. Я сейчас сбегаю в одно место и скоро вернусь». Я в
19 Опущено: дневник Н. П. 1907, восторженный характер записей в нем, «раскрытость души горестям и радостям», итоги молодых лет жизни: «Подготовлена целая трудная жизнь, прожитая так, что на нее не стыдно оглянуться (в чем-то основном <...), что зародилось в Никитском саду, возросло в Барановке и теперь получало боевое крещение в «Номере тридцать седьмом»)».
недоумении остался с его родными. Саша вернулся действительно скоро. «Ну, вот: все уладилось. Мы все вместе встретим Пасху у Оберучевых. А то, понимаешь, как же мне было раздвоиться: хотелось и с тобой, и с ними. Оберучевы тебя зовут».
Саша мне уже писал о юношеском кружке, который собирался в семье полковника Оберучева, у которого было три дочери. Кружок состоял из реалистов, товарищей Миши, двоюродного брата трех сестер. Все эти реалисты были исключены из реального училища за участие в революционном движении 1905— 1906 годов. Впрочем, «исключенность» не была обязательным условием для включения в кружок. Один из реалистов — Ника Дрейер продолжал учение в своем классе, а был одним из основных членов кружка. Кружок назывался «№ 37», т. к. Оберучевы жили в доме под этим номером по Малой Владимирской улице. Кружок не ставил себе политической задачи. Его цель была — самообразование.
Все это рассказал мне Саша, пока мы поднимались с ним по Малой Владимирской до ворот, где висел фонарь — на синем фоне «№ 37».
Мы вошли во двор, посреди которого рос тополь, и направились во флигель. На наш звонок открыла дверь маленькая девочка с золотистыми кудрями в синем платье — младшая из трех сестер, Мэкуся. Вслед за ней появились две гимназистки в коричневых платьях и белых праздничных передниках. Они были почти одинакового роста и казались ровесницами. Меня поразило лицо одной из них, с точеными чертами. Тогда я видел только глаза, из которых лучился синий свет. Эти глаза смотрели внимательно, с каким-то тайным вопросом. Мне трудно что-нибудь сказать о них — они осветили своим синим светом всю мою жизнь.
Нас провели в столовую, где уже был накрыт пасхальный стол. Я заметил тогда только одно: на стене столовой изображение рыцаря, закованного в латы, а под ним две скрещенные рапиры. В гостиной — большое изображение Сикстинской Мадонны.
Мать трех сестер, Екатерина Михайловна, еще молодая женщина (ей тогда было 37 лет) приветливо встретила нас. Она была худощава. Глаза ее глядели также пристально, но в них была печаль, и улыбка не оживила этих скорбных глаз.
Вслед за нами пришел Миша Оберучев, реалист невысокого роста, с черными глазами. Его лицо не было красиво. Волевая складка на лбу выражала сосредоточенность, и его улыбка также не меняла выражения глаз. Крепкий, мускулистый, скуластый, он казался мне юношей большой силы воли, трезвым и трудоспособным. Полным контрастом мне.
Дружно было решено перед тем, как разговляться, совершить прогулку по городу.
Мы шли к Владимирской горке. Небо было ясное, звездное. Днепр там, внизу под горой, казался безбрежным морем с двумя-тремя островками. Это были дни предельного разлива. Высоко над
нами на своем цоколе стоял бронзовый Святой Владимир, держа над Киевом крест. А там, левее, на днепровском берегу звездами мерцали в колыхавшемся воздухе огни Подола, и среди них многочисленные огоньки плошек вокруг старых церквей. Острое чувство родины охватило меня.
Высота ль, высота ль поднебесная,
Широта ль, широта ль океан-море,
Велико раздолье по всей земле,
Глубоки омуты днепровские!20
Весенний воздух вздрогнул от первого удара колокола Софии; он как камень упал и от него, все ширясь и ширясь, подхваченный сотнями колоколов, кругами разливался по городу пасхальный звон.
Не только звуки наполнили весенний воздух, он был насыщен запахом лопнувших почек пирамидальных тополей — дерева города Киева. И этот волнующий запах казался тем ладаном, которым в святую ночь ликующая природа насыщала храм земли.
Мне вспомнилась другая пасхальная ночь — в Москве, в семье Курбатовых. Но эта ночь мне казалась еще в большей степени мистерией.
С Владимирской горки мы прошли к Михайловскому собору, потом к Софийскому и, наконец, к Владимирскому. Всюду мы видели толпы молящихся с горящими в ночи огнями. У Владимирского собора уже начиналось христосование.
Мы не входили внутрь храма. Все мы уже покинули нашу детскую веру отцов и матерей.
А мне и не нужно было заходить в храм, потому что в эту ночь мне весь Киев, вся земля казались превращенными в храм мне тогда неведомому Богу, перед которым я не переставал благоговеть.
После наших хождений вокруг церквей мы вернулись к Оберу-чевым разговляться. «По старине торжествовали в их доме эти вечера».
Когда я прощался, Миша отвел меня в сторону и спросил тихо: «Вы умеете молчать?». — «О, да, конечно!» — «В таком случае зайдите ко мне дней через десять. Гоголевская, д. № 24».
Я был озадачен и вместе [с тем] польщен. К маме, одиноко встретившей праздник, я вернулся поздно. Я не мог разобраться в своих чувствах. Мне было и хорошо, и грустно; грустно оттого, что я ощущал себя чужим. Я заметил, что меня называли, обращаясь к Саше, «Ваш товарищ», и в ту весну это стало моей кличкой. Я не был подлежащим, а лишь дополнением.
Как я был далек от мысли, что эта пасхальная ночь была тем зернышком, из которого вырастет древо всей моей жизни.
С нетерпением я ждал назначенного дня. Но он обманул мои ожидания. Миша сказал мне: «Исполните одну мою просьбу. Вот Вам пакет. Не пытайтесь узнать, что в нем. Передайте его Тане так, чтобы никто не заметил. Знаю я Вас мало, но я верю
20 Запевка из былины о Соловье Будимировиче в записи «Сборника Кирши Данилова» (СПб., 1901).
Вам. Прошу Вас это сделать, именно Вас, так как Вы из всех моих товарищей наименее связаны с домом Оберучевых». Изумленный этой странной просьбой, я взял пакет и обещал исполнить все в точности. Я решил, что это дело какой-то подпольной революционной организации. Больше всего меня смущало, почему Миша не решался сам передать этот таинственный для меня пакет. И теперь, когда уже рассеялась тайна, мне этот поступок Миши остался непонятным. Я немедленно пошел в № 37-й. Во дворе Мэкуся и Мися (сын брата Е. М. Оберучевой, А. М. Покровского, ею усыновленный) покупали мороженое. «А вот и «Ваш товарищ»! Мороженщик, еще порцию!» В квартире Оберучевых из открытых окон слышался смех. В открытую дверь я вошел без звонка. Там было много молодежи. «А, «Ваш товарищ»!» Я отозвал Таню, улучив удобную минуту. Она с изумлением посмотрела на меня своими внимательными, полными какой-то покоряющей жизненной силы глазами. Я молча протянул пакет. Она быстро взяла и так же быстро сунула за корсаж; я только заметил, что лицо ее дрогнуло.
Чтобы мой приход не показался странным, я посидел со всеми около получаса. Когда прощался, Таня крепко пожала мне руку своей тонкой хрупкой рукой и значительно сказала: «Спасибо!».
Что же я сделал? Не поступил ли я дурно? Тайну пакета я узнал много позднее.
Таню Оберучеву воспитали в духе позитивизма. Ее дядя, Александр Михайлович Покровский, доцент Харьковского университета, антрополог, был совершеннейшим скептиком; другой дядя, со стороны отца, полковник Константин Михайлович Оберучев был стойким революционером, формировавшим свое мировоззрение на Чернышевском, Добролюбове, Михайловском. Мать была равнодушна к религии, хотя дома патриархально отмечала все праздники и водила своих дочерей, пока они были детьми, в церковь. Она считала, что религия, как и сказка, необходимы, чтобы детство было освещено поэзией.
Подлинную веру ощутила маленькая Таня лишь в своей няне-староверке. Ее рассказы о святых и паломниках глубоко врезались в душу ребенка и определили ее дальнейший духовный путь. Детство Тани в этом смысле было похоже на детство Лизы Ка-литиной.
Семья Оберучевых не оказалась прочной семьей. Екатерина Михайловна, родив троих детей, разошлась с мужем. Николай Михайлович Оберучев не походил на своего брата Константина. Это был честный, простой, добрый человек, нежно любивший семью, но плывший по традиционному руслу военного служаки. Во время революционных событий 1905 года он проявил себя по-своему. Не примкнув к революции, Николай Михайлович не захотел участвовать и в ее подавлении. Получив приказ выступить против мятежников, он сделал вид, что не понял, куда ему вести
свой полк, и привел его не по назначению. Николая Михайловича любили, и он отделался каким-то незначительным дисциплинарным взысканием.
Почему супруги Оберучевы жили врозь, оставалось тайной для детей. Отец на некоторое время приезжал к ним, или же они на лето ездили к нему. Девочки верили, что у него не было другой семьи и что он сохранял верность их матери. Мне не пришлось с ним познакомиться. В германскую войну Николай Михайлович был убит в Польше. Его полк должен был идти в контрнаступление. Но огонь противника был так силен, что солдаты не решались высунуться из окопов. Николай Михайлович вышел первым и упал, получив несколько смертельных ран. Его солдаты, увидя гибель любимого начальника, бросились 'в бой и сделали свое дело21. Николай Михайлович получил посмертного Георгия. Он был похоронен с большими воинскими почестями в Киеве, на Аскольдовой могиле. В декабре 1924 года я посетил могилу своего тестя.
Екатерина Михайловна считала свою личную жизнь разбитой и трагически переживала распад семьи. Она целиком отдалась воспитанию своих детей. Это был человек долга, пуританского склада, считавший, что в отречении смысл ее жизни. В те годы она очень походила на «Даму в голубом» Сомова. Екатерина Михайловна замкнулась в себе и прошла жизнь со своим горем с гордо поднятой головой. Она сделала для своих дочерей все, что было в ее возможностях, но и от них она требовала такой же жертвенности.
Маленькая Таня страстно любила свою мать. Любила она и отца. И тем не менее она росла одиноко в мире детской мечты. Такой она и выросла. Про нее говорили:
В семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она в душе хранила образ няни-староверки. Позитивистское влияние окружающей среды разрушало ее веру, но Таня оставалась в своей основе религиозной. Ее революционная тяга к народу, определившаяся в юности, приняла небывалую форму. У нее возникло желание «пойти в народ» своим путем. Таня хотела получить паспорт какой-нибудь мещанки и, соответственно одевшись, пойти с богомольцами по святым местам. Этот паспорт ей должна была достать революционная организация. Миша взялся это устроить. В том пакете, который я передал Тане, и находился паспорт. План ее заключался в том, чтобы уйти из дома и в Киево-Печерской лавре примкнуть к группе богомольцев. Осенью Таня хотела вернуться домой, чтобы закончить гимназию. Уйти из дома Тане не пришлось. Она в ту весну заболела сухим плевритом. Это было начало той болезни, которая свела ее впоследствии в могилу. Свой неосуществленный замысел Таня описала в форме рассказа «Богомолка». Она постаралась представить, как все могло бы быть.
21 В семье Анциферовых сохранилась и несколько отличающаяся версия гибели Н. М. Оберучева. По словам Т. Н. Камендровской (дочери Н. П.), ее дед погиб, «спасая своих солдат», и посмертно был произведен в генералы. (Письмо к публикатору от 15 декабря 1988).
Я нашел этот рассказ в ее бумагах. Там же лежал паспорт на имя какой-то мещанки. Рассказ я увез в Москву, и он сохранился. Паспорт же сгорел со всем архивом, который хранился в «шкапу былого» в городе Пушкине.
2.СОЛИПСИЗМ
Я сделал свое дело и был больше не нужен. Правда, доверие, оказанное мне, утешало. Но все же я оставался «Вашим товарищем», дополнением к Саше, и только. Оберучевская весна 1907 года распускалась не для меня.
Никогда я не чувствовал себя так одиноко, как в эту весну. Мне казалось, что я всюду лишний. Тогда-то и зародился во мне страх стать «лишним человеком». Я потерял русло своей жизни. Мои товарищи по гимназии Киричинский, Поллак и Вильчинский встретили меня очень хорошо. Много рассказывали о нашей гимназии, много расспрашивали о заграничной жизни. Но я не переставал чувствовать, что у них образовалась и окрепла своя, отличная от меля жизнь, созрел круг своих особых интересов, выработался даже какой-то свой язык. Учитель словесности Л. Ф. Батуев помог их развитию не только в области литературы, но и в области эстетики и даже философии. У нас в гимназии появились выдающиеся учителя, среди них даже два профессора. Митюков преподавал законоведение, Челпанов — психологию. Между моими друзьями часто вспыхивали споры, в которых я уже не смел принимать участие.
Не мог я уже вернуться и к Навашиным. Нас разделила Барановка. Я бывал в Святошине. Митя читал мне свои произведения, развивал свои философские взгляды. Он мне дал тогда Шопенгауэра, в тот период наиболее вредную для меня книгу.
Его сестра Таня, по-прежнему дружелюбно ко мне относившаяся, не могла стать точкой опоры. Она была по-прежнему замкнута в гордом одиночестве.
<...> Тогда-то я почувствовал, что теряю ощущение реальности внешнего мира. Я переживал то жуткое состояние, которое так прекрасно -описал в «Отрочестве» Л. Толстой. Мне тоже казалось, что весь мир — мое создание <...>22.
И я, как мальчик-Толстой, быстро оборачивался, со страхом ожидая увидеть действительность — пустоту. Увидеть «нечто» без иллюзии. И вот на почву такого душевного состояния попала мысль Шопенгауэра. Я ходил читать эту злую книгу в Ботанический сад, и, когда я закрывал ее и смотрел кругом, мне казалось, что на всем лежит какая-то тень и я «абсолютно» мистически одинок. Позднее я узнал это душевное состояние в рассказе Мопассана «Solitude»¹ и в стихотворении В. Брюсова:
¹ Одиночество (франц.).
22 Опущено: выписка из дневника Н. П., трагизм солипсических размышлений: «Теперь же я знаю, что не Бог творец мира, а я. <...> Но мое создание должно погибнуть вместе со мной».
Проходят дни, проходят сроки,
Свободы тщетно жаждем мы.
Мы беспощадно одиноки
На дне своей души тюрьмы.
Напрасно дух о свод железный
Стучится, крыльями скользя.
Он вечно здесь, над той же бездной,
Упасть в соседнюю нельзя23.
Я писал в «Дневнике»: «Мне попался Шницлер. «Жизнь есть игра, а игра — жизнь». Эти ужасные слова казались мне истиной. Разве наша рыцарская игра не была жизнью!? А разве эта жизнь не есть игра... Все смех, смех сквозь слезы».
И меня охватывал ужас. Я плохо спал по ночам. Все прислушивался к чему-то грозному, что нависло надо мной. Мне в темном окне мерещились какие-то рожи, маски.
Я тогда не знал, что это была болезнь душевного роста, что, так мучительно остро поняв одиночество, я понял и его значение, и путь к его преодолению.
В один из ясных дней той весны я бродил по уединенным уголкам Ботанического сада. Весна была уже в полном расцвете. Я бездумно отдавался природе. В голове не было мыслей. Какие-то милые, светлые образы скользили в сознании. Я радовался этой возрождающей силе весны, попирающей всякую смерть. Внезапно я увидел Таню Оберучеву, которая сидела на складной скамеечке и писала этюд масляными красками. Я не выдержал. и подошел к ней. Она посмотрела на меня радостно и вместе с тем вопросительно. Словно спрашивала, а какую же радость ты несешь с собой? Так же глядела она вокруг себя: и на ясень, листва которого сверкала, как чешуя рыбы, и на кружевные тени деревьев, мягко лежавшие на дорожке <...>.
Встреча с Таней Оберучевой была мне ответом на мои философские вопросы, есть ли мир вне меня. Я глубоко (и навсегда) почувствовал подлинность иного бытия.
Все то, чего не скажешь словами,
Узнал я в облике твоем24.
Не раз я вспоминал эти слова А. Блока!
3
Лето мама согласилась провести в Крыму, близ нашего Никитского сада, в Гурзуфе. Прошло ровно десять лет со смерти отца <…>25.
Я любил встречать сумерки в «мертвой долине» по дороге в Суук-Су. Как любил в Ницце встречать закат в одиночестве у кипарисов близ памятника Герцену. Здесь я мог сосредоточиться. «Жизнь есть сумма приятных эмоций (настроений)». Моя жизнь
23 Ст. 1—4 и 25—28 элегии В. Я. Брюсова «Одиночество» (1903, сб. «Urbi et orbi»). Пунктуация и порядок слов в ст. 4 приведены нами в соответствие с оригиналом.
24 Ст. 11—12 из стихотворения Блока «Благословляю все, что было...» (1912). В оригинале ст. 11: «Все то, чего не скажешь словом».
25 На опущенных страницах: роспуск Второй Государственной думы — июльский переворот 1907, надежды Н. П. и его товарищей на массовый протест, «безмолвие народа», манифестация «черной сотни» в Одессе. Уличные крики проститутки, тягостные раздумья о «хаосе, угрожающем культуре». Пребывание в Гурзуфе вместе с В. Н. Белокопытовым и Г. А. Фортунатовым, ощущение «юношеской радости жизни», экскурсии в Никитский сад, в Алупку, на Ай-Петри, чтение книг по литературе, философии и истории. Знакомство со «старшим поколением, сознательно пережившим 1905 год»: музыкантом А. Н. Дроздовым, братьями А. и И. Селихановичами, их рассказы о новой литературе (символистской), певец Г. Ф. Гнесин, знакомство с музыкой Вагнера.
без русла распылялась на эти настроения, а я сосредоточивался на себе, замыкался в круге своего «я». Нужно преодолеть этот магический круг. И я записал тогда в «Дневнике»: «Вне любви нет жизни». И несколько позднее: «Любовь открывает глаза. Но не любовь к природе, науке, искусству. Она тоже «открывает глаза», учит видеть. А любовь к людям. Только она может дать реальную жизнь, за пределами своей индивидуальности. Только она может спасти от одиночества».
Таковы были мои выводы в конце лета 1907 года. Я щедро отдавался «празднику жизни», но он не удовлетворял меня. Пережитое в Барановке требовало от меня другого.
4
Осень 1907 г. Киев. Снова чувство одиночества овладело мною, но я возвратился с твердым решением работать, учиться. «Теперь осень, скоро придет зима, занесет все снегом, а мы будем работать, будем работать». Эти слова — из «Трех сестер» я часто тогда вспоминал. Спектакль в Соловцовском театре произвел на меня глубокое впечатление.
Я накупил книг, учебников, составил план работ и в гостинице «Прага» на Большой Владимирской, где мы нашли временный приют, засел на занятия. И снова какие-то непонятные ночные страхи овладевали мною <...>. Бессмысленно повторял стихи Метерлинка:
Душа моя, приют несовершенных дел,
Рыдает горячо, беспомощно взирая
На трепет рук своих, касающихся края
Того, чего рассвет не дал еще в удел26.
Метерлинк, Леонид Андреев — это не те авторы, которые могли мне помочь окончательно освободиться от солипсизма. Моя религиозность нуждалась в твердой вере, а эти авторы, возбуждая религиозность, не имели ничего, чтобы утолить возбужденную жажду.
В начале сентября я встретил на Подвальной Таню Оберучеву и Сашу Попова. Они шли на Крещатик в книжный магазин Идзиковского. Таня провела лето в Алферове, имении своей тети Лидии Гавриловны Гессель. Она очень поправилась, посвежела, окрепла.
Мне было предложено сопровождать их. Я охотно согласился, и мы отправились вместе. Таня делилась со мною своим планом работы о крепостном праве (история его развития, отмена и остатки его после Освобождения). Я дал ей совет привлечь материал о пережитках крепостничества на Западе. Мне хотелось, чтобы Таня в своей работе показала, что и на Западе, в буржуазных странах, осталось рабство. В моем совете, конечно, сказалось влияние Герцена. Таню моя мысль заинтересовала. Она пригласила меня зайти
26 Ст. 5—6 из стихотворения М. Метерлинка «Молитва» («О, сжалься надо мной за то, что медлю я...») в переводе О. Чюминой (1907). Ст. 8 в этом переводе: «Того, чему расцвет не дан еще в удел».
к ним в № 37-й. Я был в восторге. Сестры Тани, Аня и Мэкуся, радостно встретили меня возгласами: «А, "Ваш товарищ"!» Екатерина Михайловна также приветливо отнеслась ко мне и пригласила к вечернему чаю.
<...> Разговор перешел на философские темы. Вскоре возник страстный спор между мною и Таней. На месте разрушенной детской веры у нее сложилось материалистическое мировоззрение, совершенно чуждое ее душевной основе. Ей казалось, что это воззрение обязательно для каждого революционера. Есть ли в человеке душа, как особая, присущая ему субстанция? (Мне сейчас, когда я это пишу, вспоминаются споры 20-х годов вокруг рефлексологии, которой пытались заменить психологию). «Если есть душа, как особое начало в человеке, то она должна быть и у животных, предков человека», — говорила убежденно Таня. «Да, конечно», — спокойно отвечал я. «Значит, и в растениях». — «Да, и в растениях». Таня шла все дальше, заранее уверенная в своей победе, применяя метод редукции «ad absurdum»¹. Она, наконец, дошла до камня, радостно ожидая моего «нет». «И у камня есть душа», — отвечал я с вызовом. «Это — парадокс?» — «Нисколько!» И я с увлечением стал ей развивать учение пантеизма о всеобщей одухотворенности. С горящими глазами изумленная Таня слушала меня. Она ничего подобного не слыхала и ни о чем подобном сама не думала. Но то, что она слышала от меня, не было ей чуждо. Она взволнованно повторяла, когда я останавливался: «Дальше!» Разговор постепенно перешел на литературу. Я доказывал, что натуралист Золя в сущности не чужд романтизма, так как ему ведомы сверхличные существа. Земля в его одноименном романе живет какой-то своей самостоятельной жизнью, магазин в «Счастье дам», железная дорога в «Человеке-звере», рынок в «Чреве Парижа», шахты в «Жерминале», наконец, города Рим, Париж, Лурд — все это для Золя особые сверхличные существа, как для романтика Гюго Собор Парижской Богоматери. Все меня слушали очень внимательно, не исключая и хозяйки дома. Я засиделся. Надо было прощаться. А как не хотелось уходить. Екатерина Михайловна, прощаясь, просила бывать у них. Я понял, что перестал уже быть «Вашим товарищем». Ушел несколько сконфуженно, напоминая себе Рудина. Это опасно. Неужели суждено-таки мне стать «лишним человеком»? Но все же мне было хорошо: я так быстро сроднился с тридцать седьмым.
Саша мне через несколько дней передал приглашение бывать в их кружке. Он с улыбкой сказал мне, что взыскательная Екатерина Михайловна сказала обо мне после ухода: «У этого
¹ До абсурда (лат.).
5
Вскоре я пришел на собрание кружка. Мне пришлось дома выдержать целую бурю. Мама была крайне взволнована моим решением посещать «нелегальный кружок». Но я не уступил. Зачем такое волнение? Вед(» это не подпольная организация, ставящая себе целью политическое действие. Это же юношеский кружок для самообразования, вроде кружка Станкевича! Мы восполняем только школу, где учимся, так как школа уже не может удовлетворять все запросы. Я чувствовал, что кружок создаст центр моей жизни, она не будет распыляться в сменах настроений. Инициалы имени и фамилии Тани были Т. О., и я мысленно пророчески назвал ее «Точка Опоры». Кружок собирался в комнате Тани, где висели ею писанные картины (виды). Кроме Тани и Ани там я застал трех реалистов: Нику Дрейера, Сашу Вайнцвейга и Германа Селлиского. Почему-то Саша Попов отсутствовал, а Миша Оберучев задержался в Подольской губернии в своем хуторе.
Ника Дрейер — очень худой и высокий реалист в форме (он продолжал учение в училище). Его очень светлые волосы слегка вились. Глаза показались мне черными. Я только потом заметил, что они голубые, но зрачки Ники, как-то странно расширяясь, создавали впечатление черных глаз. Он походил на шиллеровского юношу. Только узкие губы его нервно вздрагивали и подчеркивали быструю смену чувств, отражавшихся на его выразительном лице.
Саша Вайнцвейг походил на неаполитанского мальчика, с волнистыми волосами, окаймлявшими смуглое лицо, с такими же черными глазами и пухлыми губами. Глаза его. мне не показались выразительными. Вайнцвейг острил и смеялся коротким смехом. Одет он был в черную русскую рубашку, подпоясанную ремешком.
Герман Селлиский — курчавый, с рыжеватыми волосами и горбатым носом, резко выраженный тип семита. Его лицо было очень подвижно и оживленно. На нем отражалось довольство собою. Одет Герман был в пиджак и казался взрослее всех нас. Ему можно было дать лет 25. Он говорил очень много, всех перебивал, усиленно жестикулировал.
Между ним и Никой постоянно вспыхивала пикировка.
Я в тот раз опоздал. Чтение главы «Политической экономии» Железнова заканчивалось.
Было решено заняться политической экономией, как базой всех наук. Наш социализм (все мы, кроме Ники, считали себя социалистами) мог получить научное обоснование только при помощи политической экономии. Да и с марксизмом познакомиться основательно можно было, только ознакомившись с этой наукой. Но я должен признаться, что, сознавая все это, имел малое влечение к политической экономии. Для меня это был необходимый искус <...>.
После второго посещения кружка я записал в Дневнике: «Все
служило темой для бесконечных жарких споров. Всякий поднятый вопрос глубоко интересовал нас».
Споры были беспорядочные, чисто русские. Мысль с одного вопроса перескакивала на другой. Спорили о социализме, о Джоне Стюарте Милле, о Пшибышевском и об Ибсене.
Герман своим полупрезрительным отношением к другим вызвал горячий возглас Коли Дрейера: «Вы хоть и сверхпопугай, но сидите все-таки в клетке».
Вскоре я не мог не заметить, что прочтенные главы из Железнова давали мало материала для споров. Мы помогали друг другу разобраться в неясных местах, но и только. Вопросы литературы, искусства и, в особенности, философии вносили в наши беседы гораздо больше не только оживления, но даже страстности <...>.
В каждом человеческом объединении создается особая душа, только ему свойственная. Она имеет свою историю, меняется как все живое, ибо лаvtа реt (все течет). Душа нашего кружка была очень пламенной, так как мы в его жизнь вносили весь свой юный пыл, всю страсть русского искания правды. Мы верили, что можем логическим путем достигнуть абсолютной истины. Когда мы овладеем ею, то станет ясно, как строить жизнь, «что делать?»
В центре нашего кружка стояла Таня. В ней больше всего было юного огня, трепетного и светлого. Она с исключительной •чуткостью относилась к каждому из нас, жила нашими интересами, сохраняя в глубине души свое личное. «Русское искание правды» было больше всего свойственно именно ей. В своей правдивости она доходила до беспощадности, она искала истину бесстрашно. И хоронила самые дорогие верования, если начинала считать их ложными. Ум ее поражал всех своей ясностью. Меня и Нику она вводила в русло трезвости, умеряя наш необузданный романтизм. (Впрочем, Ника в своей горячности легко впадал в крайности скептицизма, мучившего его.)
Сашу Попова, Сашу Вайнцвейга и даже Германа Таня обогащала своей поэтичностью, которой светилось все ее существо. Она не только для меня, она для всех нас была точкой опоры. И когда я ее инициалы Т. О. расшифровал так, со мной согласились все. Если бы не было Тани, не было бы и нашего кружка. Рядом с Таней стояла Аня. Молчаливая, замкнутая, со сдвинутыми бровями, она жила какой-то своей, недоступной нам жизнью. Мы только замечали, как порой вспыхивали ее узкие глаза и что-то сильное, неукротимое просыпалось в ней. Она жила одной жизнью с нами, но как она ее преломляла в себе, никто из нас не знал. Мы назвали ее «последовательницей Метерлинка», ибо он учил молчанию.
Но не только искание философской истины и социальной правды занимало нас в тот год. Окончив наши жаркие споры, мы выходили в столовую, где нас приветливо встречала Екатерина Михайловна в своем фартучке рачительной хозяйки. Там дожида-
лись нас с нетерпением дети: Мэкуся и названый брат трех сестер Мися.
После чтения затевались веселые игры. Больше всего мы увлекались шарадами. Иногда же все мы, усевшись на диванах и кресле гостиной под Сикстинской Мадонной, читали «интересное всем», например сказки Кота Мурлыки или Андерсена. Иногда мы с увлечением устраивали турнир и фехтовали теми рапирами, что висели на стене столовой.
Этот культ семьи Оберучевых вносил особую строгость во все взаимоотношения членов кружка. Мы называли это «поэзией отношений». Все мы были тогда на «вы». Покидая дом и оставаясь в юношеской компании, никто из нас не только не употреблял дурных слов, но и не рассказывал анекдотов и не допускал никаких вольностей. Никто из нас тогда не курил. Характерная деталь: «поэзия отношений» запрещала нам пользоваться уборной в квартире Оберучевых. Менее всех понимал эту «поэзию отношений» мой старый друг — Саша Попов. Он первый внес «ты» (а с Никой, моим наиболее тогда близким членом кружка, мы на всю жизнь сохранили «вы»). Он позволял себе некоторые вольности. И вот Ника потребовал его исключения. Он поставил требование Оберучевым: «Или я, или Саша Попов». Я не одобрил этот ультиматум. В дневнике я записал: «Я понял, что он (Ника) в своей любви не возвышался до признания свободы». Саша исключен не был, он был одним из самых преданных семье Оберучевых, разделял ее культ, но понимал его несколько по-своему.
6
Таня заканчивала министерскую гимназию27, которая помещалась рядом с нашей 1-й. Я помню, как мы взбирались на стену нашего сада и наблюдали гуляющих по своему саду гимназисток в темно-коричневых платьях и черных передниках. Единство формы создавало однообразную раму, и лица казались индивидуальнее. Лица не затушевывались пестротой одежд. Восьмой класс назывался педагогическим. В нем предстояло давать пробные уроки в младших классах. Таня с большой серьезностью, с сознанием ответственности и, вместе с тем, с большим увлечением готовилась, к этим пробным урокам. А мы, готовившиеся сдавать экзамены экстернами четверо юношей, были заняты больше всего самообразованием, а не учебой. Это очень беспокоило Таню. Нами было решено устроить занятия у меня на дому. И вот по утрам в моей комнате встречались оба Саши и Герман. Мы совместно решаем задачи, читаем и обсуждаем Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева. Но зачастую, увлекшись спором или начав острить, мы не помогали, а только мешали друг другу. И после ухода товарищей у меня оставался тревожный осадок. «Беспощадное время идет» (это строка из стихотворения Ники Дрейе-
27 В дореволюционной России женские гимназии по источникам финансирования и характеру управления подразделялись на три типа: министерские (находились в ведении Министерства народного просвещения), мариинские (существовали на средства государственной благотворительности — Ведомства императрицы Марии — 4-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии) и частные.
ра, который, к слову сказать, хорошо заканчивал курс в реальном училище).
В тот месяц в Киеве свирепствовала холера. Мы начинали занятия с просмотра газет. Сколько заболевших, сколько умерших. Пили чай с соляной кислотой, подшучивая над страхами перед холерными вибрионами. Гораздо больше волновали нас выборы в Третью думу, выборы, которые сулили победу реакционным партиям, благодаря закону 3 июля, изданному «диктатором» (как мы его называли) Столыпиным. И действительно — большинство составили реакционные партии. Становилось ясным, что на думу рассчитывать нельзя. Выход один — революция.
Надо готовиться. И все же первая задача — завершение среднего образования. Университет, институты — вот где мы найдем ту революционную среду, которая нас сумеет политически оформить. Но высшая школа только в Петербурге. И Петербург стал нашей страстной мечтой: только там «настоящая жизнь». Мы совсем охладели к родному Киеву! Я прочел у Гейне: «На французе, как на верстовом столбе, написано, сколько верст от Парижа». Так, думалось нам, и в России с Петербургом. Как-то в нашем кружке мы с энтузиазмом приняли тост «за нашу общую петербургскую жизнь». Аничка тогда вдруг разрыдалась. Она не могла с нами ехать. Ей еще предстояло учиться в гимназии <...>28.
7
Все мы считали Мишу [Оберучева] самым выдающимся в нашей среде. Его ясный, трезвый ум, его ирония и шутка, его талант поэта и художника, его физическая сила, и в особенности казалась сильной его .воля, как мы думали, воля героя. Он казался живым Рахметовым <...>. Миша не признавал «вещей в себе» и, мне казалось, занимал позицию «наивного реализма». Спор принял очень жаркий характер. Он не закончился моей победой, но и Миша не смог разбить мою аргументацию. Но как же мне было радостно, что Таня была на моей стороне и очень горячо поддерживала меня. Спор этот возобновлялся несколько раз и кончился неожиданно. Мы подали друг другу руки. Дело в том, что Миша защищал теорию тождества ноумена и феномена, отнюдь не отрицая самой проблемы имманентного и трансцендентного мира. Это была та позиция, к которой я и сам подходил и новое обоснование которой нашел несколько месяцев спустя в учении Лосского об интуитивизме. Миша оставался недоволен тем местом, которое заняли в жизни «37-го» проблемы философии. Однако, и ему не удалось изменить направление интересов нашего кружка.
Саша Вайнцвейг ввел в «37-й» своего товарища Даню Лурье <...>. Даня был моложе всех нас. Ему было 16 лет <...>. Это был невысокий подросток, с большой головой, высоким лбом, пере-
28 На опущенных страницах: осенняя природа Киева, лирико-философская окрашенность ее восприятия, попытки преодоления идейного кризиса, чтение романа «Накануне», страх оказаться «лишним человеком», «Берсеневым».
хваченным продольной складкой, с курчавыми черными волосами, припухшими, небольшими, пристально смотревшими глазами и пухлыми губами. При первом взгляде казалось, что лицо Дани опухло от укусов пчел. Ходил вразвалку и любил взять у спутника руку и держать вместе со своей в кармане, перебирая пальцы. Начинал он говорить, словно раскачивая свою речь, как игрок в кегли прежде чем бросить шар. Говорил он страстно и при этом с большой логической силой. Он, как и все мы, сочетал свою революционность с пылким интересом к философии. В этом отношении он оказался сильнее всех нас. В нем я нашел соратника. Благодаря его поддержке мною была одержана победа: «37-й» сделался преимущественно кружком философского направления. Даня был тогда кантианцем. Он любил начинать свою речь движением головы (словно хотел бодаться) и словами «с точки зрения Канта». Соединяла меня с Даней и любовь к Достоевскому. Это увлечение сказалось весной 1908 года.
Для характеристики этого горения юной философской мысли, этой веры в возможность дойти логическим путем до абсолютной истины, приведу несколько примеров.
Мы страстно обсуждали категории Канта. Время, пространство, причинность в их отношении к «вещам в себе». Я сидел с мамой в столовой и ел бифштекс (мое любимое жаркое), продолжая размышлять. Вдруг меня осенила мысль: существование «вещи в себе» обосновывается как причина, воздействующая на наши органы чувств и порождающая в нашем сознании феномены. Но ведь мы же, по Канту, не можем прилагать категории к «вещам в себе», следовательно, и категорию причинности. Я не мог от волнения кончить есть. Вскочил и, сопровождаемый возгласами мамы: «Сумасшедший!», побежал в «37-й», чтобы скорее сообщить о противоречии, открытом мною в учении Канта. Все согласились со мной.
Мне снились сны—продолжение философских споров <...>. Один из них был такой: роща из пиний и кипарисов. Сумерки. В роще мраморный алтарь. На нем бледный розовый огонь. Я стою у алтаря со свитком в руках. По другую сторону алтаря — Таня. Я показываю ей свиток, развернув его, и говорю: «Вот где истина». Но в этот момент по лесу побежали лучи восходящего солнца. Мы смотрим и видим, как весь лес наполняется его лучами. Огонь над алтарем совсем побледнел. Свиток падает как осенний лист из моих рук. Я поднимаю его и бросаю на алтарь.
Мы оба видим, как в сиянии дня он вспыхивает и исчезает, оставив по себе легкую струйку дыма. Я этот сон запомнил так хорошо, потому что позднее открыл в нем для нас с Таней пророческий смысл¹.
В те годы я не сжигал свитков с философской абсолютной
¹ Этот сон я видел уже в конце моей киевской жизни, когда я не вел Дневника. (Прим. Н. П. Анциферова.)
истиной. Подростки 16—18 лет упорно думали и спорили, веря, что смогут овладеть ею. Как же возможно жить, строить жизнь, творить жизнь, не зная ее смысла. Слова Алеши Карамазова: «Нужно прежде всего жизнь полюбить, тогда и смысл ее поймешь», — еще не дошли до нас во всей их глубине. Жизнь мы любили все страстно, с энтузиазмом, но не знали, что именно эта любовь и была путем к познанию истины, которая раскрывается самой жизнью <...>29.
8
Все мы верили, что наш кружок должен сыграть значительную роль в жизни каждого из нас. Мы были убеждены, что несем с собою в жизнь что-то новое, нужное, хорошее. Если бы нас спросили, что же именно несем мы, нам было бы трудно ответить. Мы хотели продолжать традиции декабристов, кружков русских идеалистов 30-х годов, народников 70-х. Но мы хотели, вместе с тем, все это синтезировать и включить в себя то новое, что было ценного в нашей эпохе, к деятельности в которой мы готовились. Но как узнать, что было ценного в нашей современности? Как бы не сбиться с торной дороги русской интеллигенции, которую мы представляли тогда преимущественно по Овсянико-Куликовскому30.
Из Петербурга приехал профессор Евгений Аничков. Наш кружок в полном составе пошел слушать его лекцию о новой литературе. Аничков читал напыщенно, уснащал свою речь эффектами. Но это не оттолкнуло меня. Мысль, им проводимая, показалась интересной. Он доказывал, что русские писатели боялись Венеры (чистое искусство), они чтили Мадонну (идейное искусство). Чехов первый понял абсолютное значение искусства, его самодовлеющую ценность. Но вот в литературу русскую вошла не только Венера, за ней шел и козлоногий сатир в окружении всевозможных сверхчеловечков. И чистый воздух искусства был отравлен запахом козлоногого.
Из прослушанной лекции я понял, что Аничков приветствует более широкое понимание задач искусства, чем это было свойственно русской интеллигенции, что он хочет синтеза эллина и иудея (терминология Гейне, нам тогда свойственная). Но он испуган тем характером, который приняло у нас воскрешение бога древности. Не Венера Милосская, а Венера impudica!¹ <...>.
Я познакомился с новой литературой впервые еще в Гурзуфе, и она ужаснула меня своим скептицизмом, опустошенностью и своей возбужденной до пределов эротикой, столь ненавистной мне. Нет, это был не Эрос. Это был Приап. Начали возникать лиги свободной любви». Все это было воспринято мной, как
¹ Бесстыдная (лат.).
29 На опущенных страницах: философские споры в киевских погребках за бокалом пива или меда, размышления о границах человеческого «я», знакомство с учением Фехнера о всеобщей одухотворенности, развитие философского направления в кружке, протест против него А. Попова, обсуждение проблемы ценности человеческой личности, выяснение отношения к индивидуальному террору.
30 О путях развития русской интеллигенции в начале XX века Д. Н. Овсянико-Куликовский писал, что «они идут в направлении от идеологического творчества к широкой политической и культурной деятельности, которая должна быть основана на расчете, знании и справедливости». (Собр. соч. Т. 9: История русской интеллигенции: Часть третья: 80-е годы и начало 90-х годов. СПб., 1911. С. 224).
порождение реакции, как измена революции. Я еще более пламенно уверовал в правду аскетизма, того светлого аскетизма, которым я проникся в Барановке.
Каким счастьем для меня было узнать, что Миша и Даня разделяют мою точку зрения, что и они стоят за полное безбрачие. А Таня? С ней я не решался заговорить на эту мучившую меня тему <...>31.
* * *
Выпал первый снег. Как все было чисто кругом <...>. Запах снега слышен только в первый день зимы. Таня предложила мне пойти на Владимирскую горку. Вспоминала она, что [там] была наша первая прогулка <...> в день нашего знакомства, в пасхальную ночь. Мы были впервые вдвоем, не мимоходом, как тогда весной в Ботаническом саду, мы были теперь уже связаны какими-то неведомыми нам нитями. Держась за руки, мы впервые стояли перед лицом жизни. Ни одного листка не было на дереве. Те тополя, которые так благоухали раскрывшимися почками, теперь стояли застывшими и нагими <...>32.
Мы не знали тогда, что мы вступаем на тот «трудный горный путь», который приведет нас через 7 лет в «наш заветный храм, весь пламенеющий победными огнями» <...>. Тогда мне казалось, что только Приснодева могла сочетать с материнством свою чистоту. И Сикстинская Мадонна, изображение которой висело в гостиной «№ 37-го», отражала это сочетание несовместимого¹.
С каким удивлением, помня живо свои убеждения того времени, я прочел в Дневнике следующую запись:
«У Тани совершенно то же чувство к детям, что и у меня. Когда я говорил, что мой ребенок будет продолжением меня в жизни, что мне будет близка и понятна его каждая печаль, каждое его стремление, — Таня с горящими глазами соглашалась со мною».
Этой проблеме — конфликту между стремлением иметь детей и требованием абсолютного целомудрия я, кончая университет, посвятил свое исследование «Mater Franciscus (О святом из Ассизи)»33.
9
Не было довольно направлением нашего кружка и старшее поколение, и по разным причинам. Дядя Костя предпочитал, чтобы мы занимались Чернышевским, Лавровым, Михайловским,
¹ Зимой 1957 года С. М. Бонди в Гос. Лит. музее для Пушкинской группы читал цикл лекций о Пушкине. Он сказал тогда: «Догмат непорочного зачатия слил во единое целое святое человека — мать и деву». (Прим. Н. П. Анциферова.)
31 Опущено: посещение постановки в театре Соловцова пьесы Ведекинда «Пробуждение весны», дискуссия с Т. Оберучевой и Н. Дрейером о «темной силе пола».
32 Опущено: выписка из дневника от 22 октября 1907, Киев в начале зимы, разговор с Т. Оберучевой о барановском лете: «Я повел Таню в Барановку, окружил ее учениками, осветил Наташей. Я говорил долго, долго. Когда останавливался, она говорила: «Дальше, дальше!» Я знал, что она понимала меня».
33 Окончательное название этой работы Н. П.: «Об аскетизме Франциска Ассизского» (ЦГИА Ленинграда. Ф. 14. On. 1 Ед. хр. 11096. Л. 1).
не говоря уже о Карла Марксе. Екатерина Михайловна, встревоженная возбужденным состоянием старшей дочери, предпочитала более легкий дух. Она стала поговаривать о «синем чулке» и в пылу спора как-то сказала: «Я предпочла бы, чтобы мои дочери на некоторое время сделались «кисейными барышнями»». Приехавшая из Смоленской губернии тетя Лидия, выслушав сетование Екатерины Михайловны, сказала про нас: «Нагадили на земле и топорщатся на небо», — и помахала крученой папироской, которую держала между двумя длинными пальцами. Это была настоящая Бетси Тротвуд <...>34.
Напрасно нападали на нас «взрослые люди». Мы совсем не были «головастиками», чуждыми юношеского веселья. Правда, у нас был своего рода культ страдания. Наши идеалы были так далеки от действительности, а наши требования к себе — от удовлетворения. Этот разлад должен был вызывать страдания. Довольство собой, довольство жизнью считалось постыдным, и бедный Герман с его хвастливыми возгласами: «Gross beginet ihr Titanen»* — вызывал всеобщее осуждение. Страданием определялось человеческое достоинство. Страдание было доблестью: не всякий имел право на него. Когда кто-то из нас заговорил о страданиях Вайнцвейга, Ника с негодованием воскликнул: «Как — и Вайнцвейг страдает? Ну, разве что от зубной боли».
Мы предвидели, что каждого из нас ждет в жизни свой крест, и не страшились этого. Мы хотим счастья, а не довольства. Довольство для троллей («Тролль, будь самим собой доволен» — «Пер Гюнт»).
Этот культ страдания сближал нас с Достоевским. Но Достоевский учил, что жизнь есть рай, нужно только это понять <...>35.
* Начинайте, титаны, великое… (нем.)
34 Опущено: знакомство с дядей сестер Оберучевых — антропологом А. М. Покровским, его «легкий дух», философские споры с ним, неприятие его членами кружка, огорчение в связи с этим матери Оберучевых — Екатерины Михайловны; жизнь А. М. Покровского — доцента Харьковского университета, его семейная трагедия (сумасшествие жены), разнообразие интересов в сочетании с их эпикурейским характером, заграничные путешествия А. М., дальнейшие встречи с ним и его смерть в 1929.
35 На опущенных страницах: противоречие между «радостью зимы» и мыслью об «униженных и оскорбленных»; гимназическая подруга Т. Оберучевой — Танечка Руденко, «гоголевская украинка», полная жизнью, «необычайно гармоничная», «художница по призванию». Дальнейшая жизнь Т. Руденко, ее скульптурные работы. Бабушки сестер Оберучевых, семья К. М. Оберучева, пение и танцы в их доме. Празднование Рождества 1907 года в доме Оберучевых.
Ответы на анкету «Кружка № 37» «для выяснения миросозерцания». На нее отвечали Т. и А. Оберучевы, М. Оберучев, Д. Лурье, Н. Дрейер, Т. Руденко, А. Попов, А. Вайнцвейг и Н. П. Почти все безоговорочно любили жизнь, но «смерти нет!» написал только Н. П. Вопросы о цели жизни и существе счастья вызвали разноречия (Н. П. указал «поиски гармонии»). Человечеству Н. П. желал «единую волю», А. Оберучева — «бессмертия», а А. Вайнцвейг — «социализма». Почти все «37-е» отрицали брак, по крайней мере для себя, а Н. П. и Н. Дрейер признавали только «ибсеновский», т. е. духовный. «Свободную волю» признавали все, кроме Т. Оберучевой. Взгляды на искусство были разнообразны, но все отрицали эротизм современной литературы. Любимой наукой Н. П. назвал биологию, писателями — Ибсена, Л. Толстого, Тургенева и Шекспира, поэтами — Надсона и Лонгфелло, художниками — Левитана, Врубеля и Беклина, композиторами — Грига и Вагнера. Главной добродетелью Н. П. считал «внутреннюю свободу» и был готов простить себе «разбросанность» и «пуританство».
Размышления Н. П. о себе как «человеке 40-х годов», его низкая оценка и «отцов», и «детей». «Белинский мне казался человеком, который избежал ошибок этих двух противостоявших поколений».
Надписи на групповом фотопортрете «Кружка № 37». Прощание с кружком и домом Оберучевых, подготовка к отъезду в Петербург.
Глава V.По трем столицам
Глава V.
ПО ТРЕМ СТОЛИЦАМ
Поезд мчал меня на север. Спасая мои занятия (подготовку к выпускным экзаменам), мама увозила меня в Петербург. Я был оторван от «№ 37-го». Грохот колес говорил мне:
Песенкой этой все в жизни кончается,
Ею же новое вновь начинается.
С каждой минутой нарастало пространство, отделявшее меня от друзей. Все дорогое уходило в прошлое. Наслаивалось новое. Я стоял у окна: белые поля, оснеженные леса, сизая дымка. А я хотел бороться со временем, все перебирал, как драгоценные камни, последние недели жизни в «№ 37-м».
Встреча нового, 1908 года. Монетка — серебряный, безгрешный, как новорожденный, пятачок, запеченный в пироге. Пи-
рог разрезан по числу гостей Екатерины Михайловны. Кусок с начинкой достался Тане Оберучевой. Она — королева Нового года. Общее ликование. Кого же изберет она в короли? Она избрала меня. Мы сидим рядом, во главе стола, как «князь и княгиня» на свадебном пиру. Все повинуются нашим приказаниям. В гостиной в центре с потолка свешивается омела. Кого поймают под омелой — того поймавший может поцеловать. Обычай мне не по душе. Кто-то поймал Таню. Но она королева — все ей повинуются — и она нарушает обычай.
Татьянин день — веселый Татьянин день. А вслед за ним день Нины. Это имя носила любимая подруга Тани. В этот день она ездила за город на Лукьяновское кладбище на могилу Нины. В этом году с букетом цветов я сопровождал ее. Так хотела она <...>36.
* * *
Вскоре я сидел в вагоне. И вот теперь стук колес:
Ти-та-та, та-та-та, ти-та-та.
Я ехал в Петербург, но я не думал о нем. Все мои мысли были в Киеве.
Петербург! Прямые линии, прямые углы. Серый гранит. Белая пелена широкой застывшей Невы. Иней на колоннах Исаакия. Какой холод! Застыл в своем порыве грозный Петр. Застыли царственные сфинксы.
Мы остановились на Кадетской линии Васильевского острова, у своих родных Леванда. В узком высоком доме ютилась большая семья. Как все здесь не походило на широкий радушный быт Софиевки! Изменились и люди. Дядя Митя сильно постарел. Он уже не был центром семьи. Покинув Софиевку, он хирел, жался в сторону от жизни. Время его прошло. Но центром не был и многошумный муж Маруси Михаил Александрович Покрышевский, студент-электротехник, пробивавший себе дорогу в жизнь, чуждый прогрессивному студенчеству. Бабушка, такая же кроткая, любящая, в черном чепчике сидела в кресле у своей божницы. Тихая, едва заметная. Лишь тетя Маша еще держала прямо голову и имела вид хозяйки. Пожалуй, центром семьи можно было бы назвать крошку-Мишука, который своим властным криком приковывал к себе всеобщее внимание. Ему еще не было и года, но он уже был всеобщим кумиром.
В этот приезд все в доме Леванда, кроме, конечно, бабушки, мне было чуждо. Все казалось безнадежно отжившим, а я рвался к новой жизни. И вратами в эту новую жизнь был университет. С каким трепетом я, недоучившийся гимназист, вступал в его стены! С какой жадностью читал расписание дня! Куда пойти, кого слушать! Да что слушать! Хотя бы увидеть. И я стоял на перемене в длинном коридоре и искал глазами профессоров, медленно покидавших аудитории. Ведь это же шествие богов в Валгалле!
36 Опущено: дневниковая запись о последнем вечере в гостиной Оберучевых, признание Т. Оберучевой верности слов, обращенных к Н. П. на групповой фотографии: «Ваша светлая душа возвышает и очищает других».
Максим Максимович Ковалевский, Николай Иванович Кареев, Кузьмин-Караваев, Петражицкий — ведь это не только профессора: это депутаты «Думы народного гнева». Я слушал их лекции, усваивал только отдельные места и поражался смелости их суждений!
Дома, за столом у Леванда я с восхищением рассказывал о своих впечатлениях, в особенности об этой «смелости суждений». Дядя Митя не выдержал: «Эти господа профессора получают от правительства плату за свои лекции и не стесняются воспитывать молодежь в революционном духе!» — «Нет, дядя, правительство получает деньги от народного труда, и профессора должны прежде всего отстаивать интересы народа». Дядя вскипел: «Молчать, мальчишка, ты ничего не понимаешь!» — и, обращаясь к маме: «Это твоя вина, Катя, что он стал у тебя красным». Я хотел отвечать, но бабушка, побледневшая, сердито махнула на зятя рукой и сказала мне: «Колюшка, не надо, Колюшка, помолчи!» Всем было тяжело. Скорее бы снять комнату и зажить самостоятельно. Комната была снята на Среднем проспекте у Восьмой линии.
Я любил дядю, этого цельного, честного, трудолюбивого служаку, любил и тетю, жизнерадостную, общительную, беспечную. Дороги мне были и воспоминания об их доме в Софиевке, где я родился. Они жили в нем, как помещики, на широкую ногу. Дом [был] открыт для званых и незваных. Дядя Митя любил парк, как свой сад, горячо принимал к сердцу все невзгоды. Теперь он вырван из родной почвы. События 1905 года заставили дядю покинуть Софиевку. Он был хозяином и хотел им остаться. А время хозяев прошло. В казенном Петербурге, с его чинопочитанием, дяде Мите, гордому и непреклонному, было не по себе. Он тяжело дышал в чуждом мире, как рыба, брошенная на сушу. Столкновения мои с дядей были неизбежны: он олицетворял тот старый мир, от которого я отрекался. («...Отречемся от старого мира...»)
История человечества представлялась мне взволнованным морем, по которому катятся волна за волной. Каждое новое поколение — новая волна. А впереди ничего. Я чувствовал себя в этой новой волне. Я сознавал себя в авангарде человечества — пока-пока не подрастет новое поколение, не набежит новая волна. И жутко, и весело было идти в первом ряду на приступ. Чего? Что предстояло брать? Ту цитадель, за которой прятался старый мир. Мог ли я отступить!
Мало того, я, как и многие мои сверстники, верил, что наша волна — это девятый вал, что нам предстоит «посетить мир в его минуты роковые».
В этот первый приезд я мало созерцал панорамы Петербурга. Весь он мне казался лишь оправой драгоценного камня — этот камень был университет. Но не только в университете слушал я профессоров. В амфитеатре-аудитории Тенишевского училища
посещал я чтения: Овсянико-Куликовского, Иванова-Разумника, Льва Шестова, Вячеслава Иванова. На вечерах писателей выступали: мрачный Федор Сологуб и декоративный Леонид Андреев. Петербург — это русские Афины. Стольный город русской духовной культуры.
Каюсь, мне не только хотелось услышать мысли этих известных всей читающей России людей, мне хотелось видеть их лица, наблюдать их движения, вслушиваться в их голос. Все это были боги Олимпа, спускавшиеся к простым смертным.
Дома я работал усердно. Меня репетировал Иосиф Брониславович Селиханович, с которым мы познакомились в Крыму. Его живой критический ум, обширные познания увлекли меня, и я с нетерпением ждал его прихода. Помню, как его удивила страстность моей полемики против писаревской статьи о Пушкине вообще и об «Евгении Онегине» в частности. Меня возмутил холодный, издевательский тон Писарева и поверхностность его суждений о Пушкине.
Я работал много, но все же недостаточно, чтобы возместить упущенное время. Конечно, немало я и читал. Много и часто писал письма: моя переписка с Киевом и Москвой была очень оживленной. У швейцара на столе лежали письма, и я все искал глазами большие конверты, оливкового или голубоватого цвета, письма Тани Оберучевой. Я не читал их сразу: садился на империал конки и ехал на Смоленское кладбище. Там под деревьями, среди могильных холмов, на которых таял снег, я распечатывал письмо, и, задыхаясь от волнения, несколько раз перечитывал его. И снова вставали в моем воображении дорогие образы истекшей зимы, зимы «37-го номера».
Я считал дни, отделявшие меня от Киева.
И вот он снова. Во власти мечты я шагал по Малой Владимирской. Вот и дом № 37. Двор с тополем посредине. Мне казалось, что с тех пор, как я покинул этот дом, прошло много-много времени. В этот вечер, как и год тому назад, был канун Пасхи. Это не случайно: так уж я подогнал свой приезд. Встреча была шумной, радостной. Мы снова пошли на Владимирскую горку: смотреть разлив, слушать перезвон киевских древних храмов. Снова благоухали тополя молодой листвой.
И... все же чего-то не хватало. Откуда эта грусть? Грусть молодости, требующей все новых вершин. И в последующие дни Святой недели эта грусть не улеглась. Я уже не слышал той музыки, которая наполняла мои дни в «№ 37-м» осенью и зимой 1907 года. Не было того напряженного искания философской истины, той борьбы идей, которая составляла сущность наших встреч в доме Оберучевых. Не было и Миши, который готовился к экзаменам у себя на хуторе под Винницей. Но главное — внушало страх здоровье Тани Оберучевой, нашей точки опоры (Т.О.). Она казалась еще более хрупкой и походила на цветок со Склоненной головкой. Наши мечты о совместной жизни в
Петербурге получили жестокий удар: врачи запретили Тане переезд в «город на болоте». Но Таня еще верила: «Алферово вернет мне здоровье».
Ее занятия в гимназии приходили к концу. С большим увлечением готовилась Таня к пробным урокам. Особенно успешно прошел урок на тему: «Греческие трагики». Она должна была получить золотую медаль, но получила серебряную: политическая репутация ее была сомнительной, ее считали красной.
Наступила экзаменационная пора. Я снова в стенах покинутой мною гимназии. Большой актовый зал с портретом царя Александра I работы Доу <...>, За отдельными столиками мои товарищи обоих отделений — Поллак, Киричинский, Вильчинский, Шульгин, Толпыго, мои друзья по классу снова со мною за одним делом. Преподаватели словесности все в сборе. Они будут наблюдать, чтобы мы не списывали друг у друга. Предложено несколько тем.
Я выбрал: «Какие литературные образы имеют большее общественное значение — положительные или отрицательные?» Конечно, ответ предполагался «отрицательные». Ибо литература должна прежде всего быть обличительной. Да откуда и взять убедительные положительные образы? Не случайно у Данте «Ад» создан много ярче и правдивее, чем «Рай»¹. Откуда взять краски?
Но я хотел вскрыть общественное значение положительного образа через показ его облагораживающей роли в окружающей среде. Я избрал образ Липы из чеховской повести «В овраге». Это был светлый луч в темном царстве. Односельчане, глядя на огонек ее комнаты, начинали верить в силы добра, верить в человека. Другой мой пример из «Росмерсхольма» Ибсена. Его идея «облагораживания» среды воздействием на нее личности с чистой совестью. Во всем этом ощущалась идея «тихой любви» Ники Дрейера37.
Добряк Я. Н. Шульгин, старый педагог, был очень заинтересован моей работой и, несмотря на грамматические ошибки, поставил мне «4».
Следующий экзамен — письменный — алгебра. Я задачу решил, объяснил, но при вычислении логарифмов сделал какую-то ошибку. Отметка была — «2». Нужно было на устном исправить ее, но я так нервничал, что усомнился в возможности получить нужный балл и бросил экзамен. Перед этим решением мама водила меня к врачу. Отзыв был неблагоприятный: острое нервное расстройство. Предписано водолечение.
Тяжело мне было идти в «№ 37-й» с известием о моем провале. Тяжко не потому, что страдало самолюбие (оно очень страдало), тяжко было огорчить Таню. Я был первый неудачник.
¹ Это, конечно, неверно. «Рай» не менее гениален, чем «Ад» и «Чистилище». (Прим. Н. П. Анциферова.)
37 Речь идет о декларировавшейся в «кружке № 37» идее Н. Дрейера о «тихой любви» как единственно возможном пути к всечеловеческому счастью. «В его словах, —вспоминал Н. П., — звучала не столько вера в возможность этого пути, сколько уверенность в невозможности путей насилья».
За мною последовали другие: Саша Попов, Даня Лурье, Саша Вайнцвейг. Герман Селлиский вовсе не явился на экзамены. Ника Дрейер, не покидавший своего училища, благополучно кончил. Из экстернов кончил только один. Это был, конечно, Миша Оберучев. К нам, экстернам, согласно циркуляру Шварца, относились особенно строго. В наших рядах было много исключенных из школ за участие в революционном движении 1905—1906 гг.
Таня была в отчаянии. Она принимала каждую новую весть о провале, как личное горе. Она считала, что во всем виновата эта зима «37-го номера». И не она утешала нас в постигшей неудаче, а каждый из нас, неудачников, утешал ее.
А весна, весна нашей молодости, продолжала совершать свое торжественное шествие. В саду соседнего дома, граничившего с верандой Оберучевых, вишневые деревья покрылись белым подвенечным убором, а яблони — чуть розоватыми цветами с нежными лепестками. На веранде в качалке сидела Таня. Глаза ее горели, а руки казались прозрачными. По вечерам мы окружали ее, по очереди читали «Черного монаха», «Слепого музыканта». А после чтения — не горячие зимние споры, а тихая беседа. Над садом поднималась луна. Булькали скворцы. Булькали, как вода в ручейке, или шелестели как камыш.
Таню проводили в Алферове. Несколько дней я не находил себе места. С ее отъездом точно душа отлетела от нашего кружка <...>.
Где бы я ни был, мне всюду было пусто. Меня все время тянуло куда-нибудь. Я нашел себе место на террасе «37-го номера», на той террасе, где в шезлонге сидела Таня <...>. Мне казалось, что только здесь, во всем опустевшем городе, я могу ощутить ее присутствие <...>. И вишни, и яблони уже отцвели, и потемневшие деревья, лишенные своего брачного убора, казались печальными. Ветер перекатывал в саду свои волны. Шум вскипал то тут, то там и, охватывая весь сад, замирал. Но тишина не наступала. Сад еще не успевал затихнуть, как набегала новая волна. Этот ветер мне был нужен, он был созвучен моей смятенной душе. Я думал о тех, кто уехал в Алферове. Мне туда путь был заказан: в Алферове тетя Лидия пригласила из нашего кружка только Нику и Сашу Попова. Я остался в стороне и через некоторое время со своими старыми друзьями уехал в Норвегию38.
После путешествия по Норвегии я побывал в Барановке. Я встретился с мамой в Москве. У нас не было дома. Спешить было некуда, и мы на несколько месяцев осели в древней столице. Я полюбил Москву после первой поездки в 1903 году. Она была мне много милее Петербурга. Сюда я приезжал еще истекшей зимой к Курбатовым и Фортунатовым из северной столицы на масленице, когда был встревожен состоянием здоровья Наташи. Я уже давно мечтал поселиться навсегда в Москве, где все дышало родной стариной, где Кремль, Художественный театр, Третьяковская галерея, где Курбатовы и Фортунатовы. Но... «№ 37-й» из
38 О путешествии Н. П. летом 1908 с Г. А. Фортунатовым по Норвегии см. в части шестой «На чужбине».
менил мои планы, и я просил маму обосноваться в Петербурге. Мама согласилась: там была ее родина, там протекала ее юность, там ее родные и старые друзья.
Однако в университет в этом году я не попал; из 37-го в Петербург переехал один Миша. Зачем спешить расстаться с Москвой? Мы остановились в номерах Гунста в Хрущевском переулке и прожили там до ноября.
Я тосковал о «№ 37-м». Моя переписка с Таней оставалась интенсивной, но переписывались мы, согласно требованию родителей, только открытками. И все же в Москве мне было хорошо. Я много работал, но опять-таки не по гимназической программе. Я занимался историей Греции, ее литературой и, главным образом, продолжал занятия греческой философией. Я ходил в библиотеку Румянцевского музея. Я любил эту тишину зала, заполненного людьми. Мне она казалась торжественной, священной. Я делал выписки из Гесиода, трагиков, Плутарха и Платона.
Вечерами тоже обычно работал дома. Давно я не жил так складно и так тесно с мамой. На душе была необычная тишина. Я любил оторваться от книги и прислушивался к звукам рояля, доносившимся из верхнего этажа. Эти звуки уносили меня в «звенящую даль». Они глубоко волновали и пробуждали в душе что-то очень родное, но непонятное, будили какую-то тайну, которая оставалась неразгаданной. Я спросил маму, что играют. Она отвечала: «Сонату Бетховена, quasi una fantasia»¹. Так это и есть Лунная соната! Я так полюбил ее, что в том же году, уже в Петербурге, не умея играть ничего, кроме чижика, выучил наизусть первую ее часть.
Так началась моя жизнь в тихих арбатских переулках, тогда еще обильных маленькими церквушками, колокольнями, колокольным звоном, и еще свободных от громадных, громоздких, холодных и скучных домов, которые давят теперь весь этот уголок Москвы. Так началась эта жизнь, которая возобновилась ровно через 25 лет, и возобновилась надолго.
С Курбатовыми и Фортунатовыми я виделся часто. С Наташей был в Третьяковской галерее и на золотых осенью Воробьевых горах. С Гришей, моим «Мутом», за эти два месяца сблизился еще теснее, чем на Красных скалах Мольдефьорда39. Мы бродили по аллеям Петровско-Разумовского парка, шурша опавшими листьями. Он читал мне стихи из «норвежского цикла» и свой роман «Тангейзер», где вывел меня в образе Вольфрама фон Эшенбаха, певца платонической любви. Мут в узком сером пальто, с крючковатой палочкой, в больших калошах, казался старичком. Вспоминались его слова из письма прошлой осени: «Хорошо покойничку греться на солнышке и вспоминать о том, чего никогда не было».
Как часто бывало по-хорошему грустно. Я уже писал о конце отрочества. Теперь состарилась и наша юность. Кончался третий
¹ Похожую на одну фантазию (итал.).
39 «Мут»—домашнее прозвище Г. А. Фортунатова.
этап жизни. И мы были у порога молодости. А молодость длилась долго.
С грустью я прощался с Москвой. С тоской встретился с Петербургом. Он мне показался еще холоднее прежнего.
Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид;
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит40.
Мы поселились в двух комнатах на углу Большого проспекта Петербургской стороны и Введенской улицы (точнее Гулярной). К нам в третью комнату переехал И. Б. Селиханович. С усердием я принялся за уроки. Ведь и Норвегия, и Барановка, и Москва — все это были затянувшиеся каникулы, которые я проводил не праздно, но мало заботясь об экзаменах. Я изредка бывал в доме у Белокопытовых. Бывал с Всеволодом у А. Н. Дроздова, который играл нам Вагнера. Я разделял общее увлечение могучей музыкой немецкого музыканта-революционера и с замиранием сердца слушал «Кольцо Нибелунга», «Лоэнгрина», «Тристана и Изольду». Смерть Изольды, Прощание Лоэнгрина, Полет валькирий, Заклинание огня. Похоронный марш Зигфрида потрясали меня до глубины души, в особенности смерть Изольды — в этих звуках мне слышалось тютчевское:
И с беспредельным жаждет слиться41.
У Анатолия Николаевича я встречал М. Ф. Гнесина и доктора Кульбина. О Гнесине Дроздов говорил:
Гнусен Гнесин,
Гнесин гнусен;
Он не вкусен,
Слишком пресен.
Это была, конечно, шутка. Анатолий Николаевич его любил. Мне Гнесин казался бесформенным и блеклым. Все его контуры расплывались. Он играл свою «Недотыкомку», которую издали на немецком языке. Перевод звучал «Ungebolt». И эта «Недотыкомка», казалось мне, выражала сущность самого Гнесина — все в нем было ускользающее (я говорю о гнесинской музыке, а не о «недотыкомке» Ф. Сологуба)42.
Доктор Кульбин, прямой, точно побывавший под прессом, с большим лбом, был в разговоре молчалив, пока не начинал что-нибудь проповедовать. Но речь его текла с препонами и многоречив он не был.
Анатолий Николаевич просил меня в присутствии Кульбина сделать доклад с иллюстрациями о нашей рыцарской игре. Я принес тетрадь, в которую вклеил рыцарей, и сделал, кажется, свой первый доклад. Кульбин пришел в восторг и взял с меня слово, что я опишу эту, заинтересовавшую его, игру.
40 Из стихотворения А. С. Пушкина, называемого по первому стиху.
41 См. Прим. 15 к части второй.
42 Речь идет об образе из романа Ф. К. Сологуба «Мелкий бес».
Изредка я встречался с моими товарищами по классу обоих отделений: с Вильчинским, Шульгиным и Б. Толпыгой. Мой Всеволод Белокопытов тоже поступил в университет и, как Шульгин и Вильчинский, был естественником. Все они посещали и лекции популярных профессоров историко-филологического факультета. И их рассказы терзали меня. Помню восторженное описание Вильчинским лекции Ф. Ф. Зелинского о Дионисе.
А я был изгой. Университет — земля обетованная не для меня. Двери его заперты. Весной экзамены, а я опять не совладаю с собой и, в волнении, или наделаю ошибок, или напутаю в задачах, не смогу объяснить их. И я впадал в отчаяние от этих мыслей. Я осужден своим характером стать лишним человеком. Я не оправдаю свою фамилию—«приносящий пользу». И я завидовал почтовому чиновнику, почтальону. У них есть русло в жизни, ясный, повседневный труд. А меня бросает из стороны в сторону. Неужели поток моей жизни не пророет себе русло!
И я усердно работал, в особенности над математическими дисциплинами. Но дело ведь не в отсутствии знаний, а в самообладании. И я сознавал себя в зависимости от любой случайности. Только бы найти свое место в жизни!
День я часто заканчивал одинокой прогулкой по городу перед сном. Иногда со мной бродил Селиханович.
Ночной город меня страшил. Конечно, не в том смысле, что я боялся нападения бандитов и хулиганов. Нет, меня пугал и отталкивал страшный мир большого города.
Аптека. Улица. Фонарь.
Мне казалось, что ночью поднимаются мутные воды каналов и заливают улицы. Вор и проститутка — хозяева ночного города.
Как часто приходилось ночью просыпаться от хриплых женских криков. Но не эти отверженные члены общества внушали сами по себе ужас. Гораздо страшнее казались мне те, кто ловил этих женщин, и кого они ловят и уводят к себе для платных ласк. Каким кощунством казались мне эти уличные, ночные встречи. Я вспоминал любимых мною писателей: Пушкина, Герцена, Белинского, Чехова, Достоевского, Толстого, Блока. Все они были под властью этого страшного мира. И я, смешивая их с этой толпой потребителей платной любви, содрогался от ужаса, отвращения, от обиды за них.
Потребители эти клеймят свои жертвы грубой бранью. Той бранью, которая считается самой оскорбительной в богатом словаре русских бранных слов. Но ведь эти женщины — олицетворение их похоти, создание их развращенного пола. И для меня оставалось мучительной и страшной загадкой, как с этой грязью, с этим ночным мраком могут сочетаться и искания правды, и духовное горение, и даже — чистая любовь.
Вся эта противоречивая сложность жизни внушала страх, полный тоски. А я, мои друзья — мы, гордо сказавшие «нет»
Дионису, мы, авангард человечества начала XX века — сможем ли пронести сквозь эту муть, этот мрак зажженную свечу!
Ночной город. Романтики рассуждали о Hinterseite der Natur, Nachtseite¹. А Тютчев писал о ночных песнях ночного ветра:
О, страшных песен сих не пой
Про хаос древний, про родимый.
В природе я не ведал ни мрака, ни хаоса. То, что в ней было грозного, пленяло меня, и если было хаосом, то хаосом древним и родимым.
Ужасен был для меня другой хаос—чужой, а не родимый. Тот хаос, который шевелился на ночных улицах большого города при свете электрических фонарей.
Нет, мы не подчинимся common lows!²
* * *
Я получил от Тани известие, что она с тетей Лидой будет в Петербурге в конце ноября. Тут же она сообщала, что тетя Лида ее «одела по своему вкусу». Это добавление взволновало меня. Костюм — часть человека. Ложный костюм может исказить его облик. Я сказал Селихановичу о своей тревоге. Он улыбнулся, как мне показалось, насмешливо: «Теперь очень много курсисток хорошо, по моде одетых». Это не было утешением. В их числе нет места моей Тане.
В хмурое петербургское утро я ехал на вокзал. С Таней я не виделся с тех пор, как она покинула весеннюю веранду «№ 37-го». Встреча меня очень волновала, но радости не было. В своей новой шубе с горжеткой, шапочке и муфте Таня мне казалась отчужденной. Она чувствовала это и была огорчена.
«До этого мига я никогда не видел убранства Бималы, как чего-то отдельного от нее» (Р. Тагор. «Дом и мир»).
Встречал я не один. Я был в толпе и затерялся в ней. И первые дни не принесли мне радости. Тетя Лидия возила ее по родным, по своим знакомым, по театрам. В ложу приглашали и меня. А мне хотелось сводить Таню в Эрмитаж, позвать ее к себе. Таня приехала. Она первый раз была в моем доме. На ней была темная юбка и светлая кофточка цвета чайной розы. Она смущалась, и щеки ее горели. А в глазах был тот блеск, который и привлекал меня, и пугал. И маме, и Селихановичу Таня очень понравилась. Меня потрясли его слова, сказанные очень веселым тоном: «Ваша Таня Вас подведет!» — «Что Вы хотите этим сказать?» — «Вы верите, что она — монашка, а она — с огоньком, да еще с каким огоньком!»
С приездом Тани Петербург наполнился музыкой, но эта му-
зыка была печальна. Я бывал у нее в номере гостиницы на Невском проспекте, высоком петербургском доме № 57. Тетя Лидия сняла две комнаты, и я мог оставаться с Таней вдвоем. Вернется ли к нам когда-нибудь та близость, то единодушие, которые делали меня счастливым год тому назад?
Таня много с тревогой говорила мне о нашем кружке. У ее мнимого брата, Миси, новый репетитор — Юрий Маркович Поляк, социаль-демократ (не твердое, а мягкое ль). Он красив, «интересный мужчина», поклонник Гейне. Умен, остер, насмешлив. Он совершенно чужд «№ 37-му» прошлого года, но уже не чужд нашему кружку 1908 года. Обе сестры Тани им увлечены. Он приобрел особое влияние на Сашу Попова. Все это очень волновало Таню. Миши нет. Меня нет. Даня грустен. Ника мрачен.
Неужели конец «37-му»! Неужели так скоро поблекло то, чем мы так горели год тому назад! Юрий Маркович борется с романтизмом, он за «трезвое» отношение к жизни, он за «взрослость».
После рассказов Тани мне стало очень грустно. Вот он, «страшный мир», приблизился к нам. Я шел пешком на Петербургскую сторону. Остановился на Троицком мосту и слушал удары волн о быки моста. И широкий ток реки казался мне жизнью, пугающей и манящей. И вдруг вспомнились слова:
«Хорошо умереть молодым».
Что это? Страх стать взрослым. Страх перед жизнью. Не хочу его. Я верю в свою правду и ее силу. Только бы Таня верила в нее.
Мы собрались у Миши на углу Каменноостровского и Большого проспектов. Оберучевы куда-то ушли, и я остался с Таней в опустевшей комнате. За окном слышались звуки старинного вальса. Мы подошли к окну. Перед нами был каток. В сизом сумраке, сквозь который тускло горели фонарики, по льду скользили пары конькобежцев, и их движения сливались с мелодией вальса. И внезапно нас охватило одно и то же чувство. Словно мы вдвоем, стоя рядом, смотрим на жизнь, которая движется вне нас к каким-то неведомым целям. Но эта жизнь не разлучит нас никогда...
И я поверил словам Тани: «Вы самый близкий мне друг». Я задыхался от нахлынувшего на меня счастья. Когда мама увидела меня, она с испугом воскликнула: «Колюшка, что с тобой, у тебя такое странное лицо».— «Не бойся, мамочка, я только очень счастлив».
А Селиханович сказал маме: «Ну, наш Коля зажег теперь свою свечу с двух концов».
После отъезда Тани я жил тревогой за «37-й». Ко мне в Петербург приехал Гриша Фортунатов. Мы до этого весьма усердно переписывались, делясь всем переживаемым. Я с ним провел неделю, но перед Новым годом тревога так обострилась, что я решил покинуть Гришу на Всеволода и ехать в Киев. Мне необходимо было самому разобраться в кризисе, который переживал наш кружок. Мама была очень против поездки. А Селиханович, покачи-
вая головой, говорил: «Ну, так и есть, свеча Колина горит с двух концов».
О своем приезде я ничего не писал. 31 декабря 1908 г. я подошел к окну «№ 37-го». Мне хотелось со стороны заглянуть в окна, увидеть дорогих мне друзей. Увидеть, не слыша слов и не догадываясь о них, движение милых губ.
Только после этого я позвонил. Меня встретили с удивлением и шумной радостью. Здесь все по-прежнему. Ничто не изменилось. А мне казалось, что прошло уже около десяти лет, как я покинул эту гостиную. Только над диваном висела новая картина, но она была повешена лицом к стене. Мэкуся со смехом повернула ее: «Это Никины глупости. Когда он приходит к нам, он всегда переворачивает эту картину, видеть ее не может». На картине была изображена нарядная женщина; франт, стоящий за спиной дивана, на котором сидит его дама, со страстью целует ее в губы. Картина во вкусе парижского салона. Я вполне одобрил поведение Ники. Тут же меня представили Юрию Марковичу. Он был одет в нарядную форму студента-политехника. Тужурка расстегнута, рубашка с отложным воротничком и бантом завязанный галстук. Пышная копна темных волос. Черные глаза, умные и насмешливые. Он держался снисходительно, как взрослый среди милых ему детей. Обсуждался текст поздравительной телеграммы Танечке Руденко. Юрий Маркович сказал: «Что тут долго думать? Я предлагаю: «Кис ми квик», — коротко и ясно». Ника изменился в лице. Он вскочил и начал прощаться. «Куда вы?» — спросила Мэкуся. «Вы ведь знаете, что я всегда Новый год встречаю в семье. Мне пора». Сказал, отчеканивая каждое слово.
В эту встречу Нового года серебряный пятачок достался мне. Все ждали, что я королевой изберу Таню, и, зная это, я избрал Мэкусю (ей это доставит больше радости). После ужина в зале танцевали. Я вышел в коридор. Мне было очень грустно. «Тридцать седьмой» не стал чужим, но мне чудилось, что кончается нечто очень дорогое. Таня тоже была грустна.
На другой день я был у Ники. Я считал его самым близким мне другом в «37-м». С большой горечью он говорил о влиянии Юрия Марковича на многих из «37-го», в особенности на младших сестер — Аню и Мэкусю. Этим легкомысленным тоном «старшие» хотели сбить «выспренние настроения», «парение в небесах», как называли взрослые нашу юную романтику. Ника кипел негодованием и говорил, что ищет только нового повода, чтобы дать Юрию Марковичу пощечину. «Пусть Екатерина Михайловна после этого решит, кому оставаться в ее доме, ему или мне».
Нику мать трех сестер любила больше, чем всех остальных друзей ее дома. Ника умел совмещать наш романтизм с трезвостью и деловитостью, со вниманием ко всем мелочам жизни. Он был хороший и покорный сын; умел видеть и понимать тревоги и нужды семейного быта. Из всех нас Екатерина Михайловна советовалась только с ним.
Я отговаривал Нику от столь решительных действий. Не только потому, что был принципиальным противником насилия, но и потому, что считал такое оскорбление Юрия Марковича средством вызвать только прилив симпатий к нему. «Где же Ваша тихая любовь?»
Был вечер. В гостиной Оберучевых у стены с Сикстинской |Мадонной, вокруг круглого стола, расположились друзья «37-го». |Юрий Маркович лениво перебирал в живописной позе струны гитары. Кто-то предложил экспромтом рассказывать сказки. Начал Саша Попов. Он поведал о своей первой любви к старшей из трех дочерей городского головы (или думского гласного) Плахова. Саша всячески добивался внимания девушки, которая была старше его; но красавица взирала на полюбившего ее мальчика презрительно. В Мотовиловке за прудом была гора, густо поросшая орешником. Саша уныло пробирался сквозь заросли, и вдруг его осенила мысль: поднести Марусе палочку, покрытую затейливыми узорами. Подарок имел успех, и влюбленный мальчик получил в награду чудесную улыбку. Рассказ понравился. А Юрий Маркович заметил: «Очень мило, знаете, что-то напоминает Гамсуна».
Вторым начал Ника: «Был сад — старый, старый сад. В нем весной цвели темные лиловые фиалки с таким благоуханием, что не нужно было нагибаться, чтобы вдыхать их аромат. Летом распускались белые лилии, словно вылепленные из самого нежного воска. А розы цвели и весной, и летом, и даже поздней осенью. В этом саду состязались соловьи. И когда пел один, то другие молчали и слушали певца; другой начинал лишь тогда, когда наступала тишина. Звезды полюбили этот старый сад и щедро посылали свои лучи, которые падали на цветы, на кусты, где пели соловьи, и на ручей, струивший на окраине сада свои чистые воды.
Но вот в сад забежал горилла. Зверю понравились и лилии, и розы, и ручей. Но любовь свою он проявил по-своему. Горилла стал рвать цветы и по лепесткам обнажать их, скаля свои зловещие зубы, забрался в ручей и барахтался в нем с ревом. А потом, видя, что цветов больше нет, вырвал их корни и разбросал по одичалому саду. Сад опустел, а чистые струи ручья навсегда помутились. Горилла исчез так же внезапно, как появился. Он исчез, даже не подумав о том, что сделал».
После рассказа Ники наступило неловкое молчание. Желая его прервать, Юрий Маркович рассказал что-то про Пьеро и Арлекина.
Мы разошлись. Ника в пути сказал: «Ну, а такую пощечину Вы считаете допустимой?» — «А Вы уверены, что он понял?» — «Что хотите, а в уме ему отказать нельзя».
В своих суждениях Юрий Маркович, как мужчина, имеющий успех у женщин, частенько высказывался пренебрежительно о прекрасном поле. [Решено было устроить] диспут на тему: «Кто ценнее — женщина или мужчина?»
[Получилось] состязание мейстерзингеров. Мы не хотели
спора. Пусть каждый, сидя за круглым столом, выскажет свои мысли — как в «Тангейзере» в песнях о любви.
Начал Миша. Он говорил спокойно, веско. Он протестовал против самой постановки проблемы вне времени. Разная ценность в области культурных достижений обусловлена целиком социальным неравенством. Когда оно будет уничтожено, женщина догонит мужчину. Насколько я помню, к этому мнению примкнул! Саша Вайнцвейг, сказавший лишь несколько слов, и многоречивый Шульгин, мой товарищ по гимназии, впервые посетивший «37-й». Юрий Маркович, тонко улыбаясь, произнес свою речь, проникнутую идеями модной тогда книги Отто Вайнингера «Пол и характер». В частности, он отрицал в неравенстве мужчины и женщины большое значение социального фактора. Все ценности культуры и цивилизации созданы мужчиной, а женщины, по своему существу, в какие благоприятные условия их ни поставит история, — как созидатели всегда будут «вторым сортом».
Так говорили наши реалисты, наши «взрослые» и «трезвые» товарищи. Таня, Ника и я выступили единым фронтом и, так как мы были во всем согласны друг с другом, то мне теперь уже трудно вспомнить, кто из нас высказывал те или другие мысли. Вот их сводка. Считая женщину ценнее мужчины, мы прежде всего подчеркнули, что имеем в виду преимущественно человеческую ценность женщины. Наши оценки относятся к тому, что есть лучшего в мире женщины. Она начало созидательное, в то время как мужчина не только созидательное, но и разрушительное. Материнство открывает женщине чудесный мир, недоступный мужчине. В то время как женщина предана семье и труду, мужчина часто является разрушителем семейного очага. В мужчине сидит эта дикая потребность разрушения, питающая воинский дух и милитаризм. Мужской героизм — это обычно героизм смерти, готовность пожертвовать своей жизнью, чтобы умереть со славой, и к его героизму часто примешивается славолюбие, а иногда и честолюбие.
Женский героизм — это героизм жизни, героизм, чистый от всякой корысти, героизм, в основе которого — любовь. Подвижничество изо дня в день — вот на что способны лучшие женщины. Женщина — созидательница, как сама природа. Произрастание — это женское начало. Деметра — женщина. Женщина несет в себе украшающее начало жизни. Где она появляется — там стремление украсить жизнь, внести в нее свой ритм. Цветы — вечные спутники женщины. Даже в кокетстве женщин, в их любви к самоукрашению, к «тряпкам», лежит та же потребность. Наряду с материнством, любовь играет в жизни женщины неизмеримо большую роль, чем в жизни мужчины, и часто — любовь жертвенная. Тургенев нам показал, что мужчина редко бывает на высоте требований великой любви и часто лучшие женщины становятся его жертвой. Вместе с тем, женщины в ходе истории лучше сохранили душевную чистоту и идеалом чистого человека для всех является
не мужчина, а женщина. Сознание этого мужчиной и создало идею «вечноженственного», поднимающего нас к вечности.
Отсюда и культ Приснодевы. В женщине человечество достигает своей вершины и, быть может, в женщине же оно достигает и наибольшего падения, ответственность за которое несет мужчина. Нам говорят, что женщины мало создали культурных ценностей. Да, пока, конечно, неизмеримо меньше, чем мужчины. Но утверждающие это забывают или не понимают, что женщина часто бывала вдохновительницей и соучастницей творчества мужчины, и Беатриче — соавтор Данте в «Божественной Комедии».
Так говорили романтики «37-го». Пламеннее всех говорил Ника, и мне казалось, что он закончит свою речь обращением к Юрию Марковичу: «Скорей к мечу, кощун строптивый, кто здесь потерпит речь твою» (Битерольф—Тангейзеру)43. Но мы этот раз не спорили, а внимательно до конца выслушивали каждого. По окончании речи наступило молчание для раздумия. Шульгин был в восторге от состязания мейстерзингеров.
Теперь, ровно через сорок лет, я уж не мог воспроизвести аргументацию каждого, тем более не мог передать той страстности, с которой говорили романтики. Произнося свою речь, я думал о том, насколько Таня превосходит каждого из нас и каким доказательством моих положений является именно она. И моя речь была посвящена ей.
Этот вечер был в моих глазах последней вспышкой «37-го».
С тяжелым чувством я покидал Киев. Я сознавал неизбежность того, что «взрослые», «трезвые» из нас вернутся к привычному, не будут «парить в небе» (как мне на нашей группе написали оба Саши), а чтоб утешиться в отказе от идеалов юности постараются снизить их своей насмешкой44. Я очень перемучился в те дни в Киеве. Свеча горела с двух концов.
Мне предстоял еще большой труд, чтобы сдать экзамены экстерном, согласно циркуляру Шварца — теперь уже нужно было сдавать за 8 классов (свидетельство об окончании 5 было аннулировано). Я решил погасить свечу и отойти от кружка, столь мне дорогого. Я пришел к выводу, что у меня нет ни сил, ни таланта бороться с тем, что мне казалось неизбежным. Я терял веру в себя. И вот решился: написал и в Киев, и в Алферове (куда Таня уехала работать в сельской школе) о своем отходе от «37-го номера».
Киевские друзья меня в письмах отругали. Таня, нарушая родительский запрет, написала мне большое письмо, в котором старалась вернуть мне веру в себя и в свое значение для всего «37-го».
Весной 1909 г. Юрий Маркович был арестован. Его судили, как социал-демократа и сослали в Читу на вольное поселение.
Теперь (в 1948 году) он живет в Москве. Я изредка вижусь с ним. Он осел, движения и речь медленны, словно через силу. Его единственный сын убит на войне. Жена (на много лет моложе
43 Из IV явления II действия оперы Р. Вагнера «Тангейзер». Приведено Н. П. в переводе К. Званцова (СПб., 1875).
44 Предсказание Н. П., что «взрослые из «№ 37-го» вернутся к привычному», сбылись не вполне. Свидетельством тому — ностальгически теплые воспоминания о кружке одного из самых «реалистических» его участников А. П. Попова, оставшегося верным Н. П. до его смерти (ОР ГПБ, ф. 27, сообщено Н. Б. Роговой).
Юрия Марковича) бросила его. Он совсем одинок. Ни с кем (кроме меня) не видится из кружка «37-го». Лишь только с Сашей Поповым изредка переписывается. На его столе портрет Екатерины Михайловны и ее дочерей. Когда мы встречаемся, мы беседуем об Оберучевых. Общаемся мы дружелюбно.
Так в преклонных годах Жан-Кристоф встречался с Левикером, врагом своей юности45.
В Петербурге я с усердием засел опять за подготовку к экзаменам. Так как у меня начались бессонницы, я перед сном систематически подолгу гулял, обычно с Селихановичем, беседа с которым мне всегда была ценна. Мы во многом не сходились, однако его «реализм» был в той же мере приемлемым для меня, как для него мой «романтизм». Мы любили забираться на окраины Петербургской стороны, в места, излюбленные Блоком. В одной из улиц — фабрика с целым рядом труб. В поздние часы за ее стенами что-то гудело. Я любил это место. Здесь я задумался о тех формах культурной работы, которые свяжут меня с рабочими. К политической работе я не считал себя способным. Но я хотел, ведя занятия в фабричной школе, насыщать свои уроки идеями революции и классовой борьбы. По праздникам я ходил в Петровский парк и наблюдал праздничный день социальных низов. Мне хотелось в своих занятиях и в этих прогулках забыть себя, ощутить чужую и чуждую жизнь, вне меня совершающуюся.
По временам мной овладевал страх перед экзаменами. Я могу не выдержать этого испытания. Мне оно действительно казалось испытанием, которое можно не выдержать, как пытку. И я снова завидовал почтмейстеру и почтальону, у которых есть работа и русло жизни.
Пришла весна со всем ее томлением. Плохое время для экзаменов! Я подал заявление во Введенскую гимназию, которая находилась на том же Большом проспекте. Эту гимназию кончал Блок. Напротив, на Лахтинской улице, он жил.
Этот раз я держал не вместе с выпускниками. Нас, экстернов, набралось несколько десятков. Ходили слухи о секретном циркуляре Шварца: резать экстернов нещадно. Я чувствовал себя хорошо с товарищами. С нами было несколько девушек. За мои горячие речи меня прозвали Чацким.
Экзамены я выдержал! Значит, мне уже не нужно завидовать почтальону. Предо мною откроются врата в царство — двери университета. Я получил «пять» по всем математикам, но по истории — «четыре». Мне достался билет: «Природа Греции и влияние ее на образование полисов; покорение Казани и Астрахани». Казалось, что я отвечу отлично. Я хорошо знал первую проблему по «Лекциям об искусстве» И. Тэна и, помнится, по 1-му тому истории Греции Курциуса, второй вопрос по университетскому курсу С. Платонова. Почему же я получил «4»? В нашем кружке «№ 37-го» были в ходу цитаты из Чехова: «У меня сегодня удивительное настроение, жить хочется чертовски!»; «Эхма, жизнь малиновая,
45 Роман Р. Роллана «Жан Кристоф» был одним из главных текстов XX века, на которые ориентировался Н. П. и его окружение. О значимости этого произведения для российского интеллигента — современника революции — свидетельствуют и письма 1930-х такого несхожего с Н. П. человека, каким был поэт Н. А. Клюев (Новый мир. 1988. № 8. С. 186—187).
где наша не пропадала»; «Не угодно ль этот финик вам принять?»; «Волга впадает в Каспийское море». И вот я неожиданно ответил на вопрос, в какое море впадает Волга — в Азовское! Как повернулся мой язык! Экзаменатор хмуро попросил указать на карте название моря. Я показал. «Как же оно называется?» —«Каспийское». — «Почему же Вы назвали его Азовским?» — «Я оговорился». Историк неодобрительно покачал головой и поставил «4». Может быть, я забыл еще о каком-нибудь «четыре». Помню, что кончил третьим. Кончило нас немного. Было произведено избиение младенцев.
К этому счастливому для меня дню я получил от тети Лидии приглашение приехать в Алферово «отдохнуть». Я стал готовиться к отъезду и первым делом купил студенческую фуражку.
О весна без конца и без краю
Без конца и без краю мечта
Узнаю тебя жизнь, принимаю
И приветствую звоном меча46.
46 Из стихотворения, открывающего цикл А. А. Блока «Заклятие огнем и мраком». У Блока иная пунктуация, а 4-й стих заканчивается словом «... щита».
Глава VI.Дворянское гнездо
Глава VI.
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
Лидия Гавриловна Гессель в юные годы училась на фельдшерских курсах и была типичной русской девушкой 1860—1870-х годов, хотя и принадлежала к более молодому поколению. Она коротко стригла волосы, курила, размахивала руками. Она была готова бросить бомбу в угнетателей народа. Любимый ее поэт был Некрасов.
В те же годы она пережила пылкое увлечение молодым, красивым доктором Строгоновым. Это юное увлечение оставило след на всю ее долгую жизнь. По существу Лидия Гавриловна была однолюбка. Свою практику она начала в Смоленской губернии со всем свойственным ей пылом. Здесь она встретила земского начальника Гесселя, красивого мужчину с широкой окладистой бородой, большими темными глазами и больными ногами. Он со страстью полюбил молодую фельдшерицу, но она не уступала ему, оставаясь верной памяти первой любви. Но любовь земского начальника была упорной, он долго осаждал, казалось, неприступную крепость и в конце концов взял ее. Дружба с мужем заменила Лидии Гавриловне страсть. Здоровье его слабело. Она сделалась преданной женой и неутомимой сиделкой. Постепенно взгляды мужа вытеснили юные верованья. А когда Гессель умер, его вдова целиком прониклась чуждым ей миросозерцанием и видела в этом долг перед памятью мужа, которого, как казалось ей, она недостаточно любила. На могиле вдова написала слова ропота:
У счастливого недруги мрут,
А у бедного друг отнимается.
В течение долгих лет Лидия Гавриловна ездила ежедневно на могилу покойного Александра Евграфовича. Вдова унаследова-
ла большое благоустроенное имение Алферово с винным заводом. И имение, и завод она сдала в аренду братьям Зориным, которые, по ее уверениям, нещадно обманывали владелицу.
Одинокая пожилая женщина со свойственной ей страстностью привязалась к семье своего любимого двоюродного брата Николая Михайловича Оберучева. Через некоторое время вся любовь ее сосредоточилась на старшей его дочери — Тане.
В доме Лидии Гавриловны был матриархат. Старая прачка Маша, худая и желтая, с вечной папиросой во рту или в тощих буроватых пальцах, имела двух дочерей от неведомых отцов— Степошку и Катю. Каждая из них, также от неведомых отцов, имела детей, часть которых погибла в младенчестве. У Степошки выжили Таня — крестница Тани Оберучевой и Ваня — крестник самой Лидии Гавриловны. У Кати — первая девчурка — Настенька.
С Ваней вышла характерная история. Крестным отцом его был приказчик Зориных Родион, прозванный помещицей — «Нескароженным». Он был очень неказист. Работая на винном заводе, частенько бывал пьян. Когда Ваня подрос, выяснилось его сходство со своим крестным отцом, Родионом. Лидия Гавриловна мало-помалу с ужасом убедилась, что ее кум является родным отцом своего крестника. Разгневанная кума велела запрячь свой тарантас и помчалась в Белую Церковь к отцу Петру, чтобы тот уничтожил запись о крещении, т. к. оно «недействительно»: отец не может быть крестным сына, рожденного им! Отец Петр, с широкой развевающейся бородой, крепкий, хозяйственный поп, наотрез отказался уничтожить запись. Тогда Лидия Гавриловна тайком прокралась в церковь, завладела церковной книгой и чернилами залила «позорящую» ее запись, и сообщила о своем подвиге Нескароженному.
Со своими «девками», Катькой и Степошкой, Лидия Гавриловна обращалась патриархально. Кричала на них, топала ногами, «вот-вот прибьет!» Они никогда не знали, из-за чего может разразиться буря. А потом начиналось покаяние. Иногда оно выражалось в подарках, а иногда в самобичевании: «Простите меня, гадкую дуру». Раз даже помещица на коленях просила прощения у своих «девок». Лидия Гавриловна легко ссорилась со всеми, но и мирилась легко, если встречала готовность к миру. Она не переносила страданий и, как браминка, сочувствовала всему твар-ному миру. В ее кладовых всегда стоял писк мышат и возня мышей. Уничтожать их было строго воспрещено. Пастухом у нее работал чудесный отрок, настоящий Лель. Я любил беседу с ним. Звали его Гопчик. Как-то раз, раздавив налившегося кровью комара, он попросил меня «не сказывать барыне об этом смертоубийстве». — «Как? Почему?: — «Ни! Ни! Ни! Барыня строго заказала мне не бить комаров. Она говорит, что и комары хочут жить. Так не скажете?» Я, конечно, обещал.
Когда друзья «№ 37-го» гостили в Алферове, тетя Лидия заставляла нас играть с ней в ералаш и очень огорчалась, проиг-
рывая. Но, Боже упаси, если она замечала, что кто-нибудь из нас постарается избавить ее от огорчения. Она бросала карты и запиралась в своей комнате.
Первоначально ее любимцем, как и любимцем Екатерины Михайловны, был Ника. Меня она всерьез не принимала и называла «блаженненьким». Но постепенно ее симпатии склонились в мою сторону. По вечерам, когда мы собирались за сытным и вкусным ужином (своим хлебосольством хозяйка Алферова славилась, но доступ в ее дом имели немногие), она при лунном свете аспидного колпачка любила вспоминать помещичью старину. Говорила она, тараща свои голубые глаза и махая папиросой, зажатой Между длинными узловатыми пальцами. Говорила с азартом, вновь переживая прошлое. Ей нельзя было отказать ни в остроумии, ни в красочной речи. И хотя некоторые истории она рассказывала по нескольку раз, мы всегда слушали ее с удовольствием.
Большое внимание она уделяла быту священников. Помню ее рассказ о молодом попе, который любил выражаться: «Ну, раздувайся, кадило, на великое дило». Когда его спрашивали, не боится ли он нападения бандитов, когда совершает объезд своей паствы: «У нас ведь пошаливают». — «Что ты, голубчик, у меня ведь крест». — «Защитит ли он Вас, батюшка? Всяко бывает». — «Защитит! Он у меня большой, как трахну по башке, так и дух вон!» Рассказывала это тетя Лида с величайшим негодованием. И, вздохнув, добавляла: «Что же удивляться, что в народе веры убавилось».
Из писателей больше всех Лидия Гавриловна любила Лескова. Да, надо признаться, он ей был созвучен.
Когда молодежь покидала Алферове, на тетю Лидию нападала тоска. Она запиралась в своей комнате, которую всегда держала на запоре, и оттуда доносились унылые песни. Нам тоже их случалось слышать в ненастные недели, когда ветер выл в печных трубах, и длинная цепь монотонно ударялась об узкую металлическую трубу винного завода. Тетя Лидия пела: «Тянутся по небу тучи тяжелые», «Догорай, моя лучина», «Осени поздней цветы запоздалые». Когда после этих песен она выходила к нам, в ее серо-голубых глазах была такая безутешная тоска, что сердце сжималось.
Не скоро я был допущен в святая святых алферовского дома. Эта была небольшая комната, сиявшая белизной и чистотой. В углу большого киота с лампадой — голова Спасителя прекрасного письма, полная кроткой скорби. Тетя Лидия очень чтила эту икону. Но вера ее была с приливами и отливами, то пламенная, то терзаемая сомнениями. В ней чувствовалась всегдашняя готовность к бунту против всего. «Одиночество — страшная вещь», — как-то сказала она. Не выдерживая его, она бросала свой алферовский дом и уезжала то в Москву, на Пресню, к купцам Левыкиным, то в Киев, то в Петербург.
Так Лидия Гавриловна Гессель причудливо сочетала в себе самые противоречивые черты: горячее сердце и деятельную лю-
бовь с причудами крепостницы-помещицы; попытки замкнуться в маленькой комнатке, осиянной лампадкой, с метаниями меж трех столиц <....> Могла ли она угадать, приглашая нас к себе, какое благо принесла нам?! Память об этом странном человеке мне дорога навеки.
* * *
К алферовскому дому вела аллея лип мимо завода. Помещичий дом не имел ни колонн, ни фронтона. Он был деревянным и построен в виде буквы «Г». В парк выходила веранда, от которой шла дорожка к пруду, заканчивавшаяся ивой, склоненной над водами. В парке на лугу росла могучая ель. Тут же была небольшая постройка — сушилка, похожая на часовенку. К лужку примыкала густая березовая роща. Березы вытянулись в своей чаще вверх и достигали неимоверной высоты. Справа к роще примыкал фруктовый сад, а за ним находилась рига. Парк был обнесен рвом и обсажен елями. Через пруд протекала речка, заросшая камышом. На берегу его перед березовой рощей торчали пни. Отсюда открывался вид на пруд с водяными лилиями и на густой лес. В лесу росла чудная сосенка, похожая на елку. Этот уголок парка мы очень любили. «На пнях» читали вслух. Если набегала тучка и проливалась дождем, мы прятались в сушилке. Справа по берегам речки было поле, посреди которого возвышался курган с могучей одинокой березой.
Во поле березонька стояла...
Поля простирались до бесконечности. По другую сторону [пруда, вдоль] речки — густой лес с оврагами, журчавшими ручьями и массой цветов по их берегам. Заросли ольхи у самого берега образовывали род беседки, увитой хмелем.
Через лес вели дороги; одна из них называлась белой. Ее покрывал мелкозернистый светлый песок. Эти лесные дороги вели к двум деревням, Подроще и Зубову. Эти две соседние деревни резко отличались друг от друга. Подроща, расположенная на окраине леса, у огромной сосны, похожей на пинию, сохраняла патриархальный характер. В ней ходили еще в лаптях, в сарафанах. Сохранялись старые обычаи и вековые песни. Зубово было уже затронуто фабрикой. Крестьяне носили кепки, походили на рабочих и имели весьма независимый вид. Лидия Гавриловна их побаивалась и предпочитала иметь дело с подрощинцами, в особенности с семьею высокого, добродушного Андрея. Его сестра Мариша, худенькая, остроносая девушка с живыми глазами на смуглом лице, служила у нее вместе со Степошей и Катей. Ее брали в помощь, когда летом алферовский дом наполнялся гостями.
Близ Алферова протекала речка Вопь. Она струилась среди заливных лугов, на которых вольно росли одинокие могучие дубы.
На лугах паслись обильные стада. Только в одном месте непосредственно к берегу Вопи подходил лес. Это место напоминало нам пейзаж картины Нестерова «Отрок Сергий». За заливными лугами находилось Ярцево со своей знаменитой мануфактурой. Туда мы ходили за почтой, перебираясь вброд через Вопь. Другая дорога, более далекая, вела через поля и лесок. На ней стояла ель с обрубленными ветвями так, что оставшиеся образовали крест. Между Вопью и этой дорогой пролегли болота с густыми зарослями кустарника. Здесь по вечерам и по утрам сгущался туман и в лунные ночи было очень таинственно. Возле пруда — плотина и рядом с ней полуразвалившаяся водяная мельница. Было где погулять в Алферове!
Я приехал 10 июня старого стиля 1909 г. Меня встретили Таня и Мэкуся. Тетя Лидия еще не вернулась из своей ежедневной поездки на могилу мужа. У Тани был цветущий вид, и глаза ее горели счастливым блеском. Мэкуся, курчавая, остриженная после болезни, в красной русской рубашке походила на мальчугана-подростка. В ней был юношеский задор и безбрежное веселье.
О весна без конца и без краю!..
Обе сестры повели меня, едва дав умыться и переодеться, в сад, к пням, что за сушилкой, за высокой елью, у самого берега пруда. Травы кругом были, как Ника писал мне в Мольде, «высокие и пахучие». Таня знала названия всех цветов и тут же познакомила меня с любкой (ночной фиалкой), смолкой и другими своими полевыми любимицами. У нее был альбом, в котором она нарисовала акварелью все встречавшиеся на алферовских лугах цветы.
Мэкуся скоро оставила нас. Она побежала на свою любимую иву, которой, по словам Тани, поверяла все свои мечты. Мы остались одни. Мне было так хорошо, светло и ласково! Мы сели на пни, и Таня начала свой рассказ о работе в земской школе в Горках. Мне вспомнилось, как осенью, на склонах Царского сада над Днепром, я сам рассказывал ей о барановских ребятах. Мы сличали наши воспоминания, говорили об успехах и неудачах.
К обеду вернулась тетя Лидия и встретила с ласковой насмешкой: ведь она считала меня «блаженненьким».
Наступило 14 июня. Мы сидели одни в моей комнате. Эти четыре дня нас так сблизили, что мы ощущали себя братом и сестрой. Как-то я сказал Тане это, но она ответила: «Да, конечно, мы уже как брат и сестра, но не будем так называть друг друга. Так я зову Сашу Попова, а у нас с вами что-то другое, большее».
В тот вечер мы говорили о сельской школе, которую хотела основать Л. К. Белокопытова и пригласить туда преподавать Селихановича и меня. Эта школа была бы типа гимназии, но с совершенно особой программой. Вот хорошо, если бы и Таня согласилась примкнуть к нам. Мне теперь вспоминается, как о такой школе мечтала Наталия Александровна Герцен в своей пере-
писке с Огаревым. Ее мечта осталась мечтой. А наша? Мы вступили в зрелую жизнь, когда мир перевернулся, когда началась первая мировая война. Много мечтаний пришлось нам похоронить.
Таня с горящими глазами слушала мой рассказ о планах Лидии Карловны. «Как мне хотелось бы к вам примкнуть!» — воскликнула она. «Тогда бы уж никогда не разлучались!» — ответил я.
Таня была в моей любимой белой матроске. Мне хотелось, чтобы она распустила свои волосы. Она слегка сдвинула свои тонкие брови, но мою просьбу исполнила. Темно-каштановые волосы волною рассыпались по ее плечам. Лицо ее горело, а глаза светились не знакомым мне еще светом. А лицо ее было такое строгое. Потом она улыбнулась, словно через силу улыбнулась, пожала мне руку и исчезла, как видение. Я задыхался от охватившего меня чувства счастья. В открытое окно дышала июньская ночь и веял легкий предутренний ветерок <..>47.
Так мы, отрицатели любви, не ведая того, встали на тот путь, который через пять лет привел нас к браку.
По утрам, на пнях, мы продолжали читать Герцена и под влиянием наших Прогулок по деревням беседовали о грядущих судьбах русской общины. Сельцо Зубово капитализировалось. Наши непосредственные симпатии были на стороне патриархальной Подрощи. Конечно, независимый дух крестьян-зубовцев — явление прогресса, но мы не могли закрывать глаза на усилившиеся там проявления хулиганства, на пьянство. С другой стороны, мы начинали замечать появление хуторов, .«столыпинских» крепких мужичков. (Мы ездили на съезд в Духовщину, где рассматривались требования крестьян о разделе, о выходе из общины, и с удовольствием отмечали, что съехавшиеся судьи-помещики не были склонны поощрять столыпинцев.) Наша юношеская вера в возможность перерастания патриархальной общины в социалистическую .коммуну—колебалась. Но мы утешали себя мыслью: все разрешит Революция, которая уж не за горами. Неужели же нам предстояло герценовскую веру в общину, которая уже давно стала и нашей верой, также отнести к романтизму, который смешон «трезвым и взрослым» <...>48.
* * *
В 1919 году зимой тетя Лидия просила у нас взаймы. Ей жилось трудно. Вспоминая свою медицинскую подготовку, она работала при больнице. Это была зима голода. У меня делались от недоедания один нарыв за другим. И мне казалось, что я не могу помочь тете Лидии, которой был так обязан. Я не мог отнять от семьи те крохи, которыми располагал. Так ли? Что это было за моральное оцепенение! Разве я не мог продать часть библиотеки? И сердце сжимается теперь, когда я вспоминаю о своем отказе.
47 Опущено: отъезд Л. Г. Гессель в Смоленск, прогулка по ночному лесу с Т. Оберучевой 18 июня 1909.
48 Опущено: приезд в Алферове Е. М. Оберучевой с Аней, Г. Фортунатовым, Н. Дрейером, А. Поповым; вспыхнувшее там молодое веселье; совместная поездка в Москву; конец алферовского лета. Жизнь Н. П. в Петербурге осенью 1909, встречи там с Т. Оберучевой, чтение Виндельбанда, упоение от занятий, лекция Гревса о Паулине Ноланском. «Симфония дружбы-любви» Н. П. с Т. Оберучевой, зимняя поездка с ней в Киев. Споры с М. Оберучевым, видевшим в техническом прогрессе панацею от всех социальных недугов. Чтение Вл. Соловьева о смысле любви. Поездка с Т. Оберучевой в Александро-Невскую лавру «встречать весну» 1910: «Мы верили в исключительность нашей судьбы и нашего пути любви».
Складывание принципа отношения Н. П. к людям: искать лучшее, что в них было. Так же к нациям: «лучшие представители не случайны <...). Они не тип, а симптом того, что скрыто в нации лучшего».
Посещения Алферова в 1910-е.
Наша Бетси Тротвуд не обиделась. Она продолжала писать нам дружеские письма. В них не было ропота на свою новую трудовую жизнь. Кто знает, быть может, съедавшая ее тоска одиночества несколько улеглась, когда тетя Лидия ушла с головой в работу, и кончилась ее нездоровая жизнь помещицы.
Центральное бюро краеведения послало меня в 1926 году ознакомиться с работой ряда организаций западных областей, в том числе и Смоленской. Оттуда до станции Ярцево рукой подать. Как билось сердце, когда я, покинув вагон, оказался на перроне столь знакомой станции. Меня уже не встречал бородатый алферовский кучер Василий. Я шел пешком в родные места. Как все изменилось за 10 лет революции! Исчезли бесследно знакомые дворянские усадьбы, исчезли и села, и деревни. На смену им пришли хуторки. Новые крепкие избы, обнесенные заборами, охраняемые злыми собаками, виднелись всюду: на месте усадеб, и на месте полуразрушенных сел, и на новых местах, на опушке рощ и лесов. И нельзя было уже здесь найти широкой панорамы, которая не была бы отмечена такой добротной избой. Казалось, что в этом краю побеждал крепкий, «столыпинский» мужик-хозяин.
Что-то встретит меня в Алферове? Вот и оно. Неужели это алферовская усадьба? Мельница исчезла, плотина разрушена, пруд высох. По дну его пробирается речушка. Но липы сохранились и сильно разрослись. Во дворе три новые, высокие и обширные избы. Это новые хозяева-хуторяне. Я прошел в парк. И там, у высокой ели — такая же крепкая свежая изба.
Я вышел в поле — курган и одинокая береза напомнили мне прежнее Алферове. Я вернулся в сад и вошел в дом. Он был пуст.
Осевшие потолки поддерживали два, уже покосившиеся столпа. Я вошел в комнату, где жила Таня, и где после брака мы жили с нею и Таточкою. Здесь по утрам солнце, проникая сквозь цветные стекла, радужными узорами расцвечивало пол. Посреди комнаты—печь с цветными изразцами. Теперь—окна разбиты. Печь — разваливается. Пыль, грязь, пустота. Было нестерпимо тяжело. Словно я посмел раскрыть могилу и заглянуть в гроб, где остались одни кости развалившегося скелета. Да, тишина могилы, только из кладовой неслись какие-то звуки. Я постучал. Глухой голос разрешил мне войти. Там сидела высохшая, корявая женщина. Это была вдова солдата, погибшего в гражданскую войну. Ей отдали алферовский дом. Никто из хозяйственных мужичков не хотел в нем поселиться. Солдатка поселилась, но ей было не по себе в больших комнатах, и она забилась в кладовую, где когда-то пищали мыши, которых запрещала ловить Лидия Гавриловна <...>49.
На другое утро я поклонился могилам. Потом постоял на пепелище. Все уходило в прошлое. Все исчезло, палимое огнем времени. Я навсегда покидал свою обетованную землю.
49 Опущено: встречи с обитателями Алферова, их разноречивые отзывы о Л. Г. Гессель; поиски Н. П. мест, памятных по совместным прогулкам с Т. Н. Оберучевой; пожар в Белой Церкви.
Что теперь там? «Столыпинских» мужичков смела коллективизация. А они казались такой крепкой силой за своим тыном, с цепными собаками.
Из газет я узнал, что на Вопи шли упорные бои. Осталось ли там теперь что-нибудь, кроме земли, воды и вечного неба, на котором сияют две звезды, те наши две звезды?50
50 Речь идет о звездах, отмеченных Н. П. и Т. Н. во время их прогулки ночью 18 июня 1909. Этой ночи они оба придавали символическое .значение как началу пути, приведшего их к браку.
Часть пятая. Петербургский университет
Глава I. Профессора
[Глава I.]
ПРОФЕССОРА
«Провидение ограничивается тем, что вылепляет нашу жизнь только вчерне, его цель в том, чтобы мы сами занимались окончательной отделкой».
Р. Тагор. «Дом и мир»
<...>. В Университет я поступил на историческое отделение историко-филологического факультета.
Мне еще не было 7 лет, когда я решил сделаться историком. В последние годы перед поступлением в Университет я стал колебаться. Мною овладела новая страсть — философия. Еще не будучи студентом, живя в Петербурге в начале 1908 г., я изредка посещал лекции по истории философии: А. И. Введенского — кантианца, прекрасного педагога, Н. О. Лосского — своеобразного мыслителя, интуитивиста, увлекшего меня своей системой, преодолевавшей непостижимость (по Канту) трансцендентального мира и утверждавшего реальность нашего видения, и, наконец, лекции молодого талантливого И. И. Лапшина. Однако, когда я должен был решать вопрос о выборе специальности — история победила.
Перед началом университетских занятий (...). я сознавал себя у врат царства, так долго закрытых для меня. Ибо отрывочное посещение лекций было какой-то контрабандой. Я мечтал о своих студиях, и во мне оформлялось желание изучать исторический процесс через познание отдельных личностей; вживаясь в них, постигая мысли и чувства, знакомясь с их деяниями — проникать в существо эпохи. Личность меня интересовала не как фактор, творящий историю, не как герой-вершитель исторических судеб (теория Т. Карлейля), она интересовала меня как симптом своего времени, как фрагмент эпохи, по которому постигается целое. Я был убежден, что только изучение конкретной личности может содействовать пониманию исторического процесса, носителем которого являются народы. Передо мной возник тревожный вопрос, сумею ли я найти руководителя, который поведет меня по такому пути исследования.
Университет в моих глазах был действительно храмом науки, в который я вступил с благоговеньем и надеждой. Смешаться с этой толпой студентов в бесконечном коридоре, прорезавшем во всю длину старое здание и связывавшем воедино 12 корпусов петровских коллегий — для меня было истинным счастьем.
В эти годы Петербургский университет переживал новый подъем. Его кафедры были заняты выдающимися учеными, которыми гордилась русская наука. К кому пойти? Кого слушать?
Мне хотелось посещать и историков, и философов, и литературоведов своего факультета. И этого казалось мало! Тянуло и на другие факультеты: и к юристам, и к естественникам. Это было мое «кватроченто», ибо глаза разбегались, и для меня было еще трудно выделить главное из второстепенного, необходимое из случайного.
Академические четверть часа перерыва кончились. По длинному коридору шли профессора. Они медленно направлялись к своим аудиториям. Вот показался невысокий человек в узком и коротком сюртуке, с острым носом, большими голубыми глазами на выкате, словно застывшими от изумления, с рыжими бровями, нависшими над глазами. Это Б. А. Тураев, египтолог. Его прозвище — бог Тот, мудрый знаток папирусов с головой и длинным клювом ибиса. Переваливаясь на своих слоновых ногах, с огромным животом и окладистой бородой, в форменном сюртуке шествует похожий на боярина профессор древней русской литературы Шляпкин. За ним — весьма аккуратно одетый, с острыми, как-то недоверчиво смотрящими глазами, схожий с «дьяком, в приказах поседелым» — С. Ф. Платонов, профессор русской истории. За ним как-то пробирается, словно стараясь пройти незамеченным, Н. О. Лосский. Его лысина на большом, как у Сократа, черепе сверкает. У Лосского рыжеватая борода и застенчивая улыбка. Все это профессора моего факультета.
Вперемежку с ними идут профессора других факультетов. Медленно идет грузный М. М. Ковалевский («друг Карла Маркса», как он себя называл), профессор международного права. Довольный миром и собой, он, улыбаясь чуть снисходительно, беседует с вольнослушательницей, которая робко задает ему какие-то вопросы. Похожий на татарина, с узкими глазами и жиденькой бородкой, профессор политической экономии Туган-Барановский, а за ним худой, подсушенный, со строгим умным лицом, весь застегнутый, прославленный профессор энциклопедии права Петражицкий. Седой, аккуратный, физик Боргман в тот год — ректор университета, щеголеватый биолог Шевяков и много, много других. В актовый зал с белой колоннадой направляется Овсянико-Куликовский. Его слушают студенты всех факультетов. У него большая голова с плоским затылком, седая маленькая эспаньолка. Он похож на украинского гетмана старинных портретов. Красноватое лицо еще резче оттеняет серебро его седин. Большие голубые глаза кажутся усталыми. Его голос звучит очень тихо.
Теперь, когда я с волнением называю эти имена, уже заглохшие, — я кажусь себе похожим на Пиковую даму, сидящую в ночной час в глубоком кресле и бормочущую себе под нос имена, некогда ласкавшие ее слух <...>. Весной 1949 года я зашел в свою старую alma mater. Я прошелся по длинному коридору. В простенках окон, а также между шкафами у внутренней стены — на местах былых земляческих витрин и всевозможных объявле-
ний — среди бюстов и статуй великих русских ученых висят теперь портреты моих профессоров. Вот Тураев, вот Кареев, вот Шляпкин, вот Лаппо-Данилевский. Все они умерли.
* * *
С каким радостным волнением купил я тоненькую книжку с расписанием занятий. И с тем же чувством ожидания духовных благ покупал ее каждую осень. В ней заключался перечень всех лекций, семинариев и просеминариев. На особой сложенной таблице — расписание дней недели и часов занятий. На ее основе можно было совершенно самостоятельно строить свой годичный план работ.
Одним из наиболее популярных профессоров историко-филологического факультета был Фаддей Францевич Зелинский (пан Тадеуш), слушать его собирались студенты всех факультетов. Один естественник (Чикаленко) мне говорил, что ходит на лекции Зелинского ради пантеистических переживаний. Словно дышишь запахами безбрежного моря. Другой естественник (Вильчинский) писал мне из Афин: «На пароходе с нами ехал Фаддей Францевич. Он сидел на носу окруженный своими ученицами. Они сняли свои шарфы и украсили ими канаты. Ветер играл этими цветными флажками над головой учителя. А он повествовал о том, как афиняне возвращались из Тавриды или Колхиды к родным берегам и всматривались вдаль, ожидая, когда блеснет на солнце золотое копье Афины, венчающей Акрополь». Вильчинский уже на берегу Эллады увидел, что Зелинский идет купаться, побежал за ним: казалось ему, что воскресший бог Эллады погрузит в вечно шумящее море свой «божественный торс». Надо заметить, что оба восторженных естественника были люди трезвого склада, постоянно шутившие над моей экзальтированностью.
Свой курс Зелинский обычно читал в классическом семинарии, где у стен были собраны фрагменты античных стел, саркофагов и статуй. Это окружение гармонировало с обликом профессора. Его портрет хотелось писать на таком именно фоне. Фаддей Францевич был высок. Его выпуклый лоб куполом венчал лицо. Темные с проседью волосы виясь обрамляли чуть закинутую голову. Слегка курчавая борода напоминала бороду Софокла; в его глазах, широко раскрытых, казалось, отражался тот мир, который он воскрешал своей вдохновенной речью. Говорил он медленно, торжественно, слегка сквозь зубы, и казалось, что слово его было обращено не к нам, что он направлял свою речь через наши головы — отдаленным слушателям.
Порой голос его дрожал и слеза блестела на его глазах, похожих на глаза оленя. Он говорил:
«Я испытую, чего на земле не испытывал смертный:
Мужа, убийцы детей моих, руки к устам прижимаю!»
Так говоря, возбудил об отце в нем плачевные думы;
За руку старца он взяв, от себя отклонил его тихо.
Оба они вспоминая, Приам — знаменитого сына,
Горестно плакал у ног Ахиллесовых, в прахе простертый;
Царь Ахиллес, то отца вспоминая, то друга Патрокла,
Плакал, и горестный стон их кругом раздавался по дому1.
Античный мир, воскрешаемый Зелинским, не был миром реальной действительности. Его герои — статуи из поросского мрамора, сверкающие на солнце как свежевыпавший снег. Но они не были холодны ни как мрамор, ни как снег. Они были, как Галатея Пигмалиона, одухотворены пафосом любви. Они выражали те вечночеловеческие страсти, которые подчиняли людей Мойре, порождали трагедии.
Перед нами был не пожилой профессор, а вдохновенный Айод2, преемник самого Гомера.
Создал ли Зелинский свою школу? Имел ли он учеников, продолжателей его науки? Мне думается, что не имел. Слишком своеобразен был он сам. Его переводы, как и переводы Вячеслава Иванова, не были точной передачей античного подлинника. Они были одновременно и комментарием к нему. И как в лекциях поэт порой побеждал ученого, так в переводах ученый побеждал поэта. Чтобы стать учеником Зелинского, нужно было обладать его талантом. Не многие из «классиков» моего времени, слушателей Зелинского, остались учеными. Я могу назвать лишь тихого и замкнутого Сребрного, ставшего, по слухам, профессором Люблинского университета (одного из самых реакционных, как говорили мне, всецело подчиненного духовенству: scientia ancilla teologiae¹.
Другой ученик Зелинского Эр. Диль был профессором в Латвии. Это был какой-то «вечный мальчик» в матроске под тужуркой. Диль молча, в благоговении внимал словам учителя и задавал робко вопросы, вроде — а скольких лет был Астианакс, когда его убил Пирр, или какого роста был Аякс Телемонид. Товарищи подшучивали над кротким Дилем. А другие слушатели Зелинского:
С. Э. Радлов, известный режиссер-новатор, дурно кончивший свою карьеру на службе у «гитлеровцев», С. С. Лукьянов — один из участников сборника «Смена вех»3, ушедший в политику, Б. Казанский, променявший античность на пушкинизм, и, наконец, Вольдемар — литовский диктатор Вольдемарас. Печальный итог!4
Иная судьба учениц Фаддея Францевича. Женская душа — более благодарное поле для сеятеля Зелинского. Вокруг него образовалось тесное и замкнутое кольцо из восторженных поклонниц. Их можно было узнавать по внешности. В годы высоких причесок, они были причесаны гладко (допускались косы, венком
¹ Наука—служанка богословия (лаг.).
1 Стихи 505—512 из 24-й песни «Илиады» Гомера в переводе Н. И. Гнедича.
2 Айод (согласно современному написанию «аэд») от греч.—певец, исполнитель эпических песен, импровизирующий под аккомпанемент струнного инструмента.
3 «Смена вех»—выпущенный летом 1921 в Праге сборник статей, призывавший интеллигенцию к сотрудничеству с советской властью. Кроме Лукьянова, написавшего статью «Революция и власть», в сборнике участвовали: Н. В. Устря-лов, Ю. В. Ключников, А. В. Бобрищев- Пушкин, С. С. Чахотин и Ю. Н. Потехин. Целью сборника, по определению Ключникова, было: «в свете наших новейших революционных переживаний переоценить нашу предреволюционную мысль; в свете наших старых мыслей о революции познать, наконец, истинный смысл творящей себя ныне революции».
4 Утверждение Н. П. о том, что Зелинский не оставил учеников, на наш взгляд, чересчур категорично. Сребрный вместе с самим Зелинским находился у истоков изучения античности польскими учеными, а Диль не только основал классическую филологию в Латвии, но и много сделал в истории культуры Боспора и Ольвии. Судьба С. Э. Радлова сложнее, чем ее излагает Н. П.: в 1942, когда немцы подходили к Пятигорску, где в то время находился возглавлявшийся им театр, Радлов не смог эвакуироваться из-за болезни жены. Оказавшись в оккупации, он вынужден был продолжать работу вместе с оставшимися по разным причинам актерами, затем был вывезен в Германию и ставил там спектакли для «остарбайтеров». После войны был арестован советскими властями и отбывал лагерный срок в Центральной России. Последние годы жизни работал режиссером в театрах Латвии. (Сообщено В. П. Полыковской. См. подробнее статью Л. Шерешевского в готовящемся сборнике «Театр в ГУЛАГе».)
Что касается Б. В. Казанского, то он наряду с пушкинистикой и языкознанием занимался и классической филологией: был профессором соответствующей кафедры ЛГУ, переводил и исследовал античных авторов; его работа о хеттских и финикийских текстах Кара-тепе опубликована в год его смерти.
оплетавшие голову). Они носили скромные блузки и передники. Всегда чистые и аккуратные. Ближайшие ученицы Зелинского, которых он возил в Грецию, образовали Гептахор5. Увлеченные Айседорой Дункан, они в танцах оживляли известные античные статуи. Первоначально застывшая группа — «Рождение Афродиты» (известные архаические рельефы Музея Терм в Риме) — постепенно оживает в танце, передающем ритм скульптурной группы, так же, как ритм прелюдий Шопена или фуги Баха передавала прославленная босоножка6.
Гептахор жил общей жизнью. Это была маленькая коммуна амазонок науки и искусства. Если какая-нибудь из гептахорок вступала в брак, подруги ее переживали глубокое волнение. Сумеет ли муж включиться в своеобразный быт? Рожденный Рудневой ребенок Никон сделался сыном всего Гептахора. Надо знать, что почитательницы Сафо не были ее последовательницами. Их нравы были безукоризненно чисты.
В 1911 году Гептахор пережил драму, потрясшую кружок. Распространился слух о «жертве Зелинского». Одна из близких его учениц родила от него ребенка. Гептахор отвернулся от своего учителя. Слух о грехопадении Пана Тадеуша получил широкую известность. И мы, студенты, почитатели Зелинского, были глубоко возмущены поступком профессора.
Зелинский счел нужным публично оправдаться. Но как? На Бестужевских курсах была объявлена его внекурсовая лекция: «Трагедия верности». Курсистки всех факультетов переполнили зал. Зелинский на нескольких примерах греческих трагедий противопоставил понятия мужской верности и верности женской. Женская верность — отрицательная. Ибо женщина, для того чтобы быть верной, должна отречься от всех соблазнов иной любви. Верность мужская — положительная, ибо мужчина способен быть верным одновременно многим женщинам, не отказываясь от многочисленных воплощений своего Эроса. Эта «философия петуха» была подана с таким достоинством и талантом, что произвела не отталкивающее, как следовало ожидать, а положительное впечатление. И группа курсисток поднесла Зелинскому букет лилий — знак его оправдания. (В перерыв успели сбегать на Средний проспект в цветочный магазин). Но не отпустил грех своему учителю Гептахор. Лишь с годами сгладилась глубокая трещина7.
Когда в 1912 году в дни поездки нашего семинария с И. М. Гревсом в Италию, я слушал рассказ Е. В. Ернштедт о путешествии по Греции с Зелинским, я спросил ее мнение о Фаддее Францевиче. «Зелинский! Это чудовище», — воскликнула девушка в большом волнении. Я спросил: «Почему?» Краска залила лицо Елены Викторовны, и ответа я не получил.
А мне хотелось узнать ответ. И по возвращении в Петербург я задал тот же вопрос Л. Ф. Завалишиной, передав ей содержание моего разговора с Ернштедт. Кроткая и застенчивая Людмила
5 Из слушательниц ВЖК в Грецию с Зелинским ездили: М. Ф. Голубцова, К. В. Гросман, В. К. Дайхес (ур. Ходорова), О. Г. Дьякова, Е. В. Ернщтедт, Л. Ф. Завалишина, Н. Б. Краснова, Ф. М. Нахман, А. Г. Прокопе, Л. Н. Попова, С. Д. Руднева, С. П. Червинская, В. К. Иванова (ур. Шварсалон), Н. А. Энман (ЦГИА Ленинград, Ф. 113. On. 1. Ед. хр. 60). Возможно, что в состав кружка Гептахор, кроме Рудневой и Энман, которые точно были в нем, входил и кто-то еще из участниц этой поездки.
6 Одна из лекций Зелинского в 1913 была специально посвящена творчеству балерины («Исидора Дункан и идея античной орхестики»—в записи И. С. Книжника-Ветрова см. ОР ГПБ. Ф. 352. Ед. хр. 1445).
7 Вероятно, основное содержание названной лекции Зелинского изложено в его одноименной статье (Вестник Европы. 1912. № 1. С. 135—182). В глазах людей, далеких от Гептахора и получивших информацию из вторых рук, поведение Зелинского было лишено эстетического ореола. Учившаяся в то время на ВЖК Е. П. Казанович записала в своем дневнике 1912—13: «От времени до времени наиболее усердные из семинаристок Зелинского получают как бы «частную командировку за границу» <...), попросту говоря—скрываются на известное время под героическое небо Греции или Италии для того, чтобы там произвести на свет плод усиленных занятий в семинариях профессора-антика». Упоминая далее скандал, разразившийся в совете профессоров, и визит к Зелинскому разгневанных коллег, протестовавших против «похождений, оскорбляющих науку и нравы ученого мира», Казанович расценивает статью в «Вестнике Европы» как ответ на этот визит. (ОР ГПБ. Ф. 326. Ед. хр. 18. Л. 128об—129об.)
Федоровна вспыхнула от негодования: «Скажите Елене Викторовне, что она дура». Я ничего не понимал. Вскоре, однако, мне удалось узнать, что Людмила Федоровна и есть жертва Зелинского. Что он является отцом ее маленького Вали. Как же могло это случиться? Завалишина вместе со своим учителем переводила «Баллады-послания» Овидия. Работа сблизила их. Для нее Зелинский стал подобием Зевса, божества, оплодотворившего Леду, Европу, Данаю и других многочисленных юных гречанок. Иметь от Зелинского сына ей казалось величайшим благом.
После революции я встречался с Фаддеем Францевичем в Экскурсионном институте8. Организатор поездок в Грецию пожелал принять участие в этом новом институте, рожденном Революцией. На одном из первых заседаний он сказал: «Мы работаем в научно-исследовательском институте. Следовательно, нас объединяет какая-то наука. Это наука новая. Для нее нужно специальное имя, нужны крестины. Как назвать ее? Я предлагаю экдромология от— блуждать, странствовать». Название это не привилось, да и наука такая не родилась. Мало ли нафантазировали старые интеллигенты в первые годы революции!
Вскоре Фаддей Францевич уехал за границу. Я не думал, что этот поляк, воспитанник Гейдельберга, вернется в «Совдепию» (это его выражение). Но он вернулся. «Срок моей командировки кончился». Петроград был еще во власти разрухи и голода. Нас поддерживал «Дом ученых», созданный по инициативе Горького. Летом 1921 года в Институте Искусств состоялся вечер, посвященный юбилею Данте (600 лет со дня смерти). Среди ораторов был и Зелинский. Он исхудал. Его волнистые волосы торчали беспорядочными прядями. Долгополый сюртук висел на нем, как на вешалке. Из порванного башмака торчал белый носок, замазанный чернилами. Зелинский говорил медленно, с трудом. Он говорил, что наша жестокая эпоха дала нам все возможности понять творения Данте. Что мы живем в cita dolente¹. Что мы поняли, как горек хлеб, который нам дают чужие руки, и как тяжки ступени лестницы, по которой нам приходится подниматься за его получением. Вскоре он уехал опять... И не вернулся, как голубь, выпущенный из Ноева ковчега. Там, на чужбине, в Зелинском победил поляк, «Пан Тадеуш», победила закваска гейдельбергского студента. Он не эмигрировал, он репатриировался.
Прошло еще несколько лет. Одна из Гептахора получила от него письмо, в котором старый учитель сообщал ей, что слепнет, как Гомер, что для него померк внешний мир, но еще слышнее стали голоса внутреннего мира. Где, когда и как он умер — мне неизвестно. До меня дошел слух, что он еще был жив в 1950 г. и приютился у своего сына, профессора Гейдельбергского университета9.
¹ Печальный город, «отверженное селенье» (итал.).
8 Об Экскурсионном институте см. в Приложении к наст. изд. и комментарии к нему.
9 Сведения о конце Зелинского, приводимые Н. П., неверны. На самом деле он умер в Унтершонсдорфе (Бавария) в 1944, куда его вывезли из Варшавы при содействии сына, бывшего на немецкой службе.
В популярности Зелинскому намного уступал Михаил Иванович Ростовцев. Студенты других факультетов реже посещали его лекции. Внешность Ростовцева не могла содействовать популярности. Она была лишена всего профессорского. Небольшой, коренастый, с широким лицом, без бороды, подстриженный бобриком, какой-то «серенький». Однако умное, энергичное лицо привлекало внимание. Я слушал его курс «Рождение Принципата». Михаил Иванович начинал медленно, глухим голосом, но постепенно темп ускорялся, а к середине лекции Ростовцев гремел на всю аудиторию так, что я предпочитал сидеть в задних рядах. Михаил Иванович давал блестящий по выразительности и глубокий по существу анализ боровшихся исторических сил. Он весьма ограниченно трактовал роль отдельной исторической личности. Однако его портреты исторических деятелей Рима были так же выпуклы, как рельефы их голов на римских монетах, так же психологически раскрыты, как римские бюсты. Ростовцев показывал историческую личность в ее действиях, он хотел избегать психоанализа и, в особенности, нравственных оценок. Однако горячий темперамент Ростовцева заставлял его забывать завет Тацита: «Sine ira et studio»¹. Он пылал гневом, повествуя о ненавистном ему Августе Октавиане, умном, трезвом, расчетливом, холодном, совершенно беспринципном молодом человеке — «революционере» в юности, превратившемся в консерватора и ханжу. Ростовцев употреблял бранные слова, стучал кулаками — это был не ученый на кафедре, а политический оратор на трибуне. Несмотря на этот «гнев» и «пристрастие», Михаил Иванович оставался историком-реалистом. И его построение оправдывало, делало убедительной его оценку. «Минувшее» проходило перед нами «событий полно, волнуяся как море-океан», оно ни на минуту не становилось «спокойным» и «безмолвным». Речь Ростовцева была образна. Так, характеризуя республиканца Секста Помпея, вся сила которого была сосредоточена во флоте, Ростовцев определил его: «бог Нептун в голубом плаще».
Иным становился Ростовцев на занятиях в семинариях. Сосредоточенный, спокойный, он вел их тихим голосом. Он надевал очки, и они меняли его облик. Казалось, еще пристальнее всматривался он в ткань Клио, словно перед ним стоял микроскоп. Студенты разбирали египетские папирусы александрийского периода. Каждая ничтожная деталь давала ему материал для превосходных комментариев. Ростовцев воссоздавал быт и борьбу минувших тысячелетий, в отличие от Зелинского лишая их всякой романтической дымки.
К сожалению, я плохо знал языки и многое для меня пропадало. Я не был учеником Михаила Ивановича. Я лишь присутствовал на его занятиях и, по существу, не мог овладеть методом его работы. Может быть, я не прав, но мне кажется,
¹ Без гнева и пристрастия (лат.).
что в мои студенческие годы не было ни одного профессора на нашем факультете, который мог сравниться с Ростовцевым в умении научить студентов научно работать над первоисточниками.
И тем не менее... Ростовцеву не везло с учениками.
Это были те же лица, которые работали и у Зелинского. Жизнь их увела далеко от науки и от античного мира. Были у Ростовцева прекрасные ученицы на Бестужевских курсах, но и они, насколько мне известно, не продолжали его традиций, и так же ушли в другие области, как Е. В. Ернштедт и Л. С. Миллер. Кстати отмечу, что Ростовцев в отличие от Зелинского пользовался репутацией «целомудренного Публия Корнелия Сципиона».
Война с Германией выбила Ростовцева из его научной колеи. Он стал и в своих лекциях проповедовать борьбу с пангерманизмом. Он говорил, что подлинной культурой обладают лишь те народы, которые развили свою культуру на базе античной. Немцы были отгорожены от мира классических народов оборонительной линией Limes romanus¹ (на Рейне и на Дунае). Между тем как Русская земля была некогда удобрена античной культурой. Ее южные берега у Черного моря входили в состав эллинского мира. Ольвия, Пантикапея — греческие колонии высокой культуры. Михаил Иванович сделал своей основной специальностью именно изучение Боспорского царства и других областей юга России, приобщенных к эллинистической культуре.
Страстный Ростовцев не мог в годы войны замкнуться в академической жизни. Когда выяснилась нехватка боеприпасов, Михаил Иванович стал за станок и принялся изготовлять снаряды. Его антинемецкая, воинственная позиция впоследствии много повредила ему. Эдуард Мейер, по слухам, завещал Ростовцеву свою кафедру, но немецкие ученые отказались утвердить на ней воинствующего врага пангерманизма.
Ростовцев не понял значения и смысла Октябрьской революции. Он покинул свою родину и завоевал за рубежом себе крупное имя, получившее мировое значение. Как мне говорили специалисты, он продолжал свои работы в области эллинистической культуры юга России. Но его труды уже не могли появиться на русском языке. Он был безнадежно чужд родине, обновленной революцией.
Специалистом по римской истории был также Эрвин Давидович Гримм, брат ректора, а впоследствии и сам ректор. В годы моего учения он переключился на ранний период новой истории. Это был блестящий лектор, увлекавшийся своим красноречием и увлекавший других. Он был худ и высок, белокур, как полагается представителям «нордической расы». Небольшие скулы придавали особую выразительность его гладко-розовому лицу с крошечной эспаньолкой под нижней губой. Он был нервен во время лекции,
¹ Римская граница (лат.).
то снимал, то надевал пенсне. В своих лекциях Эрвин Давидович умел ярко охарактеризовать исторический процесс со всей его диалектикой (только не в марксистском ее понимании), процесс, полный борьбы страстей. Прекрасно образованный Гримм представлял собою исчезающий тип всеобщего историка. Он ориентировался в любой эпохе. Однако Гримм не имел, казалось, ни подлинного исследовательского жара, ни серьезной научной школы. В нем было что-то дилетантское. Пылкий оратор, он лучше говорил, чем писал. По существу Гримм был импровизатор. Мне кажется, что по натуре своей, по своему темпераменту он был в большей мере политический деятель, чем ученый. Эрвин Давидович оказался превосходным ректором в труднейшие годы жизни университета, в период войны и революции.
В русской действительности ни до революции, ни после 1917 года не было тех условий, чтобы он мог выдвинуться на политической арене. Мне помнится, что Гримм принадлежал к Партии народной свободы. Но он не был типичен для нее. Ему был чужд некоторый интеллигентский идеализм этой партии, ее догматический либерализм и ее доктринерство. Эта партия, созданная в 1905 г. в значительной мере прогрессивным дворянством из земцев, перерождалась в буржуазную партию. И мне казалось, что Гримм мог оказаться одним из тех, кто содействовал бы дифференциации этой партии, выделению из нее группы, способной создать ядро новой, подлинно буржуазной партии, члены которой сменили бы вехи, но не в мистическом плане, как авторы известного сборника, а в плане чисто реальном. Мне помнится, что имя Гримма связывалось с новой газетой «Русская воля», которая порывала как с традициями профессорских «Русских ведомостей», так и с традициями чисто партийной милюковской «Речи». Гримм имел какое-то отношение к белогвардейцам, кажется, деникинцам. Его роль была ничтожна. В начале 1930-х годов Гримм добился реабилитации и вернулся в Ленинград. Я встретился с ним в Александровском парке Детского Села. Трудно было узнать блестящего Эрвина. Он был уже развалиной. В новом мире все было чуждо ему. Вскоре он умер10.
Профессором Новой истории был также Николай Иванович Кареев. Еще до поступления в университет я слушал его лекции. Но в них я не нашел главного: живого общения с минувшим. Меня волновали слова Г. Гейне: «Живя назад жизнью предков, завоевать вечность в царстве прошедшего». Николай Иванович не умел заставить слушателей жить в царстве прошедшего. Его интересовали обобщенные социологические схемы, интересовали его и конкретные исторические факты, которыми он подкреплял свои схемы. Высокий рост, торжественная поступь, закинутая голова, огромный лоб, окаймленный седыми, но еще густыми, длинными волосами, ниспадавшими на его широкие плечи (настоящая львиная грива), размеренный спокойный голос, бесстрастный (sine ira et studio) — все это внешнее так подчеркнуто характеризовало «жреца науки».
10 Названная выше в тексте газета «Русская воля» была внепартийным органом республиканской ориентации. Основана в 1916, после февраля 1917 поддерживала Временное правительство, выступала за продолжение войны. Наряду с деятелями умеренно-либерального толка на ее страницах выступал Л. Андреев и другие демократические авторы. В связи с яркой антибольшевистской позицией была закрыта одной из первых — 26 октября 1917.
Следы послеоктябрьской биографии Э. Д. Гримма находятся в его личном деле: 11 декабря 1917 он избран ректором на новый срок, в октябре 1918 следует его «отказ от должности по болезни», 10 октября он отправляется в командировку в южные губернии России «с научной целью», а 12 числа на квартире уехавшего Гримма ЧК производит обыск и, арестовав случившегося поблизости вахтера Гольцова, опечатывает помещение. Избранный вновь ректор профессор А. А. Иванов в переписке с властями решительно отметает возводимые на Гримма обвинения в дореволюционном сотрудничестве с охранкой и беспокоится о судьбе библиотеки, бумаг и вещей Гримма. Никакого ответа на, вопрос о характере обвинений, выдвинутых против Гримма, Иванов от ЧК тогда не получил. Осенью 1929 живший в то время в Москве Э. Д. Гримм обращался в Архив ЛГУ за справками о своей служебной деятельности для представления их в ЦЕКУБУ (ЦГИА Ленинграда. Ф. 14. On. 1. Ед. хр. 9226. Л. 259—268).
И тем не менее в нем не было никакой позы. Он был вполне естествен, он не мог быть другим. Прямой и искренний, безукоризненно честный, он верил в науку как высшее, что создано культурой. Он был и жрецом, и неустанным тружеником. Студенты не любили его лекций. «Водолей» — это прозвище постоянно сопутствовало имени Кареева. Но в семинарий его вступали охотно, и не только потому, что занятия были обычно посвящены волновавшей всех теме «Великая французская революция». (Ведь все мы тогда сознавали, что живем «накануне».)
У Кареева образовалась своя особая школа учеников, преданных ему11 «Наказы» избирателям, требования секций Парижа— документы эпохи такого рода изучались с большой тщательностью и захватывающим интересом. Все это давало прекрасный материал для обобщений социологического характера. Нельзя сказать, что Николай Иванович принадлежал к номотетической школе12, что ко всему подходил он исключительно с точки зрения пригодности для обобщений. Он был последовательный эклектик (насколько эклектик может быть последовательным). Кареев твердо верил в возможность объективной историчевкой истины и непреклонно добивался проверки каждого факта (завет Ранке: Wie es eigentlich gewesen)¹.
Нельзя сказать, что личность не интересовала его. У него были и любимцы, например, Мирабо. Но как будто личность интересовала его прежде всего своей политической программой. Н. И. Кареев мне представляется законченным типом русского либерала. Он придавал большое значение своей мало оцененной, как казалось ему, политической деятельности. (Он был депутатом кадетской фракции 1 Гос. думы. Он подписал и Выборгское воззвание). В кабинете его над громоздким диваном висела картина (масло), изображающая его сидящим на койке в каземате Петропавловской крепости (после «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 г.)13.
Все эпохи интересовали его. Про Кареева можно сказать, в отличие от Гримма, что он был прежде всего ученым и его попытки политической деятельности вытекали из чувства долга, но мало соответствовали вкусам этого профессора, его способностям «гражданина».
В годы революции Кареев, как идеалист-эклектик, много писавший против марксизма, был отрешен от кафедры. За ним остался лишь курс исторической географии.
Мне приходилось беседовать с Николаем Ивановичем как-то раз у Ивана Михайловича Гревса. В беседе он казался много интереснее. Он был мастером рассказа, который излагал с легким и безобидным юмором. О последнем часе жизни Николая Ивановича мне рассказала его дочь (жена художника Верейского).
¹ Как на самом деле было (нем.).
11 Среди учеников Кареева были В. А. Бутенко, Э. Д. Гримм, А. С. Лаппо-Данилевский, П. П. Митрофанов, А. М. Ону, П. Д. Погодин, Е. А. Соловьев и мн. др.
12 Номотетическая школа —приверженцы точки зрения о наличии закономерностей в историческом процессе (Г. Коген). Позиция Кареева была более сдержанной: «Прогресс присущ истории, зависит ли это от благости Божией, или от внутренней сущности истории, или же от естественного закона, ею управляющего, — вот одна вера с разными лишь оттенками. (...) Эта вера была и моей (...), я стремился дать (...) изложение в виде «номологии прогресса», т. е. теории законов, управляющих прогрессом как таковым» (Кареев Н. И. Теория исторического знания. СПб., 1913. С. 29).
13 9 января 1905 .Кареев был арестован как участник депутации интеллигенции, направлявшейся к С. Ю. Витте с целью предотвращения расстрела мирной демонстрации.
Последние слова Кареева были из «Вакхической песни» Пушкина: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»
Никто из этих прославленных ученых не стал моим учителем. Своим учителем я избрал Ивана Михайловича Гревса.
До поступления в университет я ничего о нем не знал. Впервые услышал его имя от своего учителя И. Б. Селихановича, который продолжал жить у нас. «Вам, Коля, следовало бы поработать у Гревса. У него в семинарии такое «благорастворение воздусей». Это будет в вашем вкусе». Зная стиль высказываний Селихановича, я не смутился. В расписании лекций нашел название курсов, которые читал профессор Гревс: по пятницам — общий курс «Французское средневековье», по понедельникам специальный курс «Духовная культура конца Римской империи и раннего Средневековья». Я записался на оба курса. Так началось мое знакомство с Иваном Михайловичем.
Глава II. Иван Михайлович Гревс
[Глава П.]
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГРЕВС
«Только того, кого любишь, настоящим образом знаешь и понимаешь; только для изображения тех, кого любишь, отыщешь в уме и фантазии должное основание и нужные краски. Приступаю с благоговением и сознанием ответственности».
Так писал Иван Михайлович, приступая к повествованию о кружке Ф. Ф. бльденбурга и его друзьях14. Да так и должно быть. Любовь открывает глаза, сообщает им особую зоркость. Но язык немеет, и еще более бессильным становится перо. Чувство ответственности не помогает мне, оно смущает меня, подавляет.
Мы называли его padre¹. Он и сам писал мне 22 апреля 1934 г.: «...не только по прозвищу padre, но и по внутреннему существу, который переживает сейчас с тобою то, что наполняет твое сердце, всеми силами души».
Я заранее знаю, что не смогу воссоздать его образ, который в течение тридцати двух лет был опорой моей жизни, и до конца ее будет светить мне уже за гранями своего бытия. И все же я решился рассказать в меру моих сил все то, что отложилось в моей памяти. Может быть, сквозь мои бессильные записи хотя изредка проглянут черты, определяющие облик дорогого padre и своеобразие его жизненного пути.
Слово padre для меня значило больше, чем для многих его учеников. Я потерял отца, когда мне едва исполнилось 8 лет. Память о родном отце не заглохла в душе. Я его и теперь, когда мне под 60, изредка вижу во сне. И меня, столь рано утратившего родного отца, в сознании создавшейся пустоты, всегда тянуло к
¹ Отец (итал.).
14 Гревс И. М. В годы юности. За культуру//Былое. 1918. № 12. С. 42—88; 1921. № 16. С. 137—166.
старшему, к которому я мог бы с любовью прислониться. В годы отрочества и ранней юности А. Ф. Фортунатов, отец моих друзей, стал для меня таким чтимым и любимым руководителем в жизни. В студенческие годы Иван Михайлович стал тем учителем-другом, с которым меня связала навсегда сыновья любовь. Иван Михайлович стал моим padre.
Помню, как увидел его впервые. В конце перерыва между лекциями по длинному коридору одним из первых шел высокий профессор с седеющей головой, слегка наклоненной набок. Мне сказали, что это и есть Гревс. Он медленно вошел в аудиторию и поднялся на кафедру. Иван Михайлович читал в «Историческом семинарии». Его аудитория отделялась от коридора семинарской библиотекой.
В небольшой комнате исторического семинария студенты сидели вокруг столов. На стенах висело всего два портрета: Моммзена и Ранке. (Почему не было Грановского?) Там высокая фигура Ивана Михайловича казалась чрезвычайно стройной. Смуглое лицо с подстриженной, побелевшей бородой выступало в раме седеющих волос, зачесанных назад. Ничего профессорски декоративного: ни длинных кудрей, ни развевающейся бороды, как у Маркса. Что-то скромное, почти застенчивое, и, вместе с тем, полное благородного изящества и чувства достоинства. Движения были мягки и сдержанны. Характерный жест: сосредоточиваясь на своих мыслях, он склонял набок голову и прикладывал к носу палец. Лоб Ивана Михайловича был очень высок, но не широк. Вместе с носом он составлял почти прямую линию. Черные глаза смотрели пристально, и каждому слушателю казалось, что Иван Михайлович обращается к нему. Порой лицо его светилось улыбкой, необыкновенно ясной и нежной. И от этой улыбки, казалось, светлело все вокруг.
Каким-то тихим, даже сдавленным голосом начинал он лекцию. Но постепенно голос крепчал и богато расцвечивался интонациями. В речи Ивана Михайловича не было ничего ораторского, никакого пафоса. Но она была изящно построена и ярко окрашена эмоционально. Это сдержанное волнение передавалось слушателям. Многие ценили возбужденность Ивана Михайловича, но некоторые ворчали: «старик расчувствовался». Мне не раз приходилось защищать своего учителя перед товарищами от упреков в «сентиментальности». Переживания Ивана Михайловича были очень глубоки, искренни и интенсивны. В них не было никакой раздутости, наоборот, внешне они были очень сдержанны. И мне казалось, что Иван Михайлович, в отличие от Зелинского, тяготился сам, когда замечал, что голос его начинает дрожать. Этот голос был удивительно молодым и оставался таким до конца, даже тогда, когда Иван Михайлович слегка пришепетывал в глубокой старости из-за выпавшего зуба. Свою речь он любил заканчивать словом «вот» и при этом протягивал руку, сложенную щепотью. В этом «вот» звучало чувство удовлетворения от высказанного.
Вячеслав Иванов после встречи с И. М. Гревским в 1918 г. писал о нем, характеризуя его облик:
Чудесен поздний твой возврат
С приветом дальнего былого,
И голоса, все молодого,
Знакомый звук, любимый брат!
И те же темные глаза,
Из лона вдруг вся юность глянет,
Порой по-прежнему туманит
Восторга тихого слеза...15
Содержание лекций И. М. Гревса совершенно соответствовало тому, что я искал в историке-учителе. Каждый из двух курсов, читанных им в 1909—1910 гг., дал мне то, ради чего я стал заниматься историей.
Общему курсу французского средневековья было предпослано большое вступление, в котором Иван Михайлович развивал всемирно-историческую точку зрения на историю. Вслед за Фюстель де Куланжем он рассматривал средневековье в тесной связи с наследием древнего Рима (и эллинизма). Он боролся с точкой зрения «германизма», которая исходила из Представления о разрыве в историческом процессе, в результате которого германские племена начали совершенно самостоятельную, себе довлеющую культуру на развалинах рухнувшей Римской империи. (В сущности, и Шпенглер стоял на точке зрения такой же изоляции отдельных культур.) Иван Михайлович горячо отстаивал идею единства процесса всечеловеческого развития. История — биография рода человеческого, и Иван Михайлович цитировал нам Боэция, который в тюрьме писал свой труд «Утешение в философии»:
О felix hominum genus
Si vestros animos amor
Quo coelum regitur, regat¹.
Hominum genus и есть субъект истории. В этом учении о преемственности культур, о невозможности для каждой из них полного исчезновения, о продолжении жизни одной культуры в другой, заключалась большая любовь к человечеству, вера в жизненность заложенных в него начал и, наконец, благочестивое отношение к угаснувшим поколениям, добрая вера в то, что ничто не погибает, а сохраняет так или иначе свое бытие в сменяющихся поколениях. Отсюда интерес Ивана Михайловича к проблеме «ренессансов». Средние века не были «ночью культуры», отделившей эпоху Возрождения от античности. В этой «ночи» здесь и там вспыхивали очаги «возрождения» античной культуры. Таково, на-
¹ «Счастлив был бы род людей, если бы вашими душами правила любовь, которая управляется небесами» (лат.). (А. М. Т. S. Boetii. De consolatione Philosophiae III. Metr. VIII, 28—30). У Н. П. вместо «coelum» — «mundo» и, соответственно, в переводе «миром» вместо «небесами». (Прим. публ.).
15 Из стихотворения «Возврат», опубликованного в сб. «Норд», Баку, 1926. Перепечатано в кн.: Вяч. Иванов. Свет вечерний. Оксфорд, 1962. С. 49—50. (Установлено Б. С. Кагановичем.) У Н.П. в автографе ст. 6: «Из коих вдруг вся юность грянет...»
пример, «Каролингское возрождение» или эпоха Фридриха II Го-генштауфена. И Иван Михайлович с замечательным мастерством вскрывал в этих «ренессансах» античные традиции. Много позднее, уже после окончания университета, когда я готовился к магистерским экзаменам, я понял особенность своего учителя. Его защита Средних веков заключалась в том, что с его точки зрения Средние века, в сущности, были в свои лучшие моменты и периоды выразителями античных традиций. Иван Михайлович не стремился защитить Средние века их собственными ценностями, именно тем, что отличает их от других эпох. Он искал то, чем они схожи с Римом и с Новым временем (здесь, конечно, имеется в виду средневековье лишь в пределах тысячелетия IV—XIV вв.).
Романтики (например, Чаадаев или Новалис) искали в Средних веках те ценности, которыми другие эпохи не обладали (идея международного единства, обусловленного христианской церковью, социальная гармония в цехах, рыцарство и др.). Иван Михайлович не был романтиком, он сам себя называл «историком-реалистом». Вера в прогресс (хотя она и переживала острые кризисы) была характерна для Ивана Михайловича. Эта вера и заставляла его искать в Средних веках «вечные ценности», присущие всем эпохам. Все это, однако, отнюдь не делало Ивана Михайловича номотетиком, т. е. историком, который интересуется не индивидуальным, а общим, ищет в исторических явлениях общие начала, а в событиях лишь материал для обобщения. Иван Михайлович всегда стремился в истории к конкретному, а следовательно, к индивидуальному. И в каждом «ренессансе» он вскрывал особые, неповторимые черты, только ему присущие. Одним из его девизов, так же как и Кареева, было ранковское «wie es eigentlich gewesen». Он тщательно изучал факты для восстановления картины прошлого во всей ее конкретности.
Иван Михайлович не во всем соглашался с Фюстелем де Куланжем, которого высоко ценил: так, он не соглашался с тем, что исторические процессы «слепы» и «безличны». Гревс всегда искал индивидуальные черты, «лицо эпохи», «лицо культуры» или «лицо города». В этом отношении для меня особый интерес представил его второй курс «Духовная культура конца Римской империи». Этот курс был посвящен в основном характеристике отдельных личностей: Лактанция, Паулина Ноланского, Авзония, Сидония Аполинария и др.
Иван Михайлович не поднимал при этом вопроса о роли личности в истории. Он стремился воссоздавать отдельные человеческие образы, которые выражали собою те или другие стороны исторического процесса, различные эпохи, разнообразные культуры. А поскольку история есть биография рода человеческого, постольку эти образы отдельных людей назывались Иваном Михайловичем «образами человечества». (Так он и назвал к недовольству издателя А. Ф. Перельмана серию биографий, которую он редактировал в издательстве «Брокгауз и Ефрон» в годы революции.)
Этот метод раскрытия эпохи через отдельную личность Иван Михайлович удачно называл «биографическим методом».
Так в своей диссертации о римском землевладении он блестяще применил этот метод для характеристики глубоких социальных процессов и в конце жизни, когда он работал над Тразеей, Сенекой и Тацитом, он продолжал пользоваться тем же методом.
Иван Михайлович стремился по завету Тацита излагать историю sine ira et studio. Но его беспристрастие было ограничено глубоким и горячим моральным чувством. Его особенно привлекали духовно прекрасные личности и, во всяком случае, те, кто был носителем (или искателем) правды. Таковы Августин, Франциск, Данте. Это были его герои. В этом резкое отличие Ивана Михайловича от Е. В. Тарле, которого особенно привлекают сильные умом и волей, хотя бы совершенно аморальные лица (Наполеон, Талейран).
В особенности запомнилась мне лекция Ивана Михайловича о Паулине Ноланском, прочитанная им 7 декабря 1909 г. Это был одинокий носитель античной культуры в эпоху побед варварства. И вместе с тем Паулин бьи проникнут глубоким христианским пафосом. Это был аскет, но представитель столь редкого «светлого» аскетизма. Он жил со своей женой Терезой как брат с сестрой. Их духовный брак был озарен небывалым счастьем. Мягкий климат юга Италии развил в нем поэта. (Между прочим, Паулину приписывают изобретение колокольного звона.) Вот те обрывки, которые сохранились у меня в памяти. Я не имею возможности передать этот тихий голос учителя, такой молодой и сосредоточенный, повествовавший о жизни давно угаснувшей, воскрешенной перед нами, юношами, вступавшими в университет как в храм науки, о жизни, освещенной таким мягким светом. Времена расступились. Я видел отдаленный берег. Конец античности и заря средневековья были эпохой, особенно волновавшей мой юный ум своими вечерними красками, угасавшими в грозе и буре и сливающимися с утренней зарей новой эры.
(Этот же обостренный интерес к тому времени привлек меня к Герцену, который постоянно возвращался в своих думах к концу античного мира).
Когда Иван Михайлович свою лекцию о Паулине Ноланском кончил и сошел с кафедры, наступила тишина. Нас охватило какое-то чудесное раздумье. По указанию Ивана Михайловича я читал тогда «Падение язычества» Гастона Буасье. Этой книги нигде нельзя было достать, и я ходил тогда по вечерам работать над ней в Публичной библиотеке. Ходил туда с Таней Оберучевой, и возвращались мы вместе на Петербургскую сторону.
Мы шли по тихим закоулкам между Каменноостровским и Большим проспектами. Это были дни, когда выпало много снега. Белая парча сверкала звездами от яркого света луны. Помню кирху близ Ситного рынка, похожую на ту, что я видел в Троньеме16. И все, что было тогда вокруг, все это я воспринимал сквозь приз-
16 Речь идет о путешествии Н. П. по Норвегии.
му образов давно минувших времен, тех образов, которые с таким искусством и такой любовью сумел воссоздать учитель.
Каждая эпоха имеет свой аромат, свой особый «звук», его можно назвать couleur temporal¹, как бывает couleur local². Но этот запах, этот цвет передать может только историк-художник. Не историк-эстет, любующийся героическими деяниями, красочностью культуры, яркостью личностей, а тот, кто постигает глубину всех движений, кто слышит «дольней лозы прозябанье»; эти движения, происходившие в отдельных эпохах, в душах отдельных людей и целых народов, Может воссоздать внутри себя и передать другим именно историк-художник. И при этом все согреть и осмыслить глубоко проникающим моральным светом.
Так открылся мне Иван Михайлович в его лекциях о Паулине Ноланском. Это для меня было прелюдией к Августину, Франциску Ассизскому и Данте. Через пять лет Иван Михайлович вел просеминарий, посвященный тем же проблемам. Юрий Никольский, впоследствии литературовед, сделал прекрасный доклад о Паулине и его жене Терезе.
В 1910—1911 годах занятия с Иваном Михайловичем были прерваны всеобщей забастовкой. С жадностью мы ловили слухи о поведении наших профессоров, об их отношении к нашей борьбе. Мы были восхищены поступком Н. О. Лосского, который, поднявшись на кафедру и увидев не обычных своих слушателей, а штрейкбрехеров, отказался читать им лекцию.
Что же слышно об Иване Михайловиче? С большой грустью я узнал, что он читал очередную лекцию двум-трем из своих постоянных слушателей. Мне это было очень больно, и я решил пойти к нему на дом (в первый раз) и узнать мотивы его поступка. Мой вопрос: «Как могли Вы читать лекции, когда нами объявлена всеобщая забастовка?» — оскорбил его. «Вы меня спрашиваете, — начал он, — словно хотите сказать, как Вы могли так бесчестно поступить?» Я ему ответил, что если бы действительно подозревал о возможности «бесчестного поступка», то не пришел бы к нему, но мне хочется узнать его взгляд на нашу забастовку.
Иван Михайлович подробно и терпеливо осветил свою позицию. Он сказал, что не верит в наше время в возможность существования такой власти, которая в своих различных мероприятиях не вызывала бы справедливого негодования и желания протеста и борьбы. Но должна ли борьба находить выражение в университетских забастовках? Наука — важнейший фактор прогресса. Недопустимо подготовку молодежи к научной деятельности ставить в зависимость от действий властей. Университет должен, как лазарет во время войны, оставаться под белым флагом. Прошло лишь одно десятилетие нового века, а сколько семестров было
погублено забастовками. Это все создает самую серьезную угрозу русской науке.
Меня Иван Михайлович не убедил, даже не поколебал. Я считал, что университет и другие высшие учебные заведения должны до окончательной победы революционного движения оставаться его верными и надежными очагами. Мы, студенты, подобно весталкам должны поддерживать неугасимый огонь революции. Ивану Михайловичу было очень грустно оттого, что он говорил со мною на разных языках, ему казалось, что я смог бы стать его учеником в полном смысле этого большого слова. Но ему была понятна моя юношеская горячая убежденность, и он готов был уважать ее во мне. А я? Глубокая скорбь любимого профессора, с которой он говорил о судьбах русской науки, его твердая вера в свою правду произвели на меня неизгладимое впечатление. Правда, я остался при своем, но ушел с еще большей любовью к Ивану Михайловичу, чем шел к нему в дом со своим вопросом: «Как могли Вы читать лекцию?»
* * *
Еще на 1-м курсе Иван Михайлович говорил нам, что кафедра часто отгораживает профессора стеной от его слушателей. Он пригласил интересующихся его курсом прийти вечером побеседовать с ним на заинтересовавшие нас темы. В философской аудитории, где висел портрет Вл. Соловьева, собралось человек 8—10 студентов. Иван Михайлович пришел как всегда точно в назначенные 7 часов вечера. К сожалению, все мы робели, и нашему профессору не удалось расшевелить нас, как он ни старался, сам ставя перед нами вопросы.
Такие беседы, но уже при активном нашем участии, возобновились через несколько лет.
Темы семинариев Ивана Михайловича отличались той особенностью, что над ними работали по нескольку лет. Так, мы изучали трактат Данте «De Monarchia»¹, направленный против светской власти пап, привлекая все сочинения Данте, и комментарий к трактату превращался в большие самостоятельные исследования. Так, например, была исследована тема «Идея вечного мира». Сближению с Иваном Михайловичем содействовало и то, что мы занимались у него на дому, и, свободные от звонков, возвещавших о конце занятий, засиживались порой до позднего часа.
Постепенно из нас образовался кружок, который не распался и после окончания университета. Иван Михайлович в те годы был очень увлечен десятитомным романом «Жан Кристоф» Ромена Роллана. Он с большой любовью и тщательностью перевел эти 10 томов, естественно придав своему переводу особенности своего стиля, быть может, в некоторых случаях жертвуя точно-
¹ О монархии (лат.).
стью передачи. Этот перевод был им сделан без всякой мысли о возможности его напечатать. Много лет спустя, в году 1928— 1929, издательство «Время» предложило Ивану Михайловичу издать его труд. Этот план не был осуществлен: специалисты не одобрили мало популярный, трудный стиль переводчика17.
Кажется, в 1915 или 1916 году Иван Михайлович предложил нам (тогда еще никто не был знаком с «Жаном Кристофом»), изложить нам содержание этого романа с обильными выдержками из него.
Такие встречи наши за столом нашего padre длились два семестра. Иван Михайлович с изумительным мастерством осветил весь жизненный путь Жана Кристофа. Р. Роллан сумел заставить почувствовать и начало жизни, и ее конец исходящими из вечности и сливающимися с вечностью. Иван Михайлович читал с таким воодушевлением, что воссоздаваемые им образы и положения запечатлелись в моей памяти с большей силой, чем этого могла бы достигнуть и театральная сцена. В особенности мне запомнилось то место, когда Жан Кристоф на вопрос своего друга Оливье, что такое жизнь, отвечал: «Трагедия, ypa!» Это приятие жизни, со всей ее трагической сущностью было сродни и самому padre, хотя в его «ура» не могла звучать та нота вызова, которая присуща борцу Жану Кристофу.
Иван Михайлович, показав реалистическую, близкую Льву Толстому, основу творчества Р. Роллана показал и символическую его сторону. Героя романа (олицетворение жизненной силы) зовут Крафт — сила. Его друг, хрупкий и нежный Оливье — олива (дерево мира). Это мотив древнего французского эпоса: Ролланд (имя самого автора) — сила, Оливье — его друг, мир, насколько я помню, это припев, постоянно повторяющийся. Дядя Жана Кристофа, вносящий мир и гармонию, — Готфрид («Божий мир»). Незримый друг Жана Кристофа, бывший его добрым гением,—Грация (милость, благодать). Выходец из недр народа—Эммануил («С нами Бог»), т. е. Бог истории с сынами народа. И, наконец, молодое поколение: сын Оливье — Георгий (Победоносец) и дочь Грации—Аврора (Заря), сочетаются в брачном союзе. Эта символика получает свое завершение в эпилоге: святой Христофор переносит на своих плечах нарождающийся день новой эпохи, Ie jour, qui va naitre!¹
Мне впоследствии приходилось беседовать с рядом знатоков Р. Роллана и ни одному из них в голову не приходила эта символика имен18. Мне думается, что Иван Михайлович потому остановился на ней и раскрыл ее смысл, что прошел школу Данте и вообще Средневековья. Что-то роднило путь Жана Кристофа по кругам жизни с путем Данте, с той существенной разницей, что путь в «Божественной комедии» идет по правильной спира-
¹ День, который вот-вот родится (франц.).
17 Сведения о попытках Гревса применить результаты своего переводческого труда содержатся в его письме к П. С. Когану 1930 года. Ввиду важности этого письма для понимания личности И. М. Гревса приводим его текст полностью.
«Многоуважаемый Петр Семенович! С Вами говорил на днях о деле, о котором я сейчас пишу, Дмитрий Моисеевич Петрушевский, но я хотел бы изложить его подробнее. Когда издательство «Время» наметило в своем плане выпустить полное собрание сочинений Ромена Роллана, я предложил его редакторам использовать мой перевод романа его «Жан Кристоф», и они готовы были использовать его; но дело затягивалось, и на мой вопрос, как оно обстоит, мне ответили, что выбор переводчиков и вся редакция предпринимаемого издания поручена Вам самим Р. Ролланом. Сожалею, что издательство «Время» не предупредило меня раньше, чтобы я лично успел обратиться к Вам с предложением моего перевода; но, надеюсь, что, может быть, время еще не упущено. Мне особенно дорого было бы участие в переводе именно Jean Christophe, так как я очень сроднился с этим произведением; мне был несколько лет назад предоставлен перевод всего романа редакцией «Всемирной литературы» и мною были приготовлены шесть первых томов (L'Aube, Le Matin, L'Adolescent, La Revolte, La foire sur la place и Antoinette). Перевод был принят, но издание его не состоялось за прекращением самого предприятия. Конечно, мне было бы дорого, чтобы использован был и теперь этот перевод; но если эти тома уже поручены другим лицам, я настолько люблю эту вещь, что с радостью возьмусь за работу над дальнейшими томами или некоторыми из них (особенно дорожил бы последними двумя — Le buisson ardent и La nouvelte journee). Если Вы найдете возможным выделить для меня часть, какую найдете удобным, буду Вам душевно благодарен: я ищу литературного заработка в силу обстоятельств, но этот труд был бы совершенно свободно для меня желанным, полагаю, что я исполнил бы его удовлетворительно именно по сродству с автором в этом произведении.
Если, к моему огорчению, «Jean Christophe» уже вполне ускользнул от меня, то с искренним удовольствием возьмусь за другие вещи вообще любимого мною Роллана, именно за три биографии, за Clerambaut и за первые тома нового романа. Дмитрий Моисеевич говорил, что Вы находили возможным предложить мне его книгу о театре; не отказался бы и от этой книги, но, признаюсь, с меньшею готовностью: это, пожалуй, самая слабая вещь автора — так же, как его драмы. Если бы Вы предоставили мне хотя бы часть первых томов Jean Christophe, я бы усовершенствовал свой перевод, тщательно пересмотрев его (особенно дорожил бы первым—L'Aube и четвертым La Revolte); если дадите последние— с рвением примусь за новую работу. В свое время для «Всемирной литературы» я приготовил наполовину книгу о Ромене Роллане, что особенно помогло мне вжиться в его мысль и творчество.
Позвольте надеяться, что Вы отзоветесь чем-нибудь положительным на мое предложение: я буду с нетерпением ждать ответа от Вас. Искренне уважающий Вас Ив. Гревс. (...) (ЦГАЛИ СССР. Ф. 237. On. 1. Ед. хр. 34. Л. Л—2).
18 В работах советских литературоведов говорится о символическом значении имени Жана Кристофа. См. например: Рыкова Н. Я. Современная французская литература. Л., 1939. С. 195—196; Балахонов В. Е. Ромен Роллан и его время: «Жан Кристоф». Л., 1968. С. 52. (Отмечено Б. С. Кагановичем//Памятники культуры. Новые открытия. М., 1987. С. 69).
ли: в Inferno (ад - итал.), опускаясь до Коцита¹, в Purgatorio (чистилище – итал.), поднимаясь все выше и выше к звездам (pure e disposto a sallire al 1е stelle)²
И в «Жане Кристофе» тот же широчайший охват всей эпохи. Гуманизм (humana civilitas)³, столь свойственный нашему padre, также привлек его в Ромене Роллане. В тот год бушевала первая мировая война. Ненависть стала гражданской доблестью. Шовинизм охватил все круги общества. (Кроме широких народных масс19). Ученые всего мира переругивались в торжественных декларациях, объявляя себя защитниками цивилизации. Лишь Р. Роллан выступил в своем романе «Клерамбо» и в повести «Пьер и Люс», а в первую очередь в статьях «Au dessus de la melee»⁴ против проповеди ненависти. Русские ученые, также увлеченные общим потоком, послали немецким коллегам резкое осуждение. Это послание отказались подписать три профессора, насколько я помню, это были Петражицкий, Жижиленко (или Кареев) и Иван Михайлович20.
Тогда мы, его ученики, чтобы выразить нашу солидарность, поднесли ему портрет Ромена Роллана, который те из нас, что служили тогда в Публичной библиотеке, разыскали в каком-то современном французском журнале. Сейчас уже, вероятно, трудно понять, какое тогда требовалось мужество, чтобы отказаться дать свою подпись. Оставаясь в стороне от схватки, Иван Михайлович, однако, не был пораженцем. Он не верил, что в победоносной Германии может вспыхнуть революция, а торжество германского империализма считал величайшим бедствием человечества.
В личном начале он видел ценность и общественной жизни. Наш padre с особым интересом относился к проблемам любви, и, особенно, дружбы, которую он считал еще более ценной, чем любовь (amor, не caritas)⁵. В своем разборе «Жана Кристофа» он большое внимание уделил темам: «Кристоф и Оливье» и «Кристоф и Грация». Очень ценил Иван Михайлович дружбу между мужчиной и женщиной. Он полагал, что дружба содержательна и действенна тогда, когда друзья восполняют друг друга, а следовательно, когда они представляют собою различные индивидуальности. Отсюда и вытекает большая восполняемость в дружбе лиц разных полов.
Сам Иван Михайлович был очень богат в своей жизни дружбами. Дружба между ним, братьями Ольденбургами Ф. Ф. и С. Ф., Д. И. Шаховским, А. А. Корниловым и В. И. Вернадским, возник-
¹ Иван Михайлович всегда негодовал, когда при нем говорили, что «Inferno» много значительнее других частей «Божественной комедии». (Прим. Н. П. Анциферова.).
² Чистый и готовый к тому, чтобы подняться к звездам (итал.).
³ Гуманная гражданственность (лат.).
⁴ «Поверх барьера», (франц.).
⁵ Любовь, не благосклонность (лат.).
19 Ср.: Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны (1914—1917). Л., 1967. С. 56; Катков Г. М. Февральская революция/Под общ. ред. А. И. Солженицына. Париж, 1984. С. 87—88.
20 Упомянутое Н. П. осуждение было ответом на аналогичное «Воззвание немецких ученых», в котором «представители германской науки и искусства» (среди них были Л. Брентано, Ф. Клейн, Э. Мейер, А. Риль, В. Рентген, В. Вивдельбанд, В. Вунт и многие другие, еще недавно дорогие имена для их русских коллег) протестовали «перед всем культурным миром против лжи и клеветы, которыми наши враги стремятся запятнать чистое дело Германии в навязанной ей тяжелой борьбе за существование» и заверяли мир в том, что «доведут эту борьбу до конца, как народ культурный». Отвечая немцам, петербургские профессора (к ним присоединились ученые и из других городов) не только ужесточили «предъявляемые Германии обвинения в зверских способах ведения начатой ею войны», но и — явно не вчитываясь в слова оппонента — бурно возмутились тому, что — якобы — «вычеркивают нас, русских, из защитников европейской цивилизации». Дипломатичный ректор Э. Д. Гримм сообщал 20 ноября 1914 автору проекта воззвания о том, что «некоторые профессора Петроградского университета признали более целесообразным снять свои подписи» (ЦГИА Ленинграда. Ф. 14. On. 1. Ед. хр. 11027).
шая в годы студенчества, прошла через всю их жизнь и обрывалась лишь смертью.
Я любил быть свидетелем их встреч, слышать их «ты», их ласковую беседу. Ф. Ф. Ольденбурга я уже не застал. С. Ф. Ольденбург, Непременный секретарь Академии Наук, был самый младший в их среде и несколько отличался от остальных как своей внешностью, так и своим внутренним обликом. Он напоминал европейца своей изящно подстриженной бородкой, своими живыми манерами и той внутренней подвижностью, которая помогла ему так быстро приобщиться к советской эпохе, поверить в то, что это именно новая эпоха. Его друзья каждый по-своему принял революцию, в основном же они приняли ее как заслуженное возмездие за грехи старого режима. Все они напоминали своими длинными бородами и длинными волосами (но не до плеч) греческих философов. Мудрая ясность отражалась на их благородных лицах. Тип этих лиц исчезнет вместе с ними. Первыми его представителями у нас были: Герцен и Огарев. Друзья Гревса — последнее звено в этой цепи. Их «братство» зародилось в 80-х годах. Они втянули в него и своих жен, они мечтали совместно воспитать в своем духе и своих детей. Но... детей мы порождаем, а не творим. Сын Ольденбурга и сын Вернадского не пошли по стопам отцов. При всей взаимной любви между отцами и детьми здесь вскрылась непримиримость их общественных позиций: молодой Ольденбург и молодой Вернадский оказались в эмиграции21.
Всех друзей пережил В. И. Вернадский. Я любил изредка заходить к нему. Ясность его души, спокойная и твердая вера в торжество света и разума — трогали меня. Мне казалось, что направленность его ума на космические проблемы питала эту ясность духа. Мы часто вспоминали Ивана Михайловича. Как-то я принес Владимиру Ивановичу последние два портрета его умершего друга. Вернадский, сильно взволнованный, всматривался в его черты. Потом спросил, когда сделаны снимки, кем и где — и все пометил на обратной стороне. Затем, чтоб успокоиться, принял какое-то лекарство. Он рассказал мне о том, что ему удалось напасть на след Аллы — дочери подруги Екатерины Ивановны Гревс Фелии и оказать ей помощь22. Такова их дружеская традиция. Это была моя последняя встреча с последним из кружка И. М. Гревса. Вернадский умер через три дня.
Герцен писал, что у него оставалась «религия личности». Эта же «религия» досталась кружку Ивана Михайловича. История их дружбы, верю, дождется еще своего исследователя.
Итак, на наших вечерних встречах Иван Михайлович затронул темы любви и дружбы. Совершенно неожиданно они были горячо подхвачены остальными его учениками и дали материал для цикла докладов на зиму следующего года. Насколько помню, были прочтены доклады на следующие темы, посвященные дружбе и любви: Эпикур, Цицерон, Григорий и Василий Великий, Ав-
21 Более подробно об отношении «отцов и детей» к революции говорится в мемуарном фрагменте Н. П. «Отец и сын Ольденбурги»: «Октябрь они (т. е. старшее поколение. — Публ.) встретили как подлинную трагедию, но каждый из них по-своему осмыслил его. Д. И. Шаховской в письме к Ивану Михайловичу писал об этом. (Я переписал это письмо и хранил его в царскосельском архиве.) Главная его мысль была: «Возмездие», справедливое возмездие за грехи старой России, всех ее слоев, всех. Его (Шаховского. — Публ.) приятие Октября было с поникшею главой. Моя последняя беседа с ним была о Ромене Роллане, о его работах, посвященных Рамакришне, Вивекананде и Ганди...
Иначе врос в новую Россию С. Ф. Ольденбург. Этот индуист, подвижник науки, вызывавшей к себе какое-то благоговейное отношение, сделался активным участником культурной революции. Он не только «принял» [, но] и перешел «на другой берег».
Раз вечером в гостях у И. М. Гревса я встретил отца и сына Ольденбургов.
Сын, поражающий своей необычайной эрудицией, был мешковат, лишен той изящной элегантности, которая была свойственна его отцу, спорил с Сергеем Федоровичем о путях России. Он с горечью нападал на отца за его приятие Октября, даже за его деятельность; «Ты в качестве ученого секретаря Академии наук несешь ответственность за порабощение науки политикой». Сергей Федорович говорил: «Старый мир рухнул. Мы, любящие Россию, должны строить новый». Сын возражал: «Что можно сделать с большевиками?» И начал восхвалять непримиримого П. Б. Струве: «Ты, отец, недальновиден!». — «Но ведь история бьет и Струве, и тех, кто идет против Советов». — «Как ты можешь так говорить, где же твоя историческая перспектива? Еще ничто не кончилось. История продолжается. И только время покажет, кто прав — Ленин или Струве».
Я видел, что этот спор был очень горек и отцу, и сыну. Сыны бросали «насмешку горькую» «промотавшимся», как они полагали, отцам. Это [были] похороны русского либерализма.
О. А. Добиаш-Рождественская рассказывала мне о встрече в Париже с Ольденбургом-сыном. Она говорила о его озлобленности. В воспоминаниях сменившего вехи Любимова («На чужбине») я встретил очень правдивую и сравнительно верную и мягкую характеристику Сергея Сергеевича. Он оставался верен себе и там, на чужбине, сделался соратником Струве в его органе «Освобождение» (ОР ГПБ. Ф. 27. Ед. хр. [19] Л. 24—25).
22 Трагическая история спасения архива Гревса в блокадном Ленинграде А. В. Левдиковой изложена в статье разбиравшей часть этого архива, попавшую в ГПБ, С. О. Вяловой (Из истории рукописных и старопечатных собраний. Л., 1979. С. 140—141). См. также: Каганович Б. С. Воспоминания Н. П. Анциферова об И. М. Гревсе//Памятники истории. Новые открытия. М., 1987. С. 69.
густин и Нектарий, Франциск и Якоба де Сеттесолис, Данте и Беатриче, Микельанджело и Колонна, дружба йенских романтиков, Байрон и Шелли, Герцен и Огарев, Н. А. Герцен и А. И. Герцен, Маркс и Энгельс. Это был уход от трагической действительности тех лет. Своего рода «пир во время чумы», духовный пир — симпозион. Это могло произойти потому, что в тот год мы все были au dessus de la melee и в этом был и трагизм нашего положения.
Благодаря этому семинарию на дому мы сблизились с семьей Ивана Михайловича. Эта крепкая, любящая семья носила постоянный траур. Этот траур выражался не в черном крепе, а в том единении вокруг могилы рано умершей младшей дочери Шурочки, в том культе ее памяти, который постоянно ощущался в семье Гревсов.
Большой портрет Шурочки, написанный масляными красками, висел в их гостиной. Ясная девушка, улыбающаяся светлой улыбкой. Хотелось бы, чтобы этот портрет был написан акварелью или пастелью. Подруга Шурочки, Леля Нечаева, мне как-то сказала: «Думая о ней, вспоминаешь ту девушку Блока, что „пела в церковном хоре о всех уставших в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою"». И мне казалось, что и жена Ивана Михайловича, Мария Сергеевна, и дочь его Катя навсегда забыли «радость», храня память о Шурочке. Ивана Михайловича спасли его творческие научные интересы, способность любить друзей и многочисленных учеников, неиссякаемый интерес к жизни и, в особенности, глубокая и незыблемая вера.
Мне казалось, что весь смысл жизни и Марии Сергеевны, и Екатерины Ивановны сосредоточился на Иване Михайловиче. Это был культ, настоящий культ, нашедший свое полное выражение после его смерти, когда все его рукописи, все вещи стали неприкосновенной святыней.
В матери и дочери было много общего, но и существенная разница. Обе они были очень требовательны к людям, в особенности ко всему, что касалось Ивана Михайловича. Его друзья мне жаловались, что они порой очень осложняли взаимоотношения и даже портили их. Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская, ученица Гревса, самая талантливая и самая «удавшаяся», была большим другом своего учителя. Последние годы перед ее смертью их отношения осложнились идейными несогласиями, но та горечь, которая примешалась к этим несогласиям, была привнесена благодаря вмешательству родных Ивана Михайловича. Так, по крайней мере, утверждала Ольга Антоновна.
Мать и дочь были требовательны и к жизни. Высокая нравственная атмосфера, окружавшая Ивана Михайловича, питала эту требовательность, эту устремленность к идеальному. Обе они были мечтательницами с очень хрупкой душевной организацией, с большой утонченностью чувств. Все неделикатное, грубое — коробило
их. Я думаю, что они много страдали не только от реального, но и от кажущегося зла. При этом сходстве в них было и глубокое различие. Мария Сергеевна¹ была очень живая, подвижная, деятельная. Она была очень отзывчива, чутка. Благодаря своей доброте, она скрывала свои тяжелые душевные состояния и могла казаться веселой. Она считала своим долгом выражать сочувствие людям даже тогда, когда они были чужды, даже неприятны ей. Эта повышенность в выражении своих чувств кое-кому казалась затянутой, даже неискренней, но, в действительности, коренилась в ее доброжелательстве. Я знал ее сердечность, ее горячность, которые часто согревали и меня, и мою Таню. Она была крестной матерью моего Светика, который называл ее своей «крекой».
Было ли полное единство в браке Ивана Михайловича и Марии Сергеевны? Об этом судить даже самым близким людям очень трудно.
Полного единомыслия у них не было, мне казалось, что они не жили в одном мире. Это не умаляет силу их взаимной любви, силу их неразрывной, кровной связи, спаянности, закрепленной в течение целой жизни.
Екатерина Ивановна, как мне казалось, была ближе в своей душевной жизни, более единомысленна с отцом. Но в отличие от родителей она была замкнута, недоверчива. В ней меньше было доброты и отзывчивости. Она уходила в свой особый мир музыки. На ней лежала какая-то мрачная тень, от которой бывало тяжело ее родителям. Иван Михайлович нежно любил свою дочь и был всегда озабочен ее душевным состоянием. Я знал в Екатерине Ивановне какую-то особую мечтательность русской идеалистки, мечтательность, не убитую в ней теми разочарованиями, которые были неизбежны при ее требовательности и мнительности.
При всем своем различии они трое составляли удивительно целостную семью. Даже во всей обстановке их дома ощущалась эта цельность, единство вкуса, в котором, конечно, доминировал вкус Ивана Михайловича (мебель и ее расстановка, картины, фотографии — все это было их общее, во всех комнатах).
К ним со всех сторон тянулись люди. И коллеги по университету (Покровский, Пергамент, Д. Гримм) и историки (Лаппо-Данилевский, реже — Кареев), и студенты, и бытовые друзья (Вебер). Очень близка семье Гревсов была вдова Гизетти. Я встречал у них различных пригретых ими людей. Семья Гревсов редко проводила вечер без гостей. Прислуга у них была также членом семьи, глубоко преданным. Их гостиная никогда не напоминала салона, в ней не были обязательны «умные разговоры». Даже молчание — не походило на пролетающего тихого ангела.
¹ Мария Сергеевна — дочь известного деятеля эпохи реформ С. И. Зарудного, и сестра А. С. Зарудного, министра Временного правительства, одним из первых перешедшего на сторону советской власти. (Прим. Н. П. Анциферова.).
Молчание не стесняло. Мне всегда было уютно и просто; но как часто я ощущал какую-то особую грусть в этой семье. Я объяснял ее тенью, простертую над их жизнью памятью умершей Шурочки, и страхом перед возможными новыми утратами. И если сам Иван Михайлович вместе с Жаном Кристофом еще мог сказать: «La vie c'est la tragedie, hourra!»¹ — то это не могли повторить вслед за ним ни Мария Сергеевна, ни Екатерина Ивановна. В дом семьи Гревсов я входил как в отчий дом после всех крушений своей жизни: и после смерти детей в 1919 г., и после моего возвращения с кладбища, с могилы моей Тани, в 1933 г.
Иногда я ночевал в семье Гревсов. Мне стелила добрейшая Елизавета Ивановна (домработница, ставшая домоправительницей) на диване в кабинете Ивана Михайловича. Когда я просыпался, первое, что я видел,— это был padre за письменным столом. Широкий коричневый халат придавал какое-то спокойствие и свободу облику Ивана Михайловича. Как я любил его седую голову с таким ясным, мирным выражением, склоненную над четвертушками бумаги, которые он всегда не спеша заполнял своим «готическим» почерком. И мне всегда вспоминалось:
Как я люблю его спокойный вид,
Когда душой в минувшем погруженный
Он летопись свою ведет23.
Мне не приходилось задумываться, «о чем он пишет». Иван Михайлович работал над своим Тацитом (в последнюю главу этой книги он вложил так много своего, личного). Я молча созерцал его, не только потому, что я не смел оторвать его от работы, но и потому, что мне было так хорошо смотреть на него, на это светлое лицо, на этот вид спокойный, величавый. И хотелось, чтобы вот так было бы вечно. Между тем из своего коричневого домика выскакивала кукушка и говорила о том, что беспощадное время идет.
Выдающийся ученый, Иван Михайлович совершенно не заботился о печатании своих трудов. Ящики его большого стола были полны рукописями. Иван Михайлович работал с изумительной щедростью, лишенный малейшей корысти. Направленность его воли была в сторону учеников. Он был идеалом ученого-педагога. Эта черта привлекла Ивана Михайловича к работе в средней школе. Но жизнь не принесла ему урожая учеников, достойного его трудов и его любви. Правда, нынешний академик Косминский в Словаре писал об особой школе И. М. Гревса24.
Но эти ученики, выдающиеся ученые, не были душевно близки И. М. Гревсу. Блестящий Л. П. Карсавин в те годы отличался каким-то умственным сладострастием. Он не только любил тончайший анализ различных средневековых систем, изящные
¹ Жизнь — это трагедия, ypa! (франц.).
23 Мария Сергеевна — дочь известного деятеля эпохи реформ С. И. Зарудного, и сестра А. С. Зарудного, министра Временного правительства, одним из первых перешедшего на сторону советской власти. (Прим. Н. П. Анциферова.).
24 Вероятно, речь идет о статье Е. А. Косминского «Итоги изучения Средних веков в СССР за 20 лет» (Известия АН СССР. Серия 7. Отделение общественных наук. 1937. № 5), где на с. 1135 сказано: «В Ленинграде вокруг О. А. Добиаш-Рождественской и И. М. Гревса создалась целая школа», характерную черту которой он видит в историко-культурной и источниковедческой ориентации. (Обнаружено Б. С. Кагановичем. См. его указ. соч. С. 69).
построения своего изощренного ума, он любил ниспровергать принятое либеральной наукой. Так он отрицал и теорию прогресса, и прагматизм. Его религиозность носила оппозиционный духу позитивизма характер и имела яркую эстетическую окраску. Он хотел Божество видеть по ту сторону добра и зла. Эти тенденции сказались в более поздних его книгах: «Saligia» («Семь смертных грехов») и «Noctespetropolitanae»¹. Работы Карсавина — это «Мир искусства» в науке25.
Николай Петрович Оттокар с острым, трезвым, критическим умом был много реальнее в науке, чем его коллега. Его прежде всего влекло к точности, конкретности. Его специальностью стала история городов средневековья. Как и Карсавин, он отрицал теорию прогресса. Как Карсавин, он был эстет, ценивший прежде всего во всем форму. И в том, и в другом чувствовалась оппозиционность в отношении идеализма Ивана Михайловича, его гуманизма, его сосредоточенности на моральной стороне человека, его интереса к личности, к выдающейся личности как выразительнице культуры. Лев Платонович создал особую теорию «среднего человека» как такое построение исследователя, через которое познается эпоха. Николай Петрович сосредоточил свое внимание на конкретном выражении исторических процессов и мало уделял внимания личности. Оба они в равной мере были чужды как идеализму, так и материализму. Отрицая прагматизм, разрушая причинно-следственные связи, они снимали самый вопрос о базе и надстройке. Для них и идеализм, и материализм были лишь методом; эпоху можно изучать, начиная с познания идей (идеализм) или с познания экономических основ (материализм), это безразлично, так как ни та, ни другие не являются причинами, порождающими те или иные исторические явления.
Отношения с этими учениками слагались тяжело для Ивана Михайловича, это были его блудные сыновья. Как я уже писал, отношения с Ольгой Антоновной сложились много лучше. Она была ближе всего по духу Ивану Михайловичу из всех его учеников старшего поколения. Ближе Ивану Михайловичу было мое поколение, а также его «внуки» (ученики Ольги Антоновны). Но из нас не нашлось никого, кто продолжил бы его дело. (Кроме Хоментовской, да и она больше занималась Ренессансом). Его ученик Н. Н. Розенталь не пошел по следам своего учителя26.
Жизнь каждого из нас, как студентов, так и курсисток, увела далеко в сторону от медиевистики.
Во всем этом был трагизм ученого-педагога, который так многим жертвовал в качестве ученого для своей работы педагога, который хотел в учениках видеть продолжателей своей научной линии, завершителей начатых им, но не законченных трудов.
¹ Петербургские ночи (лат.).
25 Возможно, Н. П., отчасти по незнакомству с поздним творчеством Карсавина, высланного в 1922 из СССР, несколько его недооценивает. О значении идей этого мыслителя для становления современной культурологии и продолжения «соловьевской линии в русской философии» см. статью Сергея Хоружего (Литературная газета. 1989, 22 февраля. С. 5). Полное название первой из упомянутых Н. П. работ Карсавина — «Saligia, или Весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах» (Пг., 1919).
26 Отступничество Н. Н. Розенталя наиболее ярко проявилось в начале 1931 во время шумной дискуссии по докладам Г. С. Зайделя и М. М. Цвибака (Классовый враг на историческом фронте. М.: Л., 1931), но носило сложный и противоречивый характер. Розенталь присоединился к нападкам на Тарле, но робко попытался отразить методологическую критику против себя самого. После дискуссии он продолжал «разоружаться»: отрекся от своей книги о Юлиане-Отступнике (1923) и ряда последующих, выступил против «врагов марксизма», но либо уже мертвых, либо арестованных. Гревса Розенталь ни в этом ряду, ни в положительном смысле не упомянул, в отличие от С. Н. Валка, попытавшегося защитить доброе имя своего покойного учителя А. С. Лаппо-Данилевского. Предвидя возможные обвинения в двурушничестве, Розенталь писал: «Если в отношении к нашим классовым врагам у меня нет надлежащей большевистской ненависти, то это объясняется отнюдь не моими принципиальными колебаниями, но лишь пережитками буржуазно-интеллигентской психологии <...>, в условиях конкретно-практической деятельности мне легче любить, чем ненавидеть».
Глава III. Студенческие сходки
[Глава III.]
СТУДЕНЧЕСКИЕ СХОДКИ
Академическое затишье 1909 г. волновало меня — первокурсника. Я ждал политических событий, которые встряхнули бы студенчество. Прошлый академический год (1908—1909) был бурным. Насколько я помню, волнения были связаны с вопросом о вольнослушательницах-студентках, которых Шварц изгонял из университета. Я разделял веру большинства студентов в особое наше призвание. Университет — авангард учащейся молодежи. Он должен быть тем очагом, в котором всегда тлеет огонь революции. Мы, студенты, должны всегда протестовать против всяких нарушений справедливости. Мы, студенты, должны всегда стоять за правду. Традиции протестов завещаны нам еще шестидесятыми годами, завещаны революционными демократами.
Осень 1909 года, казалось, не сулила никаких событий. Вспоминались слова Саши Черного: «Где событья нашей жизни, кроме насморка и блох»27. Однако ждать мне не пришлось долго. Я сидел в лаборатории и терпеливо окрашивал клеточку в гема-токсилин цвета сольферино. Препарат был уже готов: толстое продолговатое стекло осторожно прикрыто тоненьким квадратиком, который прижимал клеточку. Оставалось вложить его в микроскоп и зарисовать в толстой тетради. Вкус к биологии — это родовая черта Анциферовых, Сибирцевых, Курбатовых. Я отдавал ей между делом скупую дань. Внезапно в лабораторию ворвалось несколько студентов: «Товарищи, все на сходку!» Дрожащими от радостного возбуждения руками я сложил препараты и выбежал в бесконечный университетский коридор, быстро заполнившийся студентами. У дверей актового зала — водоворот из студенческих голов. Слышны вопросы: «Почему сходка?», «Что случилось?» Но ответов не было.
Наш огромный актовый зал окружен как перистиль со всех четырех сторон колоннадой. На белой трибуне три студента — президиум сходки. Это были: товарищ Генрих (Ризель), эсер, Кузьмин-Караваев и Лозина-Лозинский (оба, кажется, эсдеки).
Ораторы один за другим сообщали нам о преступлении испанского короля Альфонса XIII. Им без суда был казнен свободный мыслитель Фердинанд Феррер.
Принятая нами резолюция «клеймила позором преступней-шего из монархов». Она была нами послана прямо испанскому послу.
Мне запомнились эти лохматые головы, расстегнутые тужурки поверх косовороток, горящие глаза... Ведь мы же совесть всего человечества!
Каково же было наше негодование, когда разнеслась весть, что президиум нашей сходки исключен! Все три студента были перечислены в разряд вольнослушателей. И кем же? Нашими же профессорами! Студенчество должно немедленно протестовать
27 Ст. 29—30 из стихотворения Саши Черного «Ламентации» («Хорошо при свете лампы...»).
против столь недостойных действий нашей профессуры. На трибуне товарищ Антон (кажется, эсдек), с откинутыми назад длинными черными волосами, с правильными чертами нерусского лица (помнится, он был из молдаван). Он клеймил позором действия профессоров. Он с презрением говорил о «мелкой профессорской душонке», которая неспособна понять нашего «священного гнева». На защиту профессоров выступали кадеты Подши-бякин и Шецкий, корректные, прекрасные ораторы, оба аккуратно выбритые, одетые в штатское. Но их речи не вызывали симпатий студенчества. Эти «кадеты» были нам чужие. Все же речь нашего лидера т. Антона смутила меня. Тут что-то не так. Я не мог согласиться с тем, что у наших профессоров «мелкая душонка». Надо поговорить с кем-нибудь из них. Надо узнать, чем вызвана столь несправедливая мера. Я спустился вниз и стал поджидать, когда мимо пройдет один из уважаемых мною профессоров. Первым шел величественный Кареев. Я подошел к нему. Н. И. Кареев улыбнулся, взял меня под руку, отвел, смущенного, в сторону и усадил с собой рядом на скамейку.
«Я один из тех, — начал он, — кто вынес этот столь возмутивший вас приговор. Понимаете ли, отдаете ли вы себе отчет в том, что вы наделали, отправив вашу резолюцию в испанское посольство?! Да еще с такими словами: «преступнейшего из монархов...» Посол сейчас же перепроводил жалобу в министерство иностранных дел. А оттуда жалоба передана в министерство внутренних дел. Все это стало нам известно. Как спасти ваш президиум? Вот какой вопрос встал перед вашими профессорами. Спасти можно было одним путем — самим взять на себя наказание виновных. Мы избрали самое слабое — перечислить их в вольнослушатели. Ваши пострадавшие смогут сдавать все экзамены, а через год снова будут зачислены в действительные студенты. Когда министерство внутренних дел затребовало от ректора объяснение, он мог ответить, что члены президиума уже наказаны: они исключены. Тем дело и кончилось. Если бы мы не приняли своих мер, ваши товарищи были бы арестованы и сосланы. Жаль, что среди студентов мало таких праведников, как Вы: прежде чем нас ругать, объявлять забастовку против наших действий — сделать то, что сделали Вы — выслушать нас»28.
Участь всех трех членов президиума мне известна. Товарищ Генрих, внешне замороженный, страстный, с худым лицом, скуластый, коротко остриженный, в поношенном форменном сюртуке стоял во главе студенческого движения того семестра. В середине декабря мы были потрясены известием — т. Генрих отравился. Его труп был найден в стенах университета. Что заставило т. Генриха принять цианистый калий? Ходили темные слухи. Демагоги утверждали, что это был его ответ на мероприятие профессуры. Это, конечно, вздор: какое значение могло иметь для этого одаренного студента перечисление его в вольнослушатели? Говорили, что он запутался в любовных делах. Был и та-
28 Сохранившиеся документы дополняют картину, нарисованную Н. П. Студенческая сходка протеста против казни Ф. Феррера состоялась 3 октября 1909. В принятой на ней резолюции подчеркивалось: «Мы, русские, видевшие в течение нескольких веков в своей родине науку и литературу на скамье подсудимых, ежедневно считающие жертвы военно-судебных беззаконий, сильнее кого-нибудь другого охвачены чувством негодования». Отвечая на последовавшие запросы градоначальника и попечителя учебного округа, ректор И. И. Боргман настаивал на том, что ни текст резолюции, ни имена организаторов сходки (ими была подписана резолюция) не были известны администрации университета вплоть до получения 10 октября ее подлинника от поверенного в делах Испании, который в частном письме к ректору просил вернуть этот документ подписавшим его, «так как адреса их ему неизвестны». Описывая события 3 октября в объяснениях по начальству, ректор стремится отвести от себя ответственность за происшедшее и, вместе с тем, смягчить угрозу, нависшую над студентами.
В состав учрежденного еще в 1902 профессорского дисциплинарного суда на момент описываемых событий входили: М. М. Ковалевский (председатель), В. В. Бартольд, Н. И. Кареев, П. А. Лавров и М. Я. Пергамент (секретарь). На разбирательство 19 октября подсудимые не явились. Им вменялось в вину «руководительство (...) собранием (...), постановившим резолюцию совершенно неакадемического характера (...), на каковое собрание вопреки правилам не было испрошено (...) разрешения», «крайне бестактное обращение к представителю одной из иностранных держав, вопреки элементарным требованиям международного права» и неявка в суд. Приговором суда руководители сходки были переведены в вольнослушатели до конца текущего семестра с правом на новое зачисление и зачет занятий. Несмотря на мягкость этого решения, события пошли по нарастающей. 6 ноября в университете появился призыв полулегально действовавшего Организационного комитета студентов (далее — ОК; большинство в нем было за представителями левых партий) на назначенную на следующий день сходку, необходимость которой мотивировалась «желанием нашей либеральной профессуры наконец покончить со свободным Университетом».
В полдень 7 ноября сходка началась. Гримм, сообщив о событиях по телефону в градоначальство, отправился в Актовый зал уговаривать студентов разойтись. «Когда лица, руководившие сходкой и проректору неизвестные, хотели предложить на решение сходки вопрос, может ли проректор говорить вне очереди, проректор заявил президиуму, что он никакого голосования по этому вопросу допустить не может, т. к. имеет право и обязанность говорить, и ввиду встречаемых им препятствий возлагает на президиум нравственную обязанность передать участникам сходки его предложение разойтись, возлагая всю ответственность за все последующее на руководителей собрания». Возвратившись, Гримм сообщил о своих действиях градоначальнику, который ответил, что вынужден приказать полицейскому наряду войти в помещение университета и прекратить собрание.
Через полчаса после начала сходки сотня городовых во главе с полицейским приставом и несколькими офицерами вошла в здание и остановилась на площадке перед залом. Пристав, проследовавший к месту президиума, предложил собравшимся разойтись, что и было исполнено, после чего полиция удалилась. Никаких столкновений не произошло, но после удаления полиции зал опять наполнился некоторым количеством студентов, хотя и меньшим, «группы студентов входили и выходили». Так продолжалось до двух часов дня, когда зал заперли.
На следующий день появилось обращение О К, в котором «в ответ на мероприятия профессуры <...), следующей указаниям правительства Столыпина и Шварца, (...) ведущей университет от автономии к установлению неограниченного господства профессорской коллегии над разрозненным студенчеством, превращая его в желательный для Шварца „полицейский храм науки"», студенчество призывалось к немедленному созданию выборного представительства как «организационного центра в борьбе за свободный университет». Окончание этого обращения было выдержано в еще более взвинченных тонах: от возгласа «городовой в актовом зале» следовал переход к утверждениям о том, что «финал сходки 7 ноября — дело рук профессуры, вломилась ли полиция по ее приглашению или вопреки ее воле <...). В первом случае профессора откровенно выявили свою «истинно одесскую натуру», во втором — сыграли роль провокатора, толкнули студенчество на путь осуществления явочного порядка», «сознательно вели нас в полицейские лапы» и т. п.
В тот же день появилась и листовка академистов. В отличие от гектографированного обращения ОК, она была исполнена типографским способом. Сторонники «чистой науки» обвиняли ОК, собравший сходку, в политиканстве и насилии, посягательстве на студенческую свободу, требовали дисциплинарного суда над руководителями сходки. «Левые политические партии, — писали академисты, — видят, что их престиж в Университете падает с каждым днем. Разве не из их среды в прошлом вышли Азефы и Гартинги <...>. Они гибнут и хотят в своей гибели увлечь остальное студенчество».
Несмотря на этот накал страстей, 13 ноября ректор все еще писал градоначальнику, что «сведений о составе призидиума» ни у него, «ни у проректора не имеется». Вероятно, с целью успокоения было разрешено по прошению студента И. А. Мануйлова и «частное собрание студентов» 19 ноября с повесткой дня: 1) о студентах-посредниках; 2) о легализации землячеств вне стен университета. Не бывший, видимо, на сходке проректор Гримм оценивал численность собрания в 1200—1300 чел. и писал в рапорте ректору, что «каких-либо заявлений, потребовавших бы вмешательства в ход собрания, сделано не было; содержание резолюций пока неизвестно». Однако на следующий день все стало изестно из газет. Кадетская «Речь» холодно сообщала, что «принята резолюция левых групп»: вручить функции студенческого представительства ОК и поручить ему к 1 февраля разработать положение о студенческом представительстве; присутствовало свыше 2000 человек. «Новое время» писало о том же с нескрываемой враждебностью к студентам. «Современное слово» сдержанно ликовало по поводу «первой разрешенной сходки в текущем учебном году», а крайне правая «Земщина» утверждала, что «громадное большинство лиц в штатских платьях и курсисток, по-видимому, евреек, провела в президиум «своих», и (...) сходка обратилась в революционный митинг» и резко обрушивалась на профессуру, которая «ничего не сделала для ограждения интересов студентов (...) от иудеев и курсисток». Наиболее подробный отчет о сходке поместила левая «Новая Русь». Она оценивала число присутствующих в 3000 человек, излагала содержание доклада тов. Генриха, упоминала о речах кадетов Подшибякина и Шецкого, беспартийного Богаевского, пересказывала речь студента Аполлонова, говорившего об истории студенческого движения с 1905 и припоминавшего Гримму, как тот, избираясь в прошлом году проректором, ратовал за студенческое представительство в совете профессоров и грозил отставкой в случае антиавтономистских шагов министерства. Та же газета с возмущением отвечала, что «академисты» и «союзники» превратили своими изданиями университетский буфет в чайную «Союза русского народа». Итак, на сходке 19 ноября было выражено доверие ОК, осуждено решение дисциплинарного суда, а вопрос о легализации землячеств решено было рассмотреть уже при существовании выборного центрального органа студентов.
Подводя итоги происшедшему, товарищ министра народного просвещения 25 ноября т. г. предложил попечителю «указать начальству Университета, что (...) на начальстве учебных заведений лежит обязанность лично или через надлежаще уполномоченных на это лиц быть постоянно осведомленными о всем происходящем на собрании, тем более, что в данном случае собрание было разрешено проректором» (ЦГИА Ленинграда. Ф. 14. On. 1. Ед. хр. 10294).
кой слух: т. Генрих был агентом Третьего отделения и не вынес двойной роли. Смерть его так и осталась тайной29. А. К. Лозина-Лозинский, «мятежный», искавший «бурь», погружавшийся в тот «страшный мир», который открыл Блок. Он был поэт, много скитавшийся по свету, оставивший сборник стихов, в заглавие которого входило слово «Скитальчество», и также покончивший с собою30. Путь третьего, Кузьмина-Караваева, был иным. Он все правел. В 1922 году был выслан из СССР вместе с целой группой лиц, принял католичество и, по слухам, стал папским нунцием31.
Весь первый семестр студенчество бурлило, хотя никаких крупных событий не было. Профессор В. Н. Сперанский, блистательный оратор, собирал аудиторию со всех факультетов. Слушали его в актовом зале. Пленяла не только его изящная, образная речь, но и смелость суждений. Раз на лекции было почему-то шумно. Разговор, вели две из уцелевших в университете вольнослушательниц. Вокруг них завязался спор. Сперанский прервал лекцию и, обратившись к нарушителям порядка, сказал: «Я очень жалею, что не все вольнослушательницы удалены из университета. Им здесь явно не место!» Эти слова профессора (впрочем, он, кажется, был доцентом) вызвали бурю негодования. Правда, Сперанского не выгнали, как когда-то Малова из университета. Не преследовали его и криками на улице. Была созвана новая сходка. От профессора потребовали извинения. Сперанский, торжественный, похожий на трагического актера, объяснился с вольнослушательницами, и инцидент был исчерпан32.
Были еще сходки в связи с выборами в какие-то студенческие организации, но я не припомню, в какие. Совета старост в мое время уже не было. Выборы были партийные. С грустью вижу, как мне изменяет память. И я не могу описать эту горячую партийную борьбу вокруг выборов. Не помню, в чем обвиняли друг друга, разные партии, что они сулили студенчеству. Масса шла к социалистам трех группировок (эсеры, большевики, меньшевики). Помню, что больше всего голосов собрали тогда эсеры33.
Среди эсдеков был т. Аполлон. Не помню, большевик он был или меньшевик. Это был высокий тонкий студент, с длинными волосами и русой бородкой. Он носил русскую рубаху, прикрытую широко распахнутой поношенной тужуркой. Товарищ Аполлон махал руками, когда произносил свои горячие речи. Говорили, что он в университете уже 18 лет. Его много раз ссылали, много раз исключали, но он по отбытии срока — вновь и вновь в нашем университете. Он — неизменный председатель сходок на трибуне актового зала34.
На крайнем правом фланге был хромой Шенкен, «господин Шенкен», как его называли на сходках. Это был Квазимодо, с каркающим голосом, с безобразным ртом. Он ходил, опираясь на костыль. Рассказывали, что в прошлом году этим костылем
29 В. Н. Ризель покончил с собой 11 декабря 1909. В извещении ОК по этому поводу он характеризовался как стойкий борец за светлые идеалы.
В августе 1911 года начальник Петербургского губернского жандармского управления зачем-то запрашивал в университете сведения о самоубийстве Ризеля, требуя при этом его документы и фотокарточки. Первое требование было удовлетворено, а остальные не могли быть выполнены, т. к. еще 17 декабря 1909 вдова покойного вольнослушательница университета Н. Г. Ризель (урожд. Бернштейн) забрала из канцелярии все его документы.
30 А. К. Лозина-Лозинский был давним участником студенческого движения. В своей брошюре «Смерть призраков (Надгробное слово над последними событиями в С.-Петербургском университете)» (Спб., 1908) он анализирует причины поражения студенческой стачки, рассматривает эволюцию студенчества «от марксизма к футболизму», показывает, как университетский «социализм» из реальности «превратился в призрак, а из призрака в прах». Итоги поражения студенческой стачки заставляют его сделать вывод о поражении революции и необходимости дальнейшей борьбы.
Т. к. во время первого заседания профессорского дисциплинарного суда по делу о студенческом протесте против казни Феррера Лозина-Лозинский был болен, то ему было посвящено отдельное — 28 октября 1909. С него он удалился, т. к. ему не разрешили сделать заявление о мотивах отказа от показаний. 2 ноября т. г. он неудачно покушался на самоубийство.
Упомянутый Н. П. поэтический сборник назывался: «Одиночество. Капри и Неаполь: Случайные записи шатуна по свету» (Пг., 1916).
31 Лидер думских правых В. М. Пуришкевич в своей скандальной речи в марте 1910 (о ней подробно в прим. 41) говорил о Д. В. Кузьмине-Караваеве: «Известный студент без срока К.-К. поступил в университет в 1904—Публ.), сын члена Второй Государственной думы, Кузьмин-Караваев, как только начиналась пора смуты, посещал все высшие учебные заведения, распропагандировывая студенчество, ибо он обладал ораторским талантом. Теперь он также принадлежит к числу тех, которые в силу обстоятельств должны были покуситься на самоубийство, но неудачно, к сожалению» (ЦГИА Ленинграда. Ф. 14. Ок. 1 Ед. хр. 10294. Л. 23). Других данных о суицидной попытке К.-К. мы не обнаружили.
32 Существует несколько иная версия этого эпизода со Сперанским: согласно ей он «по поводу выхода из аудитории во время его лекции одной вольнослушательницы заявил, что вольнослушательницы, ревностно добивавшиеся оставления в университете, не оправдали надежд, возлагавшихся на них профессорами относительно их научной работоспособности». Вопрос об этом был снят с обсуждения на сходке 19 ноября 1909 (она была посвящена не только ему—см. прим. 28), т. к., по сообщению вольнослушательниц, Сперанский «взял свои слова обратно, заявив, что сказал их в состоянии аффекта» (Речь, 20 ноября).
Упомянутый выше в тексте Н. П. профессор М. Я. Малов был изгнан студентами этико-политического (юридического) отделения из аудитории Московского университета 16 марта 1831 за грубость в адрес слушателей. Впоследствии он был уволен, понесли наказание и студенты. К этому событию были прикосновенны М. Ю. Лермонтов (отголоски в стихотворении «Послушай! вспомни обо мне...») и А. И. Герцен («Былое и думы», часть первая, гл. VI).
33 Речь, по-видимому, идет о сходке 12 февраля 1910, на которой выбирали «студентов-посредников» вместо распущенного администрацией Совета старост. По оценке Пуришкевича (в его цитированной выше речи в Думе): «Эсеры вырвали инициативу у всех партий в университете».
34 «Товарищ Аполлон» (Н. В. Аполлонов) был в университете не 18 лет, а 11 (с 1899). Источник этого переувеличения—утверждения Пуришкевича и креатур последнего — академистов. «Нужно ли вам говорить, что товарищ Аполлон — жид», — кричал Пуришкевич с думской трибуны под возмущенные возгласы слева. В описываемое время Аполлонов был большевиком.
он разбил в актовом зале окно, чтобы дать знать полиции о необходимости вторгнуться в университет.
Шенкен был лидером академистов. Впрочем, академисты делились на две группы. Их лозунг был: «Университет для науки, в нем нет места для политики». Однако лишь одна бесцветная группа академистов твердо проводила эту линию. В их витрине, висевшей в простенке при входе в наш коридор, был выставлен их гимн:
Вперед, академисты,
Вперед за университет,
За храм науки чистой,
Вперед, академисты.
Эти академисты всячески отгораживались от тех, вождем которых был воинствующий Шенкен. «Господин Шенкен» не для науки был в университете. Говорили, что он не может расстаться со своей alma mater уже 12 лет. Его группа была тесно связана с правыми партиями Государственной думы. Своеобразие Шенкена состояло в том, что он был по-своему «демократ». Он терпеть не мог «белоподкладочников», которых было немало в его группе. В темной голове Шенкена бродила идея «народного царя», который порвет связь с дворянством и буржуазией и признает крестьянство основой своей державы. Среди сторонников Шенкена я с грустью узнал Петю Нарышкина, товарища моих детских игр в Крыму. И не возобновил с ним знакомства.
Была еще группа беспартийных, также выставлявшая своих кандидатов. Их вождем бьи превосходный оратор Митрофан Богаевский. Впоследствии этот Богаевский сделался идейным вдохновителем белого движения донского казачества и был расстрелян красными. «Беспартийный» не значило «академист». Богаевский был в те годы за участие студенчества в общественной борьбе, но он не хотел себя связывать партийными узами. Очень смуглый, с несколько глухим голосом, внешне сдержанный и внутренне страстный, он имел большое влияние на студенческую массу, очень разнохарактерную и не всегда устойчивую.
Именно эта особенность сказалась много позднее. Тогда, несмотря на партийную борьбу, мне студенчество казалось цельным, способным стать авангардом революции, идти впереди рабочих. Академисты, думалось мне, случайное явление, нездоровый нарост, созданный реакцией. Эту мнимую цельность я особенно ярко ощутил на сходке, созванной в связи со смертью Муромцева35 (веря в близость революции, я все еще надеялся увидеть его на посту президента российской республики). Тогда все партии высказались за посылку делегации в Москву на похороны первого председателя Государственной думы, «Думы народного гнева». Когда т. Аполлон объявил: «Слово предоставляется товарищу Шенкену», — раздались свист и протесты.
35 С. А. Муромцев умер б октября 1910.
«Товарищи, это lapsus lingvae¹, но все же выслушаем сегодня и господина Шенкена». Ко всеобщему удивлению, лидер правых присоединился к общей резолюции. Аполлон улыбался, зная, с чем выступит Шенкен. Странное впечатление произвело выступление т. Лихтермана. Он все порывался объявить студенчеству, что «фракция народной свободы, к которой он имеет честь принадлежать», посылает его в Москву возложить венок на могилу Муромцева. «Это частное дело Вашей фракции и не имеет отношения к сходке, выражающей волю всего студенчества», — заявил, презрительно махнув рукой, Аполлон. Об этом Лихтермане мне еще придется писать.
Волнения 1909—1910 годов были мертвой зыбью после бурь предшествующих лет. Гораздо серьезнее было студенческое движение 1910—1911 годов, названное нами «студенческой революцией»...
Как громом поразила нас весть об уходе Л. Н. Толстого из Ясной Поляны. Это был очистительный гром, какой бывает в душные летние дни. Противоречие между учением великого человека и его жизнью всегда смущало меня, как и многих других. И этот порыв старца положить конец многолетнему разладу, покончить с жизнью, чтобы начать житие — радостно взволновал, поднял веру в лучшие силы человека. Вслед за телеграммой об уходе — известие о болезни, весть о смерти. Это была кончина праведника, очистившая атмосферу тех лет.
Смерть Льва Толстого вызвала новый подъем студенчества. Я не видал еще столь многолюдной сходки. Актовый зал был переполнен, все двери открыты, коридор, площадка, лестница — все было заполнено студентами. Профессор Овсянико-Куликов-ский хорошо сказал: «Смерть его показала созревшее единство человечества. Говорили раньше «в доме покойник», мы можем сказать — «в мире покойник». Это можем сказать впервые».
На трибуне тов. Карл (латыш или эстонец, эсер). Он напомнил нам слова умиравшего «"Вы об одном рабе Божием Льве думаете, а ведь миллионы страдают", — слышите, товарищи, миллионы страдают. Отдадим свои силы, свою жизнь, чтобы стало легче жить этим миллионам». Сходка кончилась. Все пели «вечная память». В этом году мы, студенты, пели в третий раз так. Пели, когда умерла В. Ф. Комиссаржевская36, пели, когда умер Муромцев. Кто-то сказал с печалью: «Ведь это гимн русской интеллигенции нашего времени».
Но всем казалось, что нельзя, пропев «вечную память» Толстому, без дела разойтись по домам. Перед университетом — толпа студентов... Кто-то лезет на фонарь. Он кричит, но слов его не слышно. «Тише, товарищи, это Мясоедов!» Наступила тишина. «Товарищи, лучшим памятником Толстому — отмена смертной
¹ Оговорка (лат.).
36 В. Ф. Комиссаржевская умерла 11 февраля 1910. Откликаясь на ее смерть, современница и впоследствии знакомая Н. П., курсистка А. А. Знаменская писала своей сестре: «Как светло было на душе, соприкасаясь с этой высшей духовностью, воплощенной в страдающей и любимой Вере Федоровне. <...) Как умела она войти в жизнь маленьких людей. Для барышни, служащей в каком-то обществе кредита, она была ярким лучом, который согревал душу и придавал мужества жить в обыденщине» (ОР ГПБ. Ф. 1088. Ед. хр. 116. Л. 1боб., 37).
казни. Вот наш лозунг. Идемте с этим лозунгом к Синоду и к Сенату. Это были враги Толстого». И мы пошли. Настала тишина. Мы шли через Исаакиевский мост к двум торжественным зданиям, соединенным аркой, туда, где на скале возвышался Медный всадник. Мы шли к той площади, где впервые русские люди вышли на борьбу за свободу.
Демонстранты, охваченные скорбью, прошли молча. Единственный крик был: «Долой смертную казнь!» Тогда верили все в безусловность этого лозунга. Это не было требование слабых, желавших вырвать карающий меч у своего врага, это был категорический императив. После демонстрации я прямо отправился на Николаевский вокзал. В числе нескольких товарищей я был послан киевским землячеством на похороны Толстого.
Помню вагон, верхняя полка. Я думаю о ребенке-Толстом, который любил свое тело в мыльной воде корыта, который предчувствовал, сидя с братом под одеялом (муравейные братья), счастье всех людей, о зеленой палочке, символе этого всечеловеческого счастья. Умирая, Толстой завещал похоронить себя в роще, где в дни его детства была закопана зеленая палочка.
В Туле нас взволновало известие: похороны сегодня. Правительство, испуганное общественным движением, торопится зарыть в землю Толстого. Члены Думы, писатели, не дожидаясь поезда, сели в автомобили и помчались прямо в Ясную Поляну. Мы, студенты, не имея средств на это, сидя на Тульском вокзале, теряли время, ожидая поезда, который довезет нас до ст. Засеки. От станции до Ясной Поляны шли пешком. Уже стемнело. Перед усадьбой мы встретили конных черкесов. Их вид вызвал негодование. «Это проделки Софьи Андреевны!» Отношение к ней у студентов и курсисток было резко отрицательное, к ней и ко всем детям, кроме дочери Александры. В усадьбе мы узнали, что похороны уже состоялись. Мы встречали возвращающихся от могилы. Среди них был и В. Г. Короленко. У могилы — горы венков. Нет ни креста, нет и кладбища — лесная опушка. Свет факелов. Один из венков — из темно-красных роз. А лента была красная. Венок этот возложил студент Психоневрологического института, мне запомнилось его трагическое лицо. Он мне показался здесь лишним. Вскоре имя его облетело студенческие круги. Он был разоблачен как провокатор. Это имя я не запомнил.
На следующий день семья покойного допустила нас к осмотру дома. Комнаты показывала нам Татьяна Львовна, на глаза ее наворачивались слезы... Говорила она с трудом, сдерживая подступающие рыдания. Сквозь открытую дверь одной из комнат была видна группа членов семьи, игравшая в карты...
В поезде, на обратном пути, не умолкали споры. Некоторые из студентов побывали в Телятниках у Черткова. Большинство резко осуждало семью Толстого, в особенности Софью Андреевну. Она всю жизнь была обузою Толстого, она ме-
шала ему жить по совести, она вызвала бегство его, она — виновница его смерти. И вот теперь, у свежей могилы — игра в карты!
Я не мог согласиться с этим всеобщим осуждением. Вспоминались слова ап. Павла: «Неоженившийся печется о Боге, как угодить Богу, оженившийся печется о том, как угодить жене»37. Не во всем прав Сократ, не во всем виновна Ксантиппа! И сам Толстой, раб Божий Лев, стал мне дороже от этого, тяготившего всю его обновленную жизнь, конфликта между любовью к семье, к дому и к своим ученикам, — дороже тем, что он не стал «толстовцем». И этот конец его, этот уход, повлекший смерть, все искупил, увенчал Толстого терновым венцом.
В Петербурге нас ожидали чрезвычайные известия. В университете происходила сходка учащихся всех высших учебных заведений столицы. На Невском — демонстрации. Полиция и казаки разгоняли студентов и курсисток. Однако движение наше не поддержали рабочие. «Народ безмолвствовал»38.
И все же наше движение получило неожиданный отклик далеко в Сибири, в Акатуе, на каторге. Политические, узнав о нем, начали волноваться. Они откликнулись на новый подъем требованием изменения тюремного режима. Последовали репрессии. В знак протеста Сазонов (убийца Плеве) покончил с собою.
Это известие вызвало новую волну студенческого движения. Помню, с каким волнением я ожидал сходки. Мне казалось, студенчество покроет себя несмываемым позором и навсегда утеряет право считать себя авангардом революции, совестью человечества. Опасения мои были лишены основания. Сходка собралась чрезвычайно многолюдная и прошла с большим подъемом. Открыл ее никому не известный товарищ Борис, произнесший ярко революционную речь. Мне запомнилась фраза: «По обоим берегам Невы противостоят друг другу два здания — университет и Зимний дворец. Между ними должна длиться смертельная борьба. В этой борьбе погибнет Николай Кровавый».
В тот день в университет была введена полиция. Мы не расходились. Фараоны оцепили сходку и вытеснили нас из Актового зала. Арестов еще не было. Сходки после этого дня были воспрещены администрацией университета. Когда мы захотели собраться в Актовом зале в следующий раз, зал оказался закрытым. Мы попробовали устроить сходку в коридоре (его-то не закрыть!). И снова в университет ворвалась полиция. Фараоны во главе с Галле (начальником Василеостровской полиции) вновь оцепили нас. Мой старый товарищ Вильчинский, увидя меня в окружении, подошел к городовым, державшим цепь, и вырвал меня из цепи, схватив за руку. При этом он не получил никакого отпора от полицейских — это было показательно. Насколько же еще несерьезно велась борьба с нашим движением39. В декабре произошел перелом. Был арестован наш общестуденческий орган. Во главе .. движения стояли эсер Карский, Карл и совсем молодой т. Корень,
37 1-е Послание к коринфянам, 7:32—33.
38 8 ноября 1910 совет университета образовал комиссию «для выработки формы чествования памяти почетного члена университета Л. Н. Толстого» в составе Ф. А. Брауна, Ф. Ф. Зелинского, М. И. Ростовцева, И. А. Шляпкина и А. А. Шахматова. Было также принято решение об отмене занятий. На следующий день входы в главное здание были закрыты и охранялись полицией. Однако толпы, возвратившиеся с панихиды в Армянской церкви, сняв с петель ворота, проникли на территорию университета. День кончился тем, что толпа была рассеяна полицией, один оратор арестован, но тут же отпущен по просьбе студентов. 10 ноября входы в здание также охранялись полицией, которая не пропускала посторонних. На проведенной в полдень, вопреки запрету администрации, сходке (3000 человек) было принято решение выйти на следующий день на демонстрацию на Невском за отмену смертной казни. Несмотря на увещевания администрации, угрозы вмешательством полиции и призывы беспартийного студенчества «не использовать минуту всемирной скорби для (...) мелких политических интересов», сходка с пением «Вечной памяти» вышла на набережную, где к ней присоединились бывшие за воротами, но вскоре была рассеяна конной полицией. Такого рода события продолжались еще неделю, 12 и 16 ноября в университет была введена полиция, причем во втором случае с ее стороны была применена сила. Несмотря на запрет градоначальника «собираться толпами», 11 и 14 ноября состоялись демонстрации за отмену смертной казни. В них. наряду со студентами приняли участие и рабочие петербургских предприятий.
39 Сходка, о которой идет речь, состоялась 30 ноября 1910. Список задержанных на ней см. ЦГИА Ленинграда. Ф. 14. On. 1. Ед. хр. 1094. Л. 136—137.
занимавшийся историей философии. Это был единственный из наших лидеров, известный не только как лидер, но и как учащийся. Среди арестованных был, конечно, и тов. Аполлон, жизнь которого слагалась из трех сменяющихся ритмически периодов: университет, тюрьма, ссылка и потом вновь — университет, тюрьма, ссылка40.
Кадеты пытались остановить движение. Тов. Подшибякин по поводу резкого выступления тов. Бориса сказал: «Говорят здесь какие-то пето (неведомые) и произносят безответственные речи». Председательствующий тов. Аполлон оборвал его, сказав: «Тов. Подшибякин, вы — политически неопрятный человек».
Видимо, тов. Подшибякин намекал на то, что тов. Борис — агент Третьего отделения.
Среди арестованных оказался и тов. Лихтёрман. Товарищи его не любили. Он казался академическим карьеристом, прокладывавшим своим кадетизмом путь к профессуре. В тюрьме он пробыл недолго. Вскоре его увидели вновь в нашем коридоре, на нашем «Невском проспекте». «Ну, этот тюрьме не нужен, а ведь голову несет словно дарохранительницу», — сказал Мясоедов при встрече с ним. Левое студенчество, прощая «кадетизм» профессорам, не прощало его студентам.
Рождественские каникулы, перерыв в занятиях не охладили движения. Сходки возобновились в январе. Мы требовали освобождения арестованных товарищей. Студенческое движение обеспокоило не только охранку, но и правых Государственной думы.
Депутат Пуришкевич выступил с речами, полными клевет на студенчество41.
К протесту, вынесенному на сходке, присоединился даже Шенкен. Была объявлена длительная забастовка. Лекции профессоров срывали обструкциями. Полиция в коридоре арестовала несколько сот студентов. Все они были исключены из университета. Многие сосланы.
Штрейкбрехеры мобилизовали все свои слабые силы. Бело-подкладочники, совершенно игнорировавшие лекции, теперь стали усердными посетителями всех лекций, всех факультетов. Разбившись на мелкие группы, они устраивали дежурства — кому куда. Забастовщики тоже являлись на лекции с тем, чтобы убеждать профессоров отказываться их читать. Студенты с восхищением передавали друг другу, что профессора Овсянико-Куликовский и Лосский отказались читать штрейкбрехерам. Оба они сказали: «Вы не наши слушатели, вы не для науки пришли в аудиторию». Прения профессоров со студентами принимали иногда очень серьезный и значительный характер. Среди уважаемых нами профессоров были и такие, которые считали, что (...) молодежь может заниматься политикой, но не в университете, а лишь за стенами его42. «Пусть у меня останется хоть один. из моих слушателей, желающий продолжать свое учение, я буду читать и ему одному», — говорил профессор Ростовцев. Он понимал нас,
40 7 декабря 1910 петербургский градоначальник официально уведомил ректора о запрете противоправительственных сходок в учебных заведениях. Тогда же начались и репрессии: с 8 декабря 1910 по 11 февраля 1911 было исключено 459 студентов (ЦГИА СССР. Ф. 733. On. 201. Ед. хр. 206. Л. 23). Аресты членов Коалиционного комитета Петербургского университета (10 человек) были проведены с 17 по 25 января 1911, а полный его состав был арестован в ночь на 8 марта. Всего по стране в ходе начавшейся тогда студенческой забастовки было арестовано 5415 студентов, 3394 из них было выслано. (Круглова 3. С. Студенческая забастовка 1911 года//Ученые записки Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской: История СССР. Т. 135. Вып. 8. М., 1964.)
41 Имеется в виду думская речь Пуришкевича 2 марта 1910, в которой он, сожалея о том, что «не все еще покончили с собой вожаки» студенческого движения, требовал их немедленного изгнания из учебных заведений. «Это все лица,—утверждал он,—которые (...) ходят по дамокловым мечом раскрытия тех преступлений, которые совершаются в стенах Петербургского университета». Перечень этих «преступлений» был, по Пуришкевичу, весьма обширен: от злоупотреблений в студенческой столовой до «комнат свального греха в самом университете». На обороте экземпляра неправленной стенограммы его речи — ироническая записка Д. Д. Гримма, обращенная к его брату-проректору: «Развлекаюсь, как видишь, почитывая речь Пуришкевича...» (ЦГИА Ленинграда. Ф. 14. On. 1. Ед. хр. 10294. Л. 31об.). Студенчество отнеслось к этому выступлению без иронии: «Общестуденческая сходка 5-го марта 1910 года выражает избраннику бессарабских дворян Пуришкевичу, — говорилось в резолюции, — свое презрение по поводу его наглого и клеветнического заявления (...), инсинуаций по адресу русской учащейся молодежи вообще и чести русской учащейся женщины в частности». Ректор без комментариев разослал эту резолюцию попечителю, градоначальнику и в Думу. Правые круги попробовали возмутиться тем, что суденты «неуважительно выступают в адрес большинства народного представительства», но общественное мнение было настолько единодушным, что этот студенческий протест пришлось оставить без последствий.
42 Доходило и до крайностей: 2 октября 1910 профессор восточного факультета П. С. Попов попытался запереться с двумя студентами в аудитории и продолжать заниматься. В результате — по сообщениям правой печати (возможно, преувеличенным) — «ему едва удалось выбраться из университета под свист забастовщиков».
Интересна позиция С. Ф. Платонова, оказавшегося в аналогичной ситуации в 1908: «Мои политические убеждения известны (он был монархист, преподавал в императорской семье. — Публ.), но я не считаю возможным читать сегодня лекцию, во-первых, потому что внешняя обстановка не такая, при которой я привык читать, а во-вторых, не считаю возможным читать при данной обстановке по внутреннему убеждению как педагог» (Речь. 1908, 27 сентября).
сочувствовал нашим порывам, но считал нас заблуждающимися, «горячими головами». Профессора очень тяжело переживали это расхождение со своими слушателями. Мы же их осуждали, и создавалось то отчуждение, которое тяготило и нас, и их. В Москве все эти события привели, как известно, к массовому уходу профессоров из университета в знак протеста против действий правительства и, в частности, своего бывшего коллеги Кассо и «диктатора» — Столыпина.
Какой наивной кажется теперь моя вера в близость революции, которую вызовет наше движение, проникнутое идеалом гуманизма и пафосом свободы. Нами завершалась та линия исторического развития, которая вела свое начало от декабристов. Мы, как они, были бесконечно далеки от народа и мы с горечью не понимали, почему «народ безмолвствовал».
И когда становилось все яснее, что наше волнение разобьется о скалистый берег, мы начинали сознавать свою обреченность. «Кровь мучеников — семя обращения», — говорила мне Таня Обе-ручева. Каждый день приносил вести о новых арестах. Таня работала в центральном органе, который руководил забастовкой, и-я, идя утром к ней по Малому проспекту Васильевского острова, ожидал в ее квартире услышать страшную для меня весть об ее аресте43.
Движение пошло на убыль. Забастовка сорвала академическое учение. Университет и курсы опустели. Провинциалы начали разъезжаться. Таня вернулась домой в Киев. Мне нечего было делать в Петербурге, и я со своим другом Белокопытовым решил ехать в Париж. Там на местах, где произошли великие события, я хотел изучать Великую французскую революцию. (...)
Весной 1912 года студенчество было вновь взволновано: ленские расстрелы рабочих всколыхнули русскую общественность. Вспоминалось кровавое воскресенье 9-ое января 1905 года... Вновь сходки. Была назначена уличная демонстрация. Однако после зимы 1910—1911 года не ощущалось нужного подъема. Не верилось и в поддержку рабочих. Мне казалось, что правительство это учтет и расправится с демонстрантами. Я был против решительных выступлений. Для новой революционной волны нужен был не моральный протест против свирепых действий царского правительства. Нужны были какие-то глубокие и сильные толчки, которые коснулись бы жизненных основ народных масс. Например, война. Интерес к внешней политике у студенчества тех лет был не только мал, он считался недостойным передового студента. Лишь немногих студентов интересовала война из-за Триполи, и даже Балканская война оставила холодной студенческую массу. Я помню на четверге у Тани и Вали44 мой жестокий спор с Бемом из-за балканских событий. Симпатии к славянам возмущали Бема, их борьба не казалась [ему] освободительной. Бем, глубоко чтивший Таню, болел за нее душой, что она находится под столь дурным влиянием. Я говорил ему: «Как можно относиться равнодушно к
43 Началом событий, приведшим к весенней общестуденческой забастовке 1911, была уже упомянутая сходка в университете 30 ноября 1910. На ней был выражен протест против издевательств над политическими заключенными в Новом Зерентуе. Одновременно происходили волнения и на Высших женских курсах, в ходе которых курсистка Е. Л. Таль дала пощечину полицейскому офицеру. Занятия на курсах были приостановлены с 1 декабря на неделю, а 7-го там вновь была сходка, по окончании которой курсистки с пением похоронного марша разошлись по домам.
Далее по призыву общегородского студенческого Коалиционного комитета, в составе которого было 18 социал-демократов, 9 эсеров и 4 кадета, выступления учащейся молодежи столицы были приостановлены до конца года. Затем ситуация вновь обострилась. 17 января для обсуждения создавшегося положения в столице было созвано совещание руководителей высших учебных заведений. На нем раздавалась резкая критика правительственных постановлений, которые — по оценке выступавших — «отнимают значительную возможность содействовать водворению порядка (...) и вызывают озлобление студенчества». В первую очередь речь шла о присутствии полиции в стенах учебных заведений. Однако никаких мер, способных разрядить обстановку, принято не было, и волнения возобновились с новой силой. 22 января в университете вновь оказалась полиция, а спустя два дня профессора отказались читать лекции, сочтя создавшуюся атмосферу неакадемической. Полицию вывели, но уже появились воззвания о стачке. Одно было подписано Правлением землячеств, другое — студенческим комитетом партии эсеров.' Последнее призывало к забастовке протеста «против современного государственного уклада» на весь весенний семестр и сообщало о том, что решение о такой забастовке принято общегородским Коалиционным комитетом. 26 января это решение было поддержано 2500-ной сходкой в университете, во время которой было арестовано 12 человек, аналогичными сходками на ВЖК и в других учебных заведениях. 28 и 29 января университет был закрыт, а затем лекции продолжались при числе слушателей от 2 до 10 человек. Последовали аресты, причем значительные: за одну обструкцию профессору Пергаменту было арестовано 172 студента, а общее число арестованных в одном только Петербургском университете к 5 февраля достигло 500 человек. Обращаясь к профессорам, полуразгромленный Коалиционный комитет университета писал: «Университет сделался ареной (...) событий, унижающих достоинство». 21 февраля бюро Петербургского коалиционного комитета обратилось с призывом продолжать забастовку, а 28 марта остававшиеся к тому времени на свободе 18 членов этого комитета были также арестованы. Забастовка всюду пошла на убыль, и к концу марта неразъехавшиеся студенты и курсистки приступили к занятиям, хотя и в небольшом числе. Последние всплески студенческого протеста — «химические обструкции» на ВЖК 21 и 30 марта.
44 В. П. Красовская — подруга и землячка Т. Н. Оберучевой, вместе с которой она снимала комнату.
европейским событиям? Неужели Вы не понимаете, что война приближается к нам?» — «Войны не будет. Кто угрожает нам?» — «Германия». — «Пустяки. Если Вильгельм вздумает напасть на нас или на французов, рабочие сейчас же положат конец войне. Вы не учитываете силы германской социал-демократии». — «Если будет война, то германские социал-демократы пойдут вместе с кайзером». Бем изменился в лице. Он сказал мне глухим голосом: «Мы с вами не можем договориться. Кончим спор». Милый, умный т. Бем, мне ему пришлось напомнить в конце 1914 г. наш спор. Он только помотал головой.
А год этот приближался. По возвращении в Петербург я застал в университете особое возбуждение45. Участие студентов в патриотических демонстрациях в первые дни войны, стояние на коленях перед Зимним дворцом, участие в пении гимна «Боже, царя храни» — было воспринято студенческой массой как позор, который можно смыть только осуждением товарищей, изменившим лучшим традициям студенчества. Среди нас уже не было никого из былых лидеров 1910—1911 года. Движением руководили новые люди, никому не известные. Мне запомнились имена: Голованя, Петровского, Лущика, Боричевского. Они разбрасывали прокламации, подготовляли студенчество к созываемой ими сходке. Во дворах соседних домов была скоплена полиция. Мы знали, что Галле сидит у ректора Э. Д. Гримма и требует ввода полиции в университет. Актовый зал закрыт. Однако закрытые двери не остановили студенческую массу. Под ее напором двери открылись, и наш белоколонный зал наполнился возбужденными до крайности студентами. Я не помню имени оратора, который требовал вынести резолюцию с осуждением недопустимых форм проявления патриотизма. Его речь была прервана гулом. Оказалось, что в актовый зал вошел ректор. Э. Д. Гримм поднялся на трибуну. Зал затих. Этот самоуверенный человек говорил на этот раз с непривычным волнением. Голос его прерывался. Он то и дело снимал очки и нервным движением вытирал их. Гримм говорил о единении всего народа, о страшной опасности, которую несет за собой победа немецких империалистов, самых хищных из всех, об опасности для демократии, для свободы. Эрвин Давидович говорил о той радости, которую доставила бы врагу весть о расколе внутри русского общества. Волнение Гримма нарастало. Он перевел дух и после паузы скороговоркой прочел телеграмму царя, благодарившего студентов за выражение патриотических чувств. Вслед за этим ректор громко и отчетливо крикнул: «Да здравствует свобода, да здравствует демократия, да здравствует победа и, — совсем проглатьюая слова, — да здравствует государь император!» И быстро сойдя с трибуны, вышел из зала, крикнув: «Прошу вас во имя нашего единства — разойтись».
Как же реагировала сходка на это неожиданное выступление? Студенты аплодировали. Мне часто приходилось слышать упрек студентам за их готовность аплодировать каждому хорошему ора-
45 Речь идет о возвращении Т. Н. и Н. П. Анциферовых из свадебного путешествия по Швейцарии и Италии весной—летом 1914.
тору — форме, а не содержанию. И я часто наблюдал за студенческой массой и могу сказать, что этот упрек несправедлив. Достаточно аплодировать двадцати процентам присутствующих в разных местах зала, и создается впечатление: аплодирует весь зал. Но на этот раз Гримму аплодировало не 20 %, а значительное большинство. Студенты, собравшиеся для вынесения резолюции осуждения своих товарищей за участие в манифестации, в известном смысле сами приняли теперь в ней участие. В данном случае я должен признать, что речь ректора переломила настроение студенческой массы, т. к. это настроение было в те дни неустойчивое. Тщетно организаторы сходки призывали товарищей продолжать собрание. Тщетно сыпали с трибуны прокламации. Зал пустел. Но не пустел коридор. Там, в группах, на которые разбились студенты, шли горячие споры. Постепенно в одном конце коридора собрались академисты и запели «Боже, царя храни». В другом конце раздалась русская «Марсельеза» («Интернационал» еще тогда не пели). Одна демонстрация шла навстречу другой. Столкновение становилось неминуемым. Внезапно третья группа образовала в центре цепь и не дала возможности демонстрантам броситься друг на друга.
Полиция не была введена в университет и позднее, когда на новой сходке начались протесты по поводу призыва студентов на военную службу. В течение всей сходки ректор Гримм, как у нас выражались, «заговаривал зубы» Галле, сидевшему у него в кабинете.
Студенческая масса уже утратила свое единство (академисты в счет не идут — их была ничтожная группа), студенчество распалось на оборонцев и пораженцев.
Вспоминая студенческие годы до революции, я должен упомянуть о Jeu de paumes¹ — так студенты прозвали старую физическую аудиторию в потемневшем здании из красного кирпича46. Уже одно это название говорило о революции и пристрастии тех лет к воспоминаниям о Великой Революции XVIII в. Впрочем, наша аудитория амфитеатром совершенно не походила на тот высокий четырехугольный зал, где депутаты Генеральных штатов принесли свою знаменитую клятву. Здесь, в Jeu de paumes происходили и совещания студенческого актива по подготовке общестуденческих сходок. Здесь же происходили и выборы и кипела партийная борьба. Здесь происходили и собрания землячеств.
¹ Зал для игры в мяч (франц.).
46 До последнего времени там помещалась кафедра физического воспитания и университетская типография.
Глава IV. Землячества
[Глава IV.]
ЗЕМЛЯЧЕСТВА
В простенках нашего бесконечного коридора висели ящики под стеклами — это была витрина наших землячеств. Кое-где виднелись на них виды родных городов. В витринах вывешивались объявления о вечеринках, списки членов бюро, постановления собраний, списки недоимщиков и т. д. Органы охраны относились с подозрением к этим студенческим организациям и имели основания: землячества поддерживали связь с подпольными организациями.
«Земляк» — это хорошее, радушное, теплое русское слово, это подлинно народное слово. Оно объединяет людей памятью о милом изгибе реки, о полянке в лесу или о березе в поле на кургане, о селах с белой колокольней, об улице города, где протекли детство и юность. Земля — то слово, которое говорит искони о национальном единстве. Не русское государство, не русская нация, а русская земля — вот тот образ, который нам завещан летописью. Люди от земли, русские люди, земство — вот что рождает русская земля. «Вы, товарищ, откуда?» — «Я из Ахтырки». Радостный возглас: «Из Ахтырки, да ведь и я из Ахтырки! А где вы там живете?» — «На Днепровской». — «А я на Харьковской». — «Ну, значит, соседи!» — «Вы записались в землячество?» — «Нет, а как это сделать?» — «Я вас проведу». И товарищ подводит к витрине — там можно узнать, где и когда можно выставить свою кандидатуру в члены землячества.
Я был приглашен на отчетное собрание киевского землячества и на выборы нового бюро. Бестужевские курсы — сестра университета; универсанты и бестужевки постоянно встречаются в различных объединениях: научных, общественных, политических. Первое собрание, на которое я попал, поразило меня своим сходством с заседаниями Государственной думы. Шла острая борьба двух партий. Третья, промежуточная, возглавляемая Бемом, стремилась их примирить. Старым бюро руководил мой старший товарищ по Первой киевской гимназии — Глоба-Михайленко. Это бюро считало землячество лишь формой объединения студентов для взаимопомощи. Студенты не могут терпеть нуждающихся в своей среде и сами должны изжить нужду.
Оппозиция, возглавляемая моим товарищем по классу (но другого отделения) Шульгиным, Толпыгой и примкнувшим к ним Чикаленко, требовала реформ. Оппозиция нападала на старое бюро за бездеятельность, узость кругозора, за нищету его кассы. Оппозиция выдвигала идею объединения всех украинских землячеств в союз, который мог бы устраивать большие и доходные мероприятия: концерты, вечеринки, мог бы заинтересовать петербургское общество положением нуждающихся студентов. Наконец, поставить себе цели самообразования, пополнять знания через создание ряда кружков культурно-просветительного характера. Сторонники
старого бюро видели в этом «буржуазный дух» предпринимательства, измену исконным студенческим традициям. Меня трогала глубокая серьезность и страстность прений, какая-то торжественность.
Сторонник старого бюро Иван Лагун с особой суровостьюкритиковал оппозиционеров. Некрасивый, бедно одетый, со штанами, вправленными в сапоги, в черной рубашке — он казался современником и последователем Добролюбова, того идеального Добролюбова, каким он рисовался мне по своим писаниям (а не по своему дневнику). Я прозвал его Брандом47. «Ваня, а ты ведь действительно Бранд», — сказал ему ласково его друг В. Мияковский (племянник нашего историка Лятошинского). Когда Б. Толпыго, всегда корректный и сдержанный, возмущенный упреками его партии в буржуазности, бросил Лагуну обвинение в недобросовестной критике, в консерватизме, и произнес резко: «Тов. Лагун», — так, что это прозвучало «т. Лгун», раздались бурные протесты сторонников старого бюро и требования исключить Толпыго из собрания (совсем, как в Думе)!
На выборах победила оппозиция. Новое бюро с энергией принялось на создание объединения: союза украинских землячеств. Однако, это начинание встретило сопротивление многих землячеств малых городов, боявшихся «империализма» Киева, опасавшихся утраты своей самостоятельности. Кроме того, университетская администрация предупредила бюро киевского землячества, что такое объединение не будет допущено Третьим отделением. Бюро решило пренебречь этим предупреждением, но отсутствие поддержки многих землячеств привело к краху задуманногодела.
Оставался второй пункт программы нового бюро — культурная работа. Прежде всего нужно было пополнить скудную кассу землячества. Мы решили устроить концерт. Но не обычный студенческий вечер с пением, танцами, чтением стихов. Мы решили устроить вечер, посвященный Шуману, любимому композитору Белокопытова, взявшего на себя музыкальную часть организации этого вечера. Он пригласил известную пианистку Баринову, профессора консерватории. В нашей земляческой витрине появилась красиво исполненная афиша с портретом Шумана. Мы привлекли студентов и курсисток, обладавших художественным талантом для изготовления программ, рассчитывая, что в пользу недостаточных студентов мы получим за них хорошие деньги. Для вечера сняли зал Тенишевского училища. Нужно было распространить билеты среди профессоров, так или иначе связанных с Киевом. На мою долю выпал Е. В. Тарле, слывущий за профессора-марксиста, прославленный тем, что в 1905 году он был избит нагайками за участие в демонстрации. Со страхом подошел я к Евгению Викторовичу и робко предложил ему билет, объяснив ему цель нашего концерта. Профессор небрежно взглянул на меня и сказал: «Билет мне не нужен, на вечер я не пойду, но вот вам 3 рубля в вашу кас-
47 Бранд — герой одноименной пьесы Г. Ибсена.
су». Это было началом моего знакомства с Е. В. Тарле. Впоследствии он относился к моим просьбам с большим вниманием.
Далее мне поручили раздать наши афиши и привлечь к распространению билетов других студентов-киевлян. Я обратился к Юрию Пятакову, слывшему среди нас за очень умного, одаренного и, главное, левого студента. Он бродил, обычно один, по нашему бесконечному коридору, в красной рубахе под стать его рыжей лохматой голове. Пятаков не брился, и его нежное румяное лицо было окаймлено пушистой красноватой бородкой. Шел он медленно, как бы погруженный в раздумье. Я подошел к нему и протянул нашу афишу, прося помочь распространению билетов, Пятаков хмуро выслушал меня и потом, порвав афишу, сказал: «Не делом занимаетесь, товарищ!» Я был оскорблен и в то же время удивлен. Мне казалось, что студенческая взаимопомощь — обязанность каждого из нас, независимо от левизны политической позиции.
Вечер наш очень удался. Баринова играла превосходно, имела огромный успех. Самые красивые из наших землячек-киевлянок продавали афиши и собрали много денег. Но... когда мы расплатились со всеми, кому должны были платить, оказалось, что для земляческой кассы осталось несколько рублей. Эта неудача нас очень опечалила. Во время подготовки следующего вечера я познакомился с поэтом Хлебниковым — болезненного вида, молчаливым студентом.
Итак, с пополнением кассы дело обстояло плохо. Оставались кружки самообразования. В маленьких студенческих комнатах мы разрабатывали интереснейшие программы для этих кружков. И эти собрания наши были сами по себе очень интересны. Но все, что намечалось по программам, так и осталось на бумаге. Все это было слишком сложно. Требовало от нас большого досуга (а бюджет большинства требовал добавочных заработков), да и университетские занятия поглощали очень много времени.
Итак, новое земляческое бюро со своими широкими планами потерпело крах. Все начинания оказались непрактичны, нежизненны. Наш обычный председатель земляческих собраний А. Л. Бем посмеивался над этими неудачами. Он пользовался большим авторитетом и не принадлежал ни к одной из земляческих группировок. Маленького роста, хромой, с высоким лбом, умными, голубыми, ясными глазами — Альфред Людвигович был типичный русский интеллигент типа «вечного студента». Однако он в отличие от чеховского героя очень много и организованно работал. Все мы были уверены, что из него выйдет крупный ученый. И все же, несмотря на все эти деловые неудачи нового бюро, оно достигло многого. Оно сплотило группу молодежи, готовило к жизни, к труду, к служению обществу.
У нас доминировал триумвират: Саша Шульгин, Борис Толпыго и Левко Чикаленко48. Первый из них был высокий, горбился, «совсем верблюд», как уверял Ника Дрейер. Он носил спереди
48 С 1913 киевское землячество университета возглавил Алексей Елагин. В Психоневрологическом институте осенью 1911—весной 1912-го аналогичное землячество возглавлял также знакомый Н. П. — Д. С. Лурье.
длинные черные волосы, отброшенные со лба и всегда нависавшие над ним. У него были большие черные глаза, почти всегда печальные, короткий прямой нос и чуть выдающийся подбородок. Тонкие усы и небольшая бородка обрамляли это выразительное худое лицо. Сашко был украинец, но русской ориентации, плохо говоривший на родном языке. «Ты бы уж говорил лучше по-русски», — иронически бросал ему щирый украинец Левко, когда, морщась, слушал его родную мову. Шульгин был страстной увлекающейся натурой, но в основе его был какой-то холодок, умерявший его страсти и вводивший его в русло умеренности во всем. Русская культура была ему родной (русская наука, русское искусство). Но в искусстве, мне казалось, он понимал немного, хотя и скрывал это. Он был очень самолюбив и эгоцентричен. Любил пространно говорить о себе и томился, слушая других. Это не мешало ему быть добрым товарищем. В университете он стал учеником Кареева и усердно занимался секциями французской революции XVIII в. Он верил в свое призвание ученого и общественного деятеля.
Совершенно другим был его ближайший друг Борис Толпыго. С резко очерченною римскою головой, с большим лбом, внимательными серыми глазами и тонкими сжатыми губами, невысокого роста — он казался крепким, упорным, «надежным». Мы с Сашей, несмотря на симпатию к Борису, считали его, как Сен-Жюста, «бедным идеями». У него размаха действительно не было. Но Борис был ясен, четок, тверд. Он был замкнут и сосредоточен. С удивленьем мы узнали, что он внимательно изучает Эрмитаж (он все делал основательно), ценит Никола Пуссена. Борис был горячим русским патриотом и иронически относился к щирому украинству. Левко негодовал. «Да ведь он же не кацап, а вот глядите — все за кацапов. Это общерусс». «Общерусс» было самое ругательное слово в устах Левко. Если в пламенном Сашко чувствовался какой-то холод, то в холодном Борисе мы узнавали горячность, всегда им скрываемую за холодной броней.
Левко был настоящий сын Украины. С грубоватым лицом он походил на парубка. Чуть вьющиеся волосы, длинный нос, небольшие глаза — в нем, казалось, не было ничего красивого, а вместе с тем выразительное лицо его привлекало какой-то мужественной красотой. Он напоминал Остапа, когда глаза его разгорались гневом или воодушевлялись, в особенности когда он говорил о своей многострадальной Украине.
Мы с ним ни в чем не сходились, а любили друг друга. Он с добродушной насмешкой говорил мне: «Вам бы жить в 30— 40-е гг. прошлого века!» А я ему отвечал: «Вас же нельзя выпустить из XVIII века — гайдамак со взглядами французского энциклопедиста, Гольбаха или Гельвеция». Левко был антрополог и этнограф, Борис — юрист, Сашко, как я писал, историк.
Триумвиры спорили ожесточенно, преимущественно по национальному вопросу, подтрунивая друг над другом. Ссорились и мирились и горячо любили друг друга. К этому ядру киевского
землячества присоединились мои старые друзья Всеволод Белокопытов, Ян Вильчинский и Даня Лурье, о котором я писал в другой связи. Мы сходились то у одного, то у другого, или на четвергах у Тани Оберучевой и Вали Красовской. Как на вечерах в доме Лаптевых у Станкевича, у нас никогда не было вина. Но ели мы не одни сухари. К белой булке «франзоли» подавалась чайная колбаса и голландский сыр. Никто из нас не курил. Мы редко вместе читали, обычно беседовали, часто спорили, спорили горячо, казалось, легко могла вспыхнуть ссора. Но мы не ссорились и в спорах никогда не оскорбляли друг друга. Мы обсуждали прочитанное. Говорили о шансах и близости революции, о формах нашего участия в подготовке ее, говорили о литературе, о символистах, в особенности об А. Блоке, наиболее любимом всеми нами. Спорили и на философские темы, но уже не так горячо, как у себя в Киеве. Мировоззрение наше уже сложилось, искания в области философии, казалось, кончились. Их заменило раздумье, подчас сомненья. Вера в логическое постижение истины была подорвана. Вспыхивали и споры на темы все еще волновавшего молодежь «полового вопроса» (и когда этот вопрос перестанет волновать молодежь!). Нашу идею безбрачия здесь никто не поддержал. Но мы все сходились на осуждении того полового беснования, от которого еще не освободилась русская литература и которому отдал свою дань и любимый нами А. Блок во втором томе своих стихов. Скандинавская литература все еще занимала первое место (Ибсен, Гамсун, Гейерстам, мрачный Стриндберг). От «Санина» путь Арцыбашева лежал к «Последней черте» — к смерти — от Эроса к Танатосу. И больно мне было слышать, когда в нашей среде раздавались голоса в защиту гнусной «Честности с собой» В. Винниченко49. В современной литературе, в особенности в прозе, мы не находили отражения ни себя, ни своей среды, ни своего понимания жизни. Литература была мрачна: «страшный мир» А. Блока. А мы были светлы, мы были бодры, и, хотя познали трагическое в жизни, но могли уже тогда (с незнакомым нам еще Жаном Кристофом) сказать: «La vie c'est la tragedie. Hourra!»
В отличие от кружков 30-х — 40-х гг. мы не добивались единомыслия. Мы мирились с различиями нашего миропонимания, довольствовались тем общим, что связывало всех нас. Что же было это «общее»? Определить мне это не легко, даже теперь, спустя 37 лет. Нас объединяла вера в исключительность судеб русского народа, в близость обновления всей жизни путем революции, во всемирное значение этой революции, которая будет не только политическая, но и социальная. Мы стремились готовить себя к служению этой революции, хотя, насколько мне известно, никто из нас не состоял ни в какой партии. Мы все верили в необходимость служения русской культуре, в тесную связь с народом (крестьянами и рабочими). Вместе с тем мы не хотели быть только «навозом для грядущего человечества», мы хотели полноты лич-
49 Насыщенная эротикой повесть В. К. Винниченко «Честность с собой» (1911) была посвящена жизни левого подполья. «Мне показалось, — писал Ленин И. Ф. Арманд, — что Винниченко искренен и наивен, когда он ставит вопрос: «имеет ли право (llsicll) социал-демократ ходить в публичный дом?» и жует этот вопрос всячески, но все время индивидуально» (Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 48. С. 286).
ной жизни, всестороннего ее развития, цельности философского мировоззрения. Мы, как люди 30-х гг. хотели строить свою жизнь, не жить мгновением, не поддаваться его соблазнам. Мы стремились к чистоте нашей личной жизни. И наши отношения к товарищам-девушкам были товарищеские с оттенком рыцарского внимания, а иногда и благоговейного преклонения. Это была тоже наша романтика.
Кто же были девушки нашего землячества, кроме Тани Оберучевой? Это были: Т. Б. Букреева, Л. В. Бублик, В. Ф. Белокренец и В. А. Корчак-Чепурковская. Татьяна Борисовна Букреева — с точеным лицом, с замысловатою стильною прическою, с ореховыми глазами, — была самая женственная из наших девушек. Она сама себя считала женщиной 40-х гг. и подчеркивала в себе свою привлекательную женственность; однако ее кокетство было изящно, свободно от жеманства. Она была племянницей философа Алексеева (Аскольдова), сына известного киевского философа Козлова (некогда крайнего радикала, злостно изображенного Лесковым в его романе-памфлете «Некуда»), Татьяна Борисовна была религиозна и интересовалась философией50. Она познакомила меня с членом религиозно-философского общества А. А. Мейером.
Лидия Васильевна Бублик носила сложную фамилию: Тяпу-Тяпу-Табунец-Жбан-Жлоба-Бублик-Погорельская. Ее отец, деятель украинского движения, похожий на Тараса Бульбу, из всех казачьих фамилий, сраставшихся друг с другом и образовавших столь сложное соединение, облюбовал одну — Бублик.
Лидия Васильевна была черноокая хохлушка, строгая и красивая, очень замкнутая. Но было в ней что-то ленивое, спустя рукава. Она была медичка. «Профиль леди Годивы, глаза как спелые сливы». В нее влюбился филолог (совсем как у Саши Черного)51 наш Саша Шульгин. И говорили про них «бублик с дырочкой». Они стали неразлучы. Но в отличие от Саши Черного, у которого сказано «рассказ мой будет недолог», их любовный путь был медленен и долог — и конец его мне неизвестен.
Подругой Лили Бублик была Вера Федотовна Белокренец, — тоже хохлушка, с ореховыми глазами, русыми косами, обвитыми вокруг головы, и почти без бровей, похожая на мадонну Ван-Эйка. С детским лицом, она была мучительно застенчива, и краснела постоянно. Робкая и замкнутая, она обладала сильной волей. Помню ее поездку на голод вопреки воспрещению родителей. В ней была восторженность, которая прорывалась как-то неожиданно и бурно, на мгновение нарушая обычную скованность.
Вера Авксентьевна Корчак-Чепурковская, очень тяготевшая к нам, мало интересовала нас. Она была старше нас. Худая, высокая, постоянно напряженная, то чем-то увлеченная, то негодующая, Вера Авксентьевна была неисправимая идеалистка.
* * *
50 Т. Б. Букреева не только интересовалась философией, в ней был силен и общественный темперамент, стремление защитить культурные и природные памятники от напора цивилизации. «Ввиду того, что местная пресса, — писала она в газету «Речь» в 1909, — отказывается напечатать протест группы киевлян в С.-Петербурге против отдачи городской думой Царского сада под промышленную выставку, прошу поместить в Вашей уважаемой газете мой протест и возмущение против небывалого вандализма и варварства наших «отцов города». Царский сад, единственное украшение Киева, своеобразнейшее и красивейшее место, быть может, во всей Украине, решаются принести в жертву все той же «культуре», которая и без того уже поглотила так много красивого, ценного, нетронутого. Должны протестовать все те, кто еще ценит истинную природную, неискаженную культурой красоту. И, быть может, дружный общественный протест спасет сад» (ЦГАЛИ СССР. Ф. 1666. On. 1. Ед. хр. 940. Л. 130—131).
51 Речь идет о стихотворении Саши Черного «Городская сказка», в которой едва начавшийся роман филолога с медичкой прекратился из-за натуралистических подробностей учебного быта героини. Л. В. Бублик и А. Я. Шульгин обвенчались в середине июля 1912.
Все неудачи нашей земляческой группы не ослабили нитей, связывающих нас. Мы решили сняться все вместе. Приближалась весна 1910 года. Экзаменационная пора нисколько не мешала нашим частым встречам. Дни быстро нарастали. Светились вечера. Посветлели и ночи. Зори медленно таяли, и в этих зорях было столько печали. Это печаль весны, печаль молодости. Откуда она? Это зов куда-то в неведомую даль времен и пространств. В ней томление о небывалом счастье. В ней и предчувствие утрат. Эти зори отражались в Неве. Отражались они в каналах вместе с густыми тенями. Эти зори медленно таяли в окнах затихших, насторожившихся домов.
Мы уходили шумной толпой на острова, на «стрелку». Но смех наш, наши шутки внезапно обрывались. Мы смотрели в даль «лагуны»-взморья, где то парус манил порозовевшим белым крылом, то чайка, блистая над самой водой своими изогнутыми крыльями, тревожила ее сонную гладь. Наше созерцательное молчание сближало нас больше, чем споры и шутки. Мы садились в лодки, гребли, уходя в морскую даль, стесненную узкой полоской земли — берегов «Маркизовой лужи». Подъезжали к пустынным островам и рвали первые цветы и брызгали на них морской водой. И в неведомый час, вечерний ли, утренний ли, — поднимались мимо барок и судов — по Малой Неве, — к Тучкову мосту, к легендарному дворцу Бирона. И лишь лучи утренней звезды побеждали сияние неугасавшей зари на нежно-сиреневом небе.
В тот год мы увидели впервые
Первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер52.
Мы прочли в газетах, что французский пилот Лемонье совершит свой полет. Это было еще осенью. Не помню, где это было. Мы поехали за город, до какой-то станции. Был серый день. Небо хмурилось. Странная машина, похожая на гигантскую стрекозу, шумела, прыгала на земле, но не было у нее сил взлететь. Многие в толпе злорадствовали. Почему? Мы уехали разочарованные. Была ли мысль: все эти разговоры о завоевании воздуха — пустяки, все в мире остается по-старому? Вековая мечта остается мечтой. И вспоминался мне Икар — рельеф на Кампанилле Джотто во Флоренции, крылатый Икар. Но вот пришла весна, и мы спешили на Коломяжский ипподром. Здесь было все по-иному, начиная с сияющего весеннего неба. Не толпа — хмурая и нестройная у опушки рощицы осин — ждала чуда. Здесь, на ипподроме, в светлых одеждах праздничные толпы разместились на его трибунах. Напряжение было радостное. Все были уверены в успехе гения человеческого, в своей причастности ему. И вот чудо свершилось. Легкая птица, машина, направляемая волей человека, оторвалась от земли и плавно с жужжанием понеслась над трибунами все выше и выше. Чудо свершилось. Мы словно вступили в мир третьего измерения, покидая плоскую землю двух измерений. Шум
52 Ст. 67—68 из первой главы поэмы Блока «Возмездие». У Блока: «И первый взлет...».
пропеллера сливался с бешеными аплодисментами тысяч петербуржцев. А между тем в лазоревом небе, сияя в косых лучах вечернего солнца, высоко-высоко над нами кружилась белая птица, воплощавшая вековую мечту. Это начало новой эры. А мы говорили теперь: ближе к революции мир будет катастрофически меняться... Так заканчивался мой первый студенческий год.
Весной [того же года] приехал на гастроли Художественный театр. Еще Великим Постом у Александрийского театра сутками стояла очередь за билетами. Стояли и мои киевляне. Ночью жгли костры. Пели вокруг них, водили хороводы. Бегали греться в «Квисисану» (ресторан-автомат: стакан глинтвейна—20 копеек). Смеясь, говорили, согретые горячим напитком: «Mens sana in «Quisisano»!»¹. Ждали как светлого праздника приезда Художественного театра. Помню первый спектакль «Вишневого сада». Это была Пасхальная неделя. У заутрени были в Исаакии — ярко пылали факелы в руках чугунных ангелов по углам собора. Толпы народа на площади, на набережной, на Невском — тихая весенняя ночь — еще в сумраке (это была ночь на 10 апреля ст. ст.) — освещалась тысячами огоньков восковых свечей. В Пасхальный день я с Таней съездил на могилу В. Ф. Комиссаржевской в Александро-Невскую лавру. Оттуда мы проехали прямо в театр с веточками березы, с темными, чуть распустившимися клейкими листочками.
Помню этот «Вишневый сад» с птичьим гомоном. Помню уставшую, уснувшую в кресле Аню и вечного студента — Петю Трофимова, подошедшего к Ане на цыпочках. И его нежные слова: «Солнышко мое! весна моя!» В этой пьесе мне прозвучала мелодия нашей жизни — прощание с Вишневым садом для встречи со светлым будущим, с новою прекрасною жизнью, v зарю которой мы готовились встретить. Бем с растроганным лицом подошел к нам и сказал: «По-хорошему играют». Греческая трагедия давала катарсис. Художественный театр в те годы его расцвета без трагедии, без гроз и бурь приносил очищение.
С осени возобновилась борьба внутри землячества. Явилась новая оппозиция, и не из членов свергнутого нами старого бюро. Оппозиционеры были молодые люди во главе со Шпигелем и Мирским, которые не имели никакой программы. Они стали в студенческой газете упрекать наше бюро в семи смертных грехах. Когда Даня сказал Мирскому, которого он знал по Киеву: «Зачем вы клевещете?», — Мерзкий (как мы его прозвали) ответил: «Я готовлю себя в журналисты. И мое правило такое: обливай помоями, что-нибудь прилипнет». Оппозиция эта успеха не имела. В новое бюро вошли наши кандидаты. Вошел в него с этого года и я. Наш кружок не расширился. Мы по-прежнему встречались часто и делились новыми книгами, новыми мыслями.
¹ В «Квисисане»—здоровый дух (лат.).
Год этот был полон волнений. Об организованной нашим землячеством поездке его делегатов на похороны Толстого я упомянул в другом месте. В студенческой среде шли аресты. И хотя никто из нас не был партийным, но все были участниками в той или другой форме «студенческой революции». Дни шли в ожидании все новых событий. В разгаре волнений — масленица 1911 года. В университете забастовка, но студенты посещают его для сходок, для обструкций. Многие говорили: «Надо разъехаться, штрейкбрехеров надолго не хватит. Наши сходки и обструкции только подогревают их пыл. «По домам!» — вот лозунг». И мы собрались разъехаться.
Хотелось на прощание, по старинке, весело проводить масленицу. Было решено нанять вейки и ехать на острова. Вейки эти появлялись в Петербурге только в дни масленицы. С понедельника на улицах и площадях столицы — низкие сани с одной лошадкой, дуга — с разноцветными лентами. Чухны в финке на вопрос: «Сколько возьмешь?» — отвечали всегда стандартно: «Рицать копек». Едет ли вейка 5 минут, едет ли 45 минут — цена одна: «Рицать копек». Платят за то, чтобы он тронулся с места.
Мы решили просить «чухонцев» доверить нам свои вейки (конечно, под залог) и ехать одним. Мы расселись так: Саша со своей Бублик, Борис с Т. Б. Букреевой, Левко с Валей Табунщиковой, Ян с Корчак-Чепурковской, я с Таней (остальных не" запомнил).
На Елагином острове, пользуясь отсутствием чухонцев, мы устроили бега. Мы вихрем неслись к Стрелке, обгоняя друг друга. Вечер был тих, а хотелось метели. Лишь легкий снежок звездочками сиял в свете редких электрических шаров, попадавшихся нам на пути. Внезапно, у самой Стрелки, на повороте выскочили встречные сани, не вейка, а запряженные парой рысаков. Еще секунда — и рысаки наскочили на мчавшуюся впереди вейку, которой правил Борис.
Фуражка его взлетела вверх и упала в снег. А он сам вывалился из саней и схватился за шею. На руке его показалась кровь. Он только бормотал: «Шапка, шапка!» «Боря, что с тобой?» — с криком бросилась к нему его спутница. Татьяна Борисовна всегда называла его по имени и отчеству, как это было принято в нашей среде, и говорила ему «вы». Удар дышлом казался очень опасен. Могла пострадать сонная артерия. Кровь остановили и шею перевязали белым шарфом... Назад ехали шагом. Чухонцы подозрительно посматривали при расплате с нами на своих тяжело дышавших лошадей.
После этого катания я слег в жару. Борис также был прикован к кровати. В наше отсутствие полиция захватила в коридоре несколько сот студентов. Все они были переписаны и исключены (правда, временно).
* * *
В истории нашего землячества крупную роль сыграл Даня Лурье, поступивший в экзотический Психоневрологический институт53. Я уже не был с ним так близок, как в «№ 37-ом» хотя продолжал его горячо любить. Меня отчуждал его мистический анархизм (не в том смысле, как этот термин употреблял Г. И. Чулков). Даня хотел взрывать все существующие формы быта, разрушать всякий лад, его влекло к какому-то хаосу.
О, страшных песен сих не пой,
Под ними хаос шевелится.
Но Даня любил слушать эти страшные песни, «про хаос древний, про родимый». Я еще любил бродить с ним по Петербургу. Мы беседовали о царстве духа, о торжестве его над плотью. О преображении человечества духовном после революции социальной. <...> Все так же он говорил, раскачиваясь и встряхивая головой. Но в нем я ощущал нарастание какого-то беспокойства.
Мы бродили в сумерки, когда зажигались фонари, останавливались на горбатых мостах над каналами. Мы искали, правда безуспешно, уголки Достоевского.
Но меня все более начинала пугать в Дане какая-то струя темного мистицизма. Он собирал сведения о домах, в которых «пошаливают духи», о квартирах с привидениями. Этот темный мистицизм повлек его в далекое путешествие, в Индию. Денег у Дани не было, он поступил работать на пароход. Вернулся Даня полный рассказов об этой стране классического мистицизма. Вместе с тем он вернулся с еще большей ненавистью к капитализму империализму. О поведении англичан в Индии он говорил, задыхаясь от негодования. Теперь ждал уже не русской революции, а мировой. И русскую он считал ее началом. В землячестве Даня сблизился с нашими девушками. Его пламенная натура, его туманные мечты об обновлении духа, его ненависть к мещанству и пылкая революционность производили на наших девушек большое впечатление. Он ходил с ними гулять осенью на Острова. Под ногами шуршали опавшие листья. И Даня говорил о бесконечных возможностях развития духа. Он подарил им маленьких зеленых скарабеев. Этот пылкий интерес к Дане наших девушек был очень не по душе киевскому триумвирату.
На масленице 1911 г.54 неожиданно разрядилась сгустившаяся атмосфера. Мы вновь поехали на вейках куда-то далеко, к Шувалову или Юккам, уже не помню. Ехали мы не по двое, наняли широкие сани, запряженные парой лошадей. Таких саней было двое. После города быстрая езда в потемневших снежных полях, под хмурым зимним небом, уносила нас куда-то далеко от всего привычного. На возвратном пути кто-то предложил ехать на Острова, на ледяные горы. И вот неожиданно запротестовал наш триумвират, запротестовал пылко, запальчиво. Они — враги всего иррационального, они против иррационального веселья. Я не понял значения их протеста. Меня он удивил и огорчил. Я присоединил-
53 Согласно Уставу, утвержденному 9 июня 1907, Психоневрологический институт (ПНИ) был «ученым и высшим учебным заведением, имеющим целью разработку и распространение знаний в области психологии и неврологии». Наряду с естественно-научными, психологическими и медицинскими дисциплинами, в нем широко изучались философия, история и языкознание. Здесь преподавали К. М. Аггеев, В. А. Бутенко, С. А. Венгеров, М. Д. Приселков, М. А. Рейснер, П. А. Сорокин, В. Н. Сперанский, М. Р. Фасмер и мн. др. выдающиеся ученые. Президентом Совета ПНИ был В. М. Бехтерев. ПНИ, хотя и относился к ведомству Министерства народного просвещения, но содержался на частные средства (позднее—в 1916 — на базе ПНИ был образован Петроградский частный университет). Прием в ПНИ не был ограничен ни полом, ни вероисповеданием, ни типом полученного среднего образования (трехпроцентная норма для иудеев была введена только в 1916, тогда же его выпускники получили возможность уравняться в правах с выпускниками государственных вузов, но после революции ПНИ прекратил свое существование).
54 Н. П. ошибается в датировке. Скорее всего, описанные события происходили весной 1913 или 1914: Т. Б. и Б. Н. Толпыго обвенчались осенью 1912, а в апреле 1913 Д. С. Лурье обращался к своему учебному начальству за удостоверением о командировании его с научной целью в Индию.
ся к тем, кто поехал с Даней и девушками на ледяные горы. Катанье было веселое, молодое, удалое, с песнями, шутками, криком.
И вот наш кружок распался на рационалистов и иррационалистов. Недели две спустя мы собрались у Толпыги. К этому времени Борис и Татьяна Борисовна повенчались. Жили они в двух комнатах. Все весело играли в шарады, все, кроме триумвиров. Они отделились от нас, сидели втроем и о чем-то тихо беседовали. Таня обратила внимание на их позы и лица, в них было что-то очень дружественное и печальное.
Игра кончилась. Все сели за стол, этот раз с вином. Когда наполнились рюмки, Даня внезапно поднялся и, протянув рюмку через стол, обратился к Лиле Бублик: «Давайте выпьем брудершафт». Голос его дрожал. Но в этом голосе звучал вызов. Уже перед тем триумвиры хмуро посмотрели на него. В беседах Дани с девушками выработался какой-то особый язык: не в том смысле, что они произносили придуманные ими слова, но смысл их речей был другим непонятен. В них какую-то роль играл скарабей. И мы все поняли, что Данины слова были вызовом не только нашим рационалистам — «врагам иррационального веселья», но и всему стилю нашего кружка. Не только в нашем кружке, но вообще в студенческой массе тех лет принято было говорить друг другу «вы» и называть по имени и отчеству. «Ты» — имело особое значение, исключительной близости. Переход на «ты» был значительным событием в истории личных отношений. В нем была особая волнующая прелесть. Она очень дорого ценилась. Что же касается нашего «вы», то мы видели в нем благородную сдержанность.
Вот почему слова Дани произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Даня мог быть доволен. Создалось особое напряженное молчание, напоминавшее сцены в духе любимого им Достоевского. «Какой-то надрыв в зале». Я помню смущенное лицо Лили. Она слегка побледнела и сказала тихо: «Давайте, выпьем на брудершафт». Белокренец сияла. Она торжествовала победу. Это был удар рационалистам. Лицо Толпыги было холодно. Левко, вскинув руками, как-то съехал со стула. Глаза Саши горели мрачным огнем.
После этого вечера наш земляческий круг уже не собирался широкой компанией, а Даня совсем отошел от него.
Даню ждал страшный удар, погубивший его. В своем институте он подружился с девушкой, которая привлекла его интерес не только своей незаурядной внешностью, но и какой-то таинственностью, которой она была окружена. Он ощущал в ней какие-то бездны, которые всегда влекли его. Таинственность раскрылась самым потрясающим образом. Эта девушка в погоне за «исключительными переживаниями» пошла служить в охранное отделение и была разоблачена.
Удар для Дани был так силен, что он уже оправиться не мог. В Киеве его вновь потянуло к нашему «№ 37-му». Екатерина
Михайловна с большой чуткостью подошла к нему и сумела отогреть его. Даня, к огорченью Ники, стал сближаться с нашей «Раутенделейн» — солнечной Мэкусей. Даня светлел возле нее, становился прежним, каким я знал его в 1907 г.
Но темная сила победила. Однажды он пришел в таком виде, что испугал Екатерину Михайловну. Он упорно молчал, но Екатерина Михайловна сумела заставить его говорить. И он рассказал, что погибшая девушка явилась к нему и манила его идти за ней, вывела на балкон и исчезла. И Даня едва удержался, чтобы не броситься вниз с балкона. Через несколько дней Данин отец нашел его мертвым в кровати. Даня отравился. Сколько сил нераскрытых, сколько надежд он унес с собой. Это была жертва «достоевщины». Те духовные высоты, те душевные глубины, которые сумел вложить в свое творчество Достоевский, не помогли Дане выйти на свой путь. Но болезненная, темная стихия, которая была сродни этому русскому гению, закружила и погубила Даню. Я часто думал, вспоминая своего погибшего друга, что было бы с ним, доживи он до 1917 года. Спасла бы его революция? На каких баррикадах он бы оказался? Я говорил об этом с Никой. Мы оба тогда думали, что он был бы на самых крайних позициях, где-нибудь в Кронштадте лета 1917 года. А потом? На это у нас не было ответа55.
* * *
Намеченная нами культурная работа в землячестве потекла по другому руслу. Таня начала с увлечением работать с учительницей Богдановой в воскресной школе в предместьях города. Вслед за ней и я решился начать курс лекций по русской истории рабочим Обуховского завода. Когда я вошел в аудиторию, меня поразил облик моих слушателей. Образ рабочего был у меня связан с мастеровыми, здесь же передо мною сидели одетые в пиджаки, с воротничками, очень серьезные молодые люди, среди которых несколько пожилых, с седоватыми усами. Хорошие лица, энергичные, с пытливым выражением. Я был очень смущен. Начать работу со взрослой, совершенно неведомой аудиторией — для этого требовалась уверенность в своих силах и смелость, которой у меня не было. Я был очень застенчив, даже робок. Но сознание, что я должен начать свою культурно-просветительную работу, к которой чувствовал призвание, в которой видел дело своей жизни, считал своим долгом, — победило. «Теперь или никогда», — твердил я себе. И странное дело: едва я начал — страх прошел. Я читал с увлечением. Сочувственное внимание аудитории придало мне бодрости, и я чувствовал, что прочел хорошо. После лекции рабочие окружили меня и долго беседовали со мною, словно прощупывали своего нового лектора. Читал я совершенно свободно. Как будто не было Третьего отделения. Я не был марксистом. Но я знаю, что и мои товарищи-марксисты читали с такой же
55 Изложенная Н. П. версия судьбы Д. С. Лурье может быть дополнена и уточнена по сохранившимся документам. Поступив в 1910 в Психоневрологический институт, он проучился там на естественном факультете до весны 1912, когда был отчислен. Восстановившись осенью 1913, Лурье вскоре перевелся на юридический факультет. Его пребывание в институте было оплачено по весну 1916. Этот период был отмечен такими вехами: кратковременный арест в январе 1913, по политическому обвинению (статья 21 Положения о Государственной охране), поездка в Индию весной — летом 1913, служба с октября 1914 по сентябрь 1915 в перевязочно-продовольственном отряде Красного Креста, базировавшемся в Киеве (ЦГИА Ленинграда. Ф. 115. On. 2. Ед. хр. 5759 и 5780).
свободой. Лекции мои были прерваны отъездом за границу. Почему я к ним не вернулся по возвращении на родину? Мне помешал Эрмитажный кружок.
Глава V. Содружество Эрмитажного кружка
Глава V.
СОДРУЖЕСТВО ЭРМИТАЖНОГО КРУЖКА56
В университете появилось воззвание: студенты приглашались для обсуждения форм культурной работы среди рабочих. В основу воззвания были положены идеи Джона Рёскина. Инициатором этого начинания был студент-филолог А. А. Гизетти. На его призыв откликнулась небольшая группа студентов. Гизетти предложил собравшимся заняться изучением Эрмитажа для того, чтобы водить экскурсии рабочих. «Стыдно нам — студентам, нам — интеллигентам наслаждаться сокровищами человеческого духа, созданными в веках, и не думать о наших товарищах-рабочих, совершенно лишенных этого счастья». Возникли прения. Некоторые товарищи говорили, что не время теперь, при самодержавии, заниматься подобной культурной работой. Что все это отвлечет рабочих от революции. Сперва революция, а потом культура. Это напоминало слова всем нам ненавистного Столыпина: «Сперва успокоение, а потом реформы». Я вспомнил, как Ю. Пятаков презрительно говорил о нас: «Культурники». Гизетти возбужденно доказывал: «Повышение культурного уровня рабочих есть один из видов подготовки революции, т. к. культурные рабочие в большей мере ощутят ее необходимость, чем темная масса». Тогда возражали ему: «Рабочих нужно просвещать, но лишь политически». — «Нет! — горячо говорил Гизетти, — политическое просвещение не должно, не может быть оторвано от культурного просвещения».
В Эрмитажный кружок записались лишь несколько студентов. Мы условились встретиться на квартире Гизетти.
Он принадлежал к интеллигентной семье, родственной Гревсу и Лаппо-Данилевскому57. Предки его были из Венеции, где еще в нашу эпоху сохранился дворец, принадлежавший некогда Гизетти. Но как этот типичный русский студент, потомок венецианцев, мало походил на своих предков! Высокий блондин с крупными чертами лица, скорее английского типа: прямой нос, выдающийся подбородок, узкая светлая бородка. Чрезвычайно скромный, в своем сером пиджачке или черной косоворотке, чрезвычайно застенчивый и рассеянный до крайности. Это был подлинный аскет вечно с книгой, за работой, глубоко преданный революционному движению. Его интересовали и проблемы философии, и вопросы искусства, литературы, истории. Он занимался и естественными науками, поскольку они подкрепляли его штудии в области философии. Мы впоследствии узнали, что Гизетти работал в какой-то революционной партии, но от нас он скрывал эту сторону своей жиз-
56 Название этой главы мы перенесли по смыслу. В оригинале она начинается со слов: «Подобно тому как наша земляческая общественность...» на стр. 205 наст. изд.
57 Мать А. А. Гизетти — Н. Д. Бекарюкова — была двоюродной сестрой И. М. Гревса и родной— Е. Д. Лаппо-Данилевской (урожд. Бекарюковой), жены историка А. С. Лаппо-Данилевского.
ни58. Я видел в нем новый тип русского студента, характерного именно для нашей эпохи, совмещавший интересы философии, искусства и литературы с работой революционера. Мне он тогда напоминал Рахметова своим аскетизмом и внешней суровостью. В действительности это был человек с нежным отзывчивым сердцем. Его рассеянность, какая-то неуклюжесть давали повод насмешкам товарищей.
У Гизетти в тот вечер мы познакомились с несколькими курсистками. В те годы ни одно студенческое дело не начиналось без привлечения курсисток. В наш кружок вошли несколько учеников И. М. Гревса: А. П. Смирнов, М. А. Георгиевский, Г. Э. Петри, А. В. Шмидт, А. Э. Серебряков, А. В. Тищенко (о них подробно я напишу позднее). Я привлек Т. Н. Оберучеву, В. П. Красовскую, В. В. Табунщикову и земляка Л. Е. Чикаленко. Из девушек у нас работала еще Е. О. Флеккель, близкий друг, а впоследствии и жена А. А. Гизетти, и несколько бестужевок: Т. С. Стахевич, В. М. Михайлова, М. М. Левис, Л. Ф. Завалишина. Позднее примкнул к нам Ф. А. Фьельструп и еще позднее антрополог Г. А. Бонч-Осмоловский.
Наши занятия мы решили организовать таким образом: мы совместно осматривали какой-нибудь отдел Эрмитажа и намечали ряд трудных для нас проблем. После этого приглашали специалиста-профессора, который проходил с нами в соответствующие залы, и мы вместе выясняли то, что для нас необходимо. Так, с нами работали в залах Египта Б. А. Тураев («бог Тот»), в южнорусских (скифских и эллинских) М. И. Ростовцев, в залах эллинских Ф. Ф. Зелинский. После окончания работы с профессором один из членов кружка должен был взять на себя разработку темы, объединяющей группу залов (например, греческая керамика), и показать эти залы уже в качестве руководителя, как можно более углубленно. После такого осмотра мы выделяли наиболее ценные объекты для экскурсионного показа. Занятия мы должны были вести в воскресные дни.
* * *
Утро. Нева тиха. Легкая опаловая дымка. Дворцы набережных кажутся миражом. Миллионная. Навстречу идут два ветерана в высоких медвежьих шапках. Это час смены караула у «Александрийского столпа». Мы уже под портиком Эрмитажа с его серыми атлантами. Мы входили в музей как в храм, но этот храм должен был стать и нашей мастерской. Величественные прохладные залы. Из века в век — как геологические напластования — залы хранили культурное наследие народов, сменявших друг друга на исторической арене. Собирались мы без всяких табелей вовремя. Все спешили встретить этот радостный и значительный для нас час. От витрины к витрине, от статуи к статуе, от саркофага к саркофагу медленно переходили мы, стараясь вникнуть в их
58 В конце декабря 1915 Гизетти, наряду с В. В. Водовозовым, В. А. Мякоти-ным и Л. М. Брамсоном, был обыскан и арестован Охранным отделением по обвинению в принадлежности к партии социалистов-революционеров. Вскоре он был выпущен, а затем вновь заключен в Петроградскую пересыльную тюрьму, хотя и отрицал принадлежность к ПСР. 11 марта 1916 состоялось постановление Министра внутренних дел о высылке его на 3 года в Иркутскую губернию. Неизвестно, было ли приведено оно в исполнение, но в 1917 Гизетти стал членом Учредительного собрания именно от ПСР, за что также подвергался преследованиям уже при новой власти (см.: ЦГАЛИ СССР. Ф. 258. On. 3. Ед. хр. 202 и Ф. 305. On. 1. Ед. хр. 540. Л. 2б—27об.).
безмолвную речь, смысл которой мы хотели понять. Так, по выражению Гейне, мы «завоевывали вечность в царстве прошедшего». Мы приносили с собой книги, среди них сочинения древних классиков. Мы подыскивали художественные тексты, созвучные экспонатам. Кроткая, женственная Л. Ф. Завалишина <...> рассказывала своим тихим голосом древние мифы. Все это было нужно для нас самих, но мы понимали, что это нужно нам и для нашего дела.
Начать работу нам пришлось не с рабочими, а с учителями. В конце 1913 года в Петербурге состоялся Всероссийский съезд учителей. О наших занятиях, конечно, знало руководство Эрмитажа. Президиум съезда обратился в музей с просьбой обслужить учителей экскурсиями. Эрмитаж тогда не обладал кадрами руководителей. Вот почему наш Эрмитажный кружок получил столь заманчивое для нас предложение обслужить экскурсиями съезд. Наша работа, начатая в конце 1910 года, была прервана «студенческой революцией». Мы возобновили ее лишь в конце 1912 года (после поездки с И. М. Гревсом по Италии).
Мы могли взять на себя показ лишь наших зал Эрмитажа. Надо было спешно выработать маршрут и отобрать экспонаты для показа. Эта сторона работы у нас была не закончена. Ведь работать мы могли только раз в неделю. Не все мы знали в нужной степени все залы. Пришлось прибегнуть к довольно странному выходу: мы показывали только свои залы. Таким образом экскурсанты должны были переходить от одного руководителя к другому. Для того чтобы не слишком страдала стройность экскурсионного показа, мы тщательно отобрали количество экспонатов и обсудили метод показа. Собирались мы в те дни то у одного, то у другого, готовясь к близкому бою. И вот наступил решительный день. С каким мучительным волнением мы приступили к работе. У меня было чувство воина, принявшего участие в генеральном сражении. Учителя, среди которых было много пожилых, смотрели с удивлением на нас, юношей и девушек (у некоторых из нас был к тому же очень моложавый вид). Но мы сумели быстро овладеть нашими группами и рассеять естественное недоверие. Работа была проведена нами с большим подъемом. Мы горели подлинным воодушевлением. Группа горячо благодарила нас, получили мы благодарность и официальную от Президиума съезда. С рабочими организациями Эрмитажный кружок связал, помнится, А. В. Ти-щенко, который после отхода А. А. Гизетти занял у нас первое место.
Вскоре после моего венчания с Таней я уехал за границу, где в Италии должен был собрать материал для дипломной работы. Когда мы вернулись в Петербург, у нас бушевала первая мировая война. Нам пришлось в Эрмитаже работать преимущественно с солдатами.
Наряду с нашим кружком существовал другой, работавший как будто преимущественно в Русском музее. Этот кружок назывался «кружком двадцати». Во главе его стоял искусствовед
Соломин, автор монографии о Джотто. Он был много старше нас. С ним работали Б. П. Брюллов, Н. В. Брюллова-Шаскольская (из семьи известных Брюлловых) и Л. В. Розенталь. Нами было устроено совместное заседание. Имелось в виду слить оба кружка. Но слияние не состоялось. Наш кружок имел уже единую коллективную жизнь, он был спаян узами дружбы. Думаю, что и кружку двадцати не хотелось расстаться со своими кружковыми традициями. Слияние не состоялось, но и вражды не возникло. Мы работали параллельно, каждый кружок с любовью делал свое дело. Так зародилось в старом Петербурге, в студенческой среде то экскурсионное дело, которое получило такой размах после революции, в особенности в ее первые годы.
Конечно, экскурсии не были созданы нами. Дальние экскурсии устраивались профессорами (так, И. М. Гревс возил своих учеников дважды в Италию, а Ф. Ф. Зелинский — в Грецию)59. Дальними экскурсиями славилось и Тенишевское училище. Устраивались экскурсии и по музеям, и по городу. Что же нового внесли наши кружки? Нами впервые был создан экскурсионный центр, не связанный ни с каким учебным заведением. (Я не считаю таким центром уже существовавшее в Москве бюро организации дальних экскурсий, там эти поездки мало общего имели с экскурсиями в том смысле, какой укрепился за ними после революции.) Наши экскурсии имели в своей основе большую подготовительную работу по изучению материала, по выработке маршрута и по методике построения и проведения. Наконец, наши кружки ставили себе непосредственной целью обслуживание широких масс (рабочих и солдат) — именно тех групп, которые послужили основой революционных Советов. Наша работа в студенческие годы пригодилась революции. Из нашей среды в Петербурге вышли те руководители, которые образовали ядро экскурсионистов Петрограда и вошли действительными членами в Экскурсионный Институт, где мы встретились с несколькими талантливыми экскурсионистами, совместно с которыми смогли вызвать большой подъем экскурсионного дела, аналогичный тому, который имел место в Москве60.
* * *
Подобно тому как наша земляческая общественность привела к тесной дружбе многих сочленов и даже породила ряд браков, так и в нашем Эрмитажном кружке зародились крепкие связи, связи на всю жизнь. Наша работа в чудесном музее-храме, наши собрания в студенческих комнатах то у одного, то у другого, породили отношения, далеко уводившие нас за пределы культурно-просветительной работы, в которой мы видели одну из форм подготовки революции. Эта, возникшая из работы, дружба оказалась чуждой основателю нашего кружка — А. А. Гизетти; он вместе с Е. О. Флеккель как-то незаметно отошел от нас. Почему? Я не нахожу ответа. Может быть, наше молодое веселье смущало ах,
59 И. М. Гревс возил студентов и курсисток в Италию в 1907 и 1912, экскурсия Ф. Ф. Зелинского в Грецию состоялась в 1910. Экскурсии студентов и курсисток по России были распространены, но зачастую не преследовали образовательных или научных целей, а были формой каникулярного отдыха, либо просто маскировали получение дорожных льгот для поездок к родным.
60 Я. А. Влядих-Вейнерт оставила мемуарно-исследовательскую работу «К истории гуманитарных экскурсий в Петербурге-Ленинграде». В этой работе освещен и дореволюционный период. «Характерные для XX века поиски, — подчеркивает автор, — доходчивых путей к знанию были вызваны стремлением передовых педагогов нашей эпохи в кратчайшие сроки сделать народ обладателем культурных сокровищ, до революции доступных немногим». Начальной датой экскурсионного дела в стране Влядих-Вейнерт считает собрание Русского археологического общества 18 февраля 1906, на котором преподаватель Путиловского коммерческого училища Цибульский выступил с обзором немецкой литературы о посещении музеев и памятников как методе преподавания истории искусств в средних учебных заведениях. Одновременно получили распространение представления профессора-естественника Д. Н. Кайгородова о природе как музее. Зарождалось и школьное краеведение: одним из его инициаторов в Петербурге была учительница рисования в гимназии Нехорошевой А. В. Карлсон, археолог по образованию. Сама Влядих-Вейнерт в это время активно развивала экскурсионные подходы к комплексному изучению разных предметов в Лесном коммерческом училище, а ее муж Н. В. Вейнерт полулегально проводил экскурсионную работу с рабочими-металлистами Васильевского острова. В 1908 в помещении Таврического дворца под руководством профессора А. П. Нечаева открылись педагогические курсы по изучению экскурсионного метода. На курсах обучалось около 100 слушателей, а среди преподавателей был известный впоследствии экскурсионист А. Я. Закс. Приезжавшие в Петербург состоятельные люди или группы организованных путешественников зачастую обращались к известным историкам с просьбами провести экскурсию по музею. Гревс нередко передоверял эту миссию Н. П. Анциферову или Г. Э. Петри, а С. Ф. Платонов—М. А. Полиевктову, который привлекал к ней супругов Вейнерт. Повествуя о «соломинском кружке», в котором она сама принимала участие, Ядвига Адольфовна — в отличие от Н. П. — утверждает, что он также базировался в Эрмитаже. Кроме Вейнертов и Брюллова, в «соломинском кружке» принимали участие Г. Э. Петри, А. В. Карлсон, Н. Д. Флитнер и др.
слишком серьезных, замкнутых. Хотя я знаю, что Гизетти стремился к сближению, к обмену думами. Я только уверен, что никто из нас их не обидел и их отход, оставшийся для нас непонятным, имел другую причину.
В Эрмитажном кружке первое место занял А. В. Тищенко, сын нашего проректора, ученик С. Ф. Платонова. Мы как-то побывали в «Кривом Зеркале» на «Вечере памяти Козьмы Пруткова». В образе Мержерепиуса был представлен Д. С. Мережковский с его игрой словами и понятиями: «Сквознячок! Вихри станьте!.. Ви-Христ-аньти! Анти-христ!» И вот на одной из наших вечеринок поднялась Т. С. Стахевич и торжественным, замогильным голосом сказала: «Кит! Китище! Китище!» И вдруг — радостно:
«Тище-нко. Тищенко!» Мы уже давно называли Андрея Вячеславовича «Китом» Эрмитажного кружка. Это был исключительно одаренный и обаятельный юноша. Лицо его с правильными чертами, мужественное, открытое—русское лицо. Бобровая шапка с бархатным верхом придавала ему вид молодого боярина. Глаза его постоянно светились мыслью, на полных губах часто играла улыбка. Он уже был звездой своего семинария. Им гордились. Его любили. Тищенко совмещал в себе какую-то собранность, сосредоточенность, с русской удалью. В первые дни войны, он, будучи уже оставлен при университете, пошел добровольцем на войну и погиб в первых же боях. Его хоронил весь университет на Смоленском кладбище. Наш кружок возложил на свежую могилу венок с надписью, избранною мною и Таней:
Тому, кто с верой и любовью
Служил земле своей родной,
Служил ей мыслью и кровью,
Служил ей словом и душой.
(Ф. Тютчев)
Андрей Вячеславович был нашем шафером. Он поднес нам от кружка — голову архаической статуэтки, напоминавшей голову Европы на известной картине Серова. Он был особенно радостен в тот памятный вечер. Через несколько дней после свадьбы Тищенко показал мне синий мазок на Сфинксе перед Академией Художеств. Когда поздно ночью он возвращался от нас домой, перед сфинксом он заметил кисть и баночку с синей краской. Ему было так весело, что хотелось дурачиться. Взял и сделал мазок. И вот я до сих пор, посещая свой родной город, подхожу к сфинксу и отыскиваю этот мазок, оставленный мне на память так рано нас покинувшим другом. Он был первым, кого мы хоронили. В университете состоялся вечер, посвященный Андрею Вячеславовичу. А. С. Лаппо-Данилевский сказал замечательную речь, полную восхищения и глубокой скорби. Мы издали сборник «А. В. Тищенко», с его статьями и со статьями о нем61. У Андрея Вячеславовича была невеста (не из нашего кружка), девушка с чудными золотистыми волосами и задумчивыми глазами, дочь моего буду
61 Андрей Вячеславович Тищенко: Его работы. Статьи о нем. Пг., 1916.
щего начальника в Публичной библиотеке А. И. Браудо. Смерть Андрея Вячеславовича потрясла нас и наложила надолго траурную тень на наши встречи. Мы постоянно вспоминали его.
О моих товарищах по семинарию И. М. Гревса — А. П. Смирнове и Г. Э. Петри я писал в другой связи, и если мне суждено продолжить мои воспоминания, придется еще много писать о них — они долгие годы были спутниками моей жизни. Третий товарищ по семинарию— А. Э. Серебряков, сын известных революционеров62. Он вырос в эмиграции. Возвращение на родину сделало его пылким патриотом. Он был любознателен, постоянно чем-нибудь увлекался. Был отзывчив и очень суетлив и многоречив. Но в нем не было той устойчивости, той серьезности, как в других членах нашего кружка. Сдержанный, задумчивый М. А. Георгиевский очень скоро отошел от нас. Из него формировался кабинетный ученый. Ф. А. Фьельструп пришел к нам со стороны. Этот датчанин вполне обрусел, но все же в нем сказывалась его скандинавская кровь. Он был чрезвычайно деликатен, аккуратен, как-то особенно изящен. К общественному движению Федор Артурович относился сдержанно и этим отличался от нас (исключая другого «иностранца» — Г. Э. Петри, сына шведа, известного географа, и еврейки, энергичной ученой женщины)63. Фьельструп окончил два факультета: германо-романское отделение филологического и этнографическое естественно-исторического. Этнограф в нем победил филолога. Федор Артурович еще в детстве увлекся индейцами и, окончив университет, совершил путешествие в Южную Америку, жил у индейцев. Мировая война заставила его спешно прервать свою работу и вернуться в Россию.
Среди членов Эрмитажного кружка был «вундеркинд» — так мы прозвали самого юного из нас — Алексея Викторовича Шмидта. Этот молодой историк чувствовал себя как дома в любой эпохе. О нем мы говорили «мальчик-Шмидт все знает». И он отвечал нам на любые вопросы. Он превосходно, как никто из нас, ориентировался во внешней политике. Худой, высокий блондин, чуть рыжеватый, то сдержанный, замкнутый, подтянутый, то внезапно разгоравшийся, жестикулирующий. По матери он происходил из семьи Висковатых. В нем удивительно сочетались немец и русский: немецкая основательность (Tuchtigkeit) с русской широтой. Начинал мальчик-Шмидт свой путь ученого как египтолог, как ученик Б. А. Тураева, а кончил археологом. Как ни грустно, все же надо сознаться, что Алексей Викторович, как и все «вундеркинды», больше обещал, чем смог дать64. О «хохле» Л. Е. Чикаленко я уже писал, как об одном из триумвиров нашего землячества. «Левко» ввел в наш кружок нового сочлена — этнографа Глеба Анатольевича Бонч-Осмоловского. Рекомендовал он нам его робко, неуверенно. «Ведь у нас в Эрмитажном кружке интернационал: есть кацапы, датчане, шведы, украинцы, немцы, евреи, есть потомок итальянцев, — нет только белоруса, — «лапацона». Вы увидите, какая у него улыбка». И Бонч-Осмоловский по-
62 Отец—Эспер Александрович Серебряков (1854—1921) —морской офицер, член военной организации «Народной воли», в 1883—1906 — политэмигрант, сотрудник народнических изданий, после февраля 1917 — член группы эсеров-оборонцев, автор воспоминаний (Революционеры во флоте. Пг., 1919). Мать—Екатерина Александровна (урожд. Тетельман, 1865?—1942) — в 1880-е — участница народовольческих организаций в Одессе, в 1920-е — жена художника П. Н. Филонова (Последнее сообщено М. М. Левис. См. также: Лурье Ф. Провокаторы и полицейские/Нева. 1989. № 11. С. 164—165).
63 Отец — Эдуард Юльевич Петри (1857—1907) — профессор кафедры географии и этнографии Петербургского университета, доктор медицины Бернского университета. Мать—Евгения Львовна (урожд. Гринберг, ум. 1923), этнограф.
64 Одна из последних работ Шмидта (1931) посвящена необычной для него, археолога-полевика, теме: «О развитии взглядов Маркса на первобытное общество» и одновременно с выходом подвергнута разгромной критике партийца В. И. Равдоникаса, обвинявшего автора в том, что тот «отечески журит Энгельса» и не понимает «диалектики Маркса». Не исключено, что именно эта попытка Шмидта адаптироваться к новой эпохе и последовавшее за ней унижение и привела Н. П. к печальному замечанию «больше обещал, чем сделал».
явился в нашем кружке. Одетый не по форме, сутуловатый, он казался каким-то серым, пока не улыбнулся такой хорошей улыбкой, что сразу расположил к себе всех.
Вскоре Левко (так я стал называть Чикаленко, не переходя с ним, однако, на «ты») раскаялся в приглашении им Бонча: «Он другого покроя, чем мы. Сын революционеров, народовольцев, участников процесса 193-х65, Бонч отошел от традиций семьи, он утратил веру своих родителей, он скептик, даже циник. Если бы вы слышали, как он говорил с нашими девушками. О Кавальери он сказал: „Она все еще красива, но кожа у нее уже дряблая"». Меня рассказ Левко обеспокоил. Надо поговорить с Бончем. Чикаленко взял на себя эту миссию. «Или — или!» Он мне рассказал после объяснения, что Бонч смутился; свое неладное поведение объяснил тем, что не сразу понял стиль нашего кружка. С этого дня всякие трения с ним прекратились и он стал у нас «однородным телом». Глеб Анатольевич в той же мере интересовался хевсурами, как Федор Артурович — индейцами. Это были юношеские вкусы романтиков. Как ученый Фьельструп занялся каракалпаками, а Бонч-Осмоловский — палеолитом, сделав замечательные открытия в Крыму. Его многотомный труд начала печатать Академия Наук.
В жизни Эрмитажного кружка особое значение приобрели три девушки, связанные тесной дружбой: Татьяна Сергеевна Стахевич, Мария Михайловна Левис и Вера Михайловна Михайлова. Все они были ученицами М. И. Ростовцева и страстными его поклонницами. Они были захвачены университетскими штудиями. Постоянно при нас горячо обсуждали последнюю лекцию чтимого учителя. Они мечтали о совместной поездке в Италию. В отличие от своих академических подруг они были левым крылом бестужевок. Так они проявили себя и во время забастовки 1910—1911 года. Надо сказать, что среди занимающихся курсисток был раскол, тяжело переживаемый ими. Значительная часть из них под влиянием своих профессоров была противницей академической забастовки. На курсисток профессора оказали больше влияния, чем на студентов.
Все три триумвирки были красивы. У Михайловой — античный профиль и большие орехового цвета глаза. Тяжелые косы, сплетенные сзади большим узлом. Она походила на античную фреску. Несмотря на ее оживление, энергию в Вере Михайловне чувствовалось что-то печальное, неудовлетворенное. И глаза ее мне порой напоминали трагичные глаза фаюмских портретов. Маленькая Левис — собранная, энергичная, с живыми глазами, в которых светился юмор. В триумвирате доминировала Татьяна Сергеевна. Мы называли ее царицей. Ясный высокий лоб, большие глаза, всегда внимательные, точеный нос с небольшой горбинкой, гладко причесанные волосы и нежные, словно точеные руки. Все в ней дышало умом и властностью.
В Париже я покупал много открыток и показывал их Вере
65 По «процессу 193-х» проходила только мать Бонч-Осмоловского Варвара Ивановна (урожд. Ваховская, 1855—1929), участница петербургского кружка Ф. Н. Лермонтова, тогда ей было зачтено предварительное заключение. Отец — Анатолий Осипович (1857—1930) — за связи с землевольцами (позднее — чернопередельцами) был исключен из СПб ун-та, неоднократно подвергался административным арестам и высылкам, в 1890-е в своем имении Блонь Минской губернии организовал артель, бывшую прибежищем многих беглых и высланных революционеров, в 1906 — участник Первого съезда ПСР, в 1909-м — судился по политическому обвинению, но оправдан, перед революцией — гласный Московской городской думы, в 1918—25 — участник кооперативного движения и директор одного из первых совхозов в Минской губернии, затем жил в Москве.
Николаевне Фигнер. Особенно мне понравился женский портрет ломбардского художника Фреди. Увидев его. Вера Николаевна воскликнула: «Да ведь это же моя Таня!» Так вот почему мне так понравилась эта гордая голова! Как же я тогда сам не вспомнил нашу «эрмитажницу»! Никогда мне не говорила Татьяна Сергеевна, что она племянница Веры Фигнер и певца, знаменитого Н. Н. Фигнера, что она дочь друга Чернышевского С. Г. Стахевича, тоже революционера. Другая ее тетя была замужем за анархистом Сажиным.
А между тем Чикаленко, Бонч и я часто бывали у Стахевич.
Дверь нам всегда открывала Татьяна Сергеевна, и ее приветливая улыбка была радостна нам. И мы, поднимаясь по лестнице, спорили, кому первому достанется эта чудесная улыбка холодного и гордого лица. Бонч и Чикаленко уступали дорогу мне. Меня они не считали своим соперником. Но бывали они у Стахевич и без меня. Как-то раз, спускаясь от нее, Чикаленко усадил Бонча рядом с собой на ступеньки и сказал: «Глеб, давайте ходить не вместе. Тогда станет ясно, кого из нас она предпочтет». Бонч передал мне этот разговор, и мы много смеялись над Левко.
Летом 1914 года Стахевич и Михайлова путешествовали по Италии. Мечта их осуществилась. Там, в Риме, они встретились с нашим «мальчиком-Шмидтом». Но встреча эта не только не сблизила их, а отдалила. Им был не по душе педантичный подход Алексея Викторовича к Вечному городу. А Шмидт мне жаловался на Татьяну Сергеевну: «Она жила в Риме, как будто Рим принадлежит ей. Она роскошествовала в нем как герцогиня». — «То есть как роскошествовала? Денег-то было мало?» — «Не в деньгах дело. Она любила гулять по Риму с широко раскрытыми глазами, о чем-то думает и молчит. Она не работала в нем».
Их путешествие было прервано войной. Кровавая бойня пробудила в Татьяне Сергеевне какие-то неведомые нам силы. Может быть, именно здесь проявилась дочь своего отца. Сергей Григорьевич занял позицию пораженца. Он утверждал то, что казалось в начале войны невозможным: «Германия должна сокрушить царскую Россию. А союзники разгромят Германию». — «Как же это будет? Поражение России возможно, лишь если будет разбита Антанта». — «Поживем — увидим». Не раз я вспоминал эту беседу с умным стариком.
На одном из наших собраний вспыхнул спор между оборонцем Серебряковым и пораженцем Чикаленко. Спор был очень го-рячий, хотя и без «личностей». Левко хотел разгрома России не только как русский революционер, но и как украинский патриот. При этом национальное в нем преобладало над интернациональным. Когда Левко ушел, Татьяна Сергеевна, внимательно и молча слушавшая спор, сказала пренебрежительно холодно Серебрякову:
«У Вас интеллигентское разглагольствование, а у него кровь кипит». С этого вечера началось их сближение. Раз, рано утром, я зашел к Левко. У него застал двух украинцев «щирого» вида, и очень
хмурых. Незнакомцы, увидев меня, ощетинились и замолчали. Левко был нездоров, и мне хотелось побыть с ним. Но я чувствовал себя лишним. Я колебался — сидеть ли, уходить ли? Внезапно раздался стук в дверь. Вошла Татьяна Сергеевна. «Щирые» приветствовали ее улыбкой. Я понял, что им Чикаленко говорил о русской девушке, сочувствующей украинцам. Мне вспомнилась внезапно Елена у больного Инсарова и два македонца. Неужели Чикаленко будет Инсаровым нашей Стахевич?
Вскоре зашел ко мне другой оборонец — Бонч. У него был какой-то расстроенный и улыбающийся вид. На мой вопрос, что с ним, он мне ответил: «Вы заметили, как Татьяна Сергеевна похорошела?» Я кивнул головой. «Недавно мы были вдвоем в кинематографе. Она была очень возбуждена, и очень радостна. «Бонч, а Бонч! — говорила она смеясь. — Умна ли я?» «О да», — недоуменно отвечал я. «Умнее Веры, Мани, Манцы?» (имена ее подруг). «О, да!», — повторял я. «Бонч, а Бонч, красива ли я? Красивей ли Веры, Мани, Манцы?» «О, да», — повторял я, а она, смеясь и сияя, спрашивала: «А достойна ли я любви?» — И я все ей повторял: «О, да! о, да!» С ней что-то творится, Николай Павлович». Этот раз и я ответил: «О, да!»
Был день моих именин; собрались у нас не только эрмитажники, но и старые друзья по киевскому землячеству. Когда был разлит мед. Валя Красовская подняла рюмку и запела:
Чарочка моя...
Серебряная,
На золотом блюде
Поставленная.
Кому чару пить,
Кому выпивать?
Пить чару
Свету ли (имя рек)
Выпивать (отчество).
Кто-то предложил по очереди петь эту песню и называть свою милую или своего милого. Дошла очередь до Левко. Он смутился и по своей привычке поднял плечи так, словно хотел спрятать в них голову. Сидевшая рядом Татьяна Сергеевна сказала: «Ну же, признавайтесь, или уж так труден выбор среди многих имен, может быть, нужно дышло, чтобы вырвалась правда?» Сидевший по другую сторону Левко — Борис Толпыго насторожился и, вспомнив свое внезапное признание после удара дышлом на Стрелке Елагина острова, испуганно спросил: «О каком дышле вы говорите?» Татьяна Сергеевна, которой этот эпизод был рассказан без упоминания имен (мы любили говорить: «Nomina sunt odiosa»¹) сообразила, что попала впросак. Но она быстро нашлась: «А помните, Борис Николаевич, Пигасова (в романе «Рудин») — вот он
¹ Имена — ненавистны (лат.).
говорил: пока дышлом женщину не ударишь, правды от нее не услышишь». Левко облегченно вздохнул. Потом он мне говорил: «Ну и умница же Татьяна Сергеевна, ой умница. Дюже умна, аж страшно!» Когда мы начали подтрунивать над Левко, предсказывая ему, противнику церковного брака, близкий венец, он отшучивался: «Цыган собрался жениться на царевне, и все говорили о близкой свадьбе. Когда же цыгана пытали, почему он откладывает — цыган отвечал: я еще не спросил царевну, согласна ли она идти за меня, цыгана, — за малым дело стало». Но наша царевна полюбила своего цыгана. Цыган победил. Они не венчались. Она уехала с ним на его Украину и на долгие годы скрылись они с наших глаз в волнах бурных событий эпохи Гражданской войны на Украине. Вернулась Татьяна Сергеевна в Северную столицу без Левко. С ней было трое детей: две девочки, Ягня и Арыся, и мальчик Сергей, сын ее сестры. Татьяна Сергеевна не была уже больше ни «королевой», ни «царевной». Блестяще одаренная, столь много обещавшая ученица Ростовцева, побледневшая, постаревшая, [она] должна была искать случайные заработки, вплоть до частных уроков. Ее научная специальность — древний Рим — ей не пригодилась. В конце концов, она поступила в Музей революций и работала в отделе Французской революции. Она сохранила свою гордую замкнутость. О Левко Татьяна Сергеевна никогда не говорила. Она посвятила себя своим детям, которых вела по жизни неслабеющей рукой. Гибель Сережи на финском фронте (он пошел добровольцем в 1940г., и она гордилась им), гибель эта подорвала Татьяну Сергеевну. Умерла она в дни блокады в 1942 году. Подруги ее, Маня и Манца, не могли без слез говорить о ней.
Повесть о студенческих годах могла бы кончиться как добрый английский роман моей свадьбой. Я и Таня венчались в лицейской церкви Царского Села. Нам не хотелось свадьбы с родственниками и добрыми знакомыми, свадебного пира с криками «горько». Толпыги взялись нам помочь. Они сговорились со священником. Они в своей комнате устроили свадебный пир (в Софии, на Артиллерийской, № 22). Здесь собрались наши друзья по «37-му номеру», по киевскому землячеству и по Эрмитажному кружку. Это был какой-то итог первой молодости.
Но свадьбой кончаются только английские романы. Когда я смотрю на эти радостные лица, запечатленные на нашей свадебной группе, мне вспоминаются слова Пушкина:
Пред грозным временем,
Пред грозными судьбами.
Это было 5-го февраля 1914 г., это были заключительные месяцы старого мира.
Так Царское Село — город Пушкин — вошел в нашу жизнь. Деревянный особняк с чудесным садом на Малой улице сделался тем местом, где продолжались встречи с былыми эрмитажниками.
И в последний день масленицы, как и в юные годы, садились мы в сани с бубенцами и уносились в снежные дали, которые так манят с вершины Царскосельского холма.
* * *
В сборнике «Вехи» Изгоев напал на русское студенчество66. И не случайно. Сборник этот хотел направить русскую интеллигенцию по другому фарватеру. А студенчество отражало все особенности исправляемой и бичуемой автором «Вех» интеллигенции. Изгоев постоянно опирается на ужасающие данные статистики67. С ними трудно спорить. Но я как историк считаю этот «статистический метод» глубоко ошибочным, если, опираясь на него, строить характеристику культурно-исторического явления без учета тех особенностей, хотя бы количественно ничтожных, которые чрезвычайно существенны для оценки изучаемого явления. А оценивать нужно как отдельную личность, так и общество, принимая во внимание то лучшее, что способна создать эта личность или общественная группа. И статистический метод в этом отношении помочь не может. И я должен с полной категоричностью сказать, что известная мне студенческая среда отличалась высоким идеализмом (конечно, не в философском смысле). Она знала и труд, и вдохновение. Товарищи мои сочетали в себе глубокий интерес к науке, серьезную общественность, часто сочетавшуюся с революционностью, большую чистоту нравов, какую-то рыцарственность. Я, связанный с университетом в течение шести лет, никогда не слыхал ни одного гнусного слова, ни одного непристойного анекдота. Характерно, что большинство работавших студентов не курило. Мы были уже свободны от традиций пессимизма, бесшабашности и пьянства, которые сделались столь характерными для старого студенчества, так настойчиво отражались в художественной литературе и в скорбной русской песне. Достаточно назвать популярную в мои годы студенческую песнь «Быстры как волны все дни нашей жизни».
В университет мы вступали с восторженной верой в его значение для нас и покидали его старые стены, не только не утратив своих верований, но, напротив, с возросшей мыслью оценить его значение для нас гораздо полнее и всестороннее. Но поколение наше покинуло университет в роковые годы истории человечества. Нас ожидала не только чаемая нами революция, но и войны, сменявшие друг друга, все более жестокие, варварские и кровавые.
Изгоев обвинял русских студентов в моральной неустойчивости, в шатком мировоззрении, в легковесности его радикализма. Так ли это? Есть ли все эти недостатки у русской молодежи? Если английская молодежь устойчивее, то потому, что она меньше знает юность, потому, что она в своей массе беднее нашей и ей с годами меньше чего терять. А французская молодежь? Вспомним Гюго,
66 Л. С. Изгоев (Ланде). Об интеллигентной молодежи//Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 182—209. Здесь он утверждал, что «русское студенчество занимается, по крайней мере, в два раза меньше заграничного», «студенческая толпа стадна и нетерпима», а безнравственность и провокаторе тво в студенческой среде широко распространены.
67 Источник приводимых Изгоевым статистических данных о половой распущенности студенчества и т. п.: Членов М. А. Половая перепись московского студенчества. М., 1909; Страница из половой исповеди московского студенчества. М., 1909.
Бальзака, Флобера, вспомним это быстрое превращение богемы¹ в мещанина. Неужели это лучше?
Я знаю немало примеров и среди своих товарищей таких измен своей юности. Приведу наиболее яркие.
Строгий, сосредоточенный, с резко выраженным волевым характером, молодой ученый Вольдемар, ученик Ростовцева, «подающий большие надежды» — в будущем забывший науку авантюрист, диктатор Литвы, спутавшийся с фашистами — Вольдемарас68.
Худенький студент с крупными чертами лица, с римским носом и резкими надбровными дугами, всегда аккуратно одетый, застегнутый на все пуговицы тужурки — Александр Иванович Введенский. Кончив философское отделение историко-филологического факультета, он пошел в Духовную академию и стал священником. В первые годы революции он пытался воскресить церковь, которая, по выражению Вл. Соловьева, была «в параличе». Он хотел стать пророком христианской демократии как Ламенне. Пылкий оратор, Введенский привлек к себе внимание не только молодежи, но и широких кругов интеллигенции. Я хотел послушать речь своего бывшего товарища. Он вышел в черной рясе, узкий, с нервными движениями, с ораторским жестом как католический патер. Но говорил действительно пламенно, страстно, образно, совершенно увлекший свою паству. Мне казалось, я слышу Савонаролу. В нем было что-то чуждое русскому духу, но пламень его тогда был подлинным. Он проповедовал «бедную церковь», причастие из деревянных чаш. Так он начал... и сорвался. Созданная им «живая церковь» была гибридом, она захирела, но Введенский нашел в ней тучную почву для своего преуспеяния. Его диспуты с Луначарским привлекали массы. Во время диспута о дарвинизме и происхождении человека, Введенский эффектно оборвал речь: «Я кончаю. Каждый должен знать своих предков. Если нарком Луначарский убежден, что он произошел от обезьяны, я его не стану разубеждать. Я же произошел от Адама». «Прекрасно, — отвечал Луначарский, — но я предпочитаю подняться от обезьяны до самого себя, чем спуститься от Адама до Введенского».
Отец Александр богател, тучнел, опускался. Он стал коллекционер ценных произведений искусства и красивых молодых женщин. Сохранил ли он Что-нибудь от былой веры? Или присущий ему цинизм все разложил? Кончал он тяжело. Отвергнутый церковью, он окружил себя своими тремя сыновьями, которые были при нем и священниками, и дьяконами. Он пытался примириться с патриархом, но отказался возложить на себя покаяние, которого от него потребовали. К концу жизни он терял зрение и погружался в тот мрак, который давно уже охватил его душу, скованную властолюбием, славолюбием и сладостратьем. А в нем был и ум, и талант, и мечта, и вера. Грустно писать о нем69.
А вот еще пример, последний пример — Иван Адрианович
¹ У Н. П. — богемца (Прим. публ.).
68 Политическая биография Вольдемараса сложна. Говорить о нем как о «диктаторе, спутавшемся с фашистами», неверно. Оценка Н. П. обусловлена отсутствием реальных сведений и некритическим восприятием материалов советской прессы.
69 Верно излагая в целом основные этапы биографии А. И. Введенского, Н. П. не затрагивает объективный политический, антиэкклезиальный смысл деятельности обновленцев в годы советской власти. Религиозное значение попыток подорвать изнутри Русскую православную церковь в тяжелые для нее годы не могло быть скрыто ни от Н. П.-христианина, ни — тем более — от самого Введенского, что в значительной степени и может объяснить происшедшие с последним метаморфозы. (Ср., напр.: Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. Кюзнахт, 1978. Тт. 1—3).
Михайлов — сын известного революционера, который, исполняя роль кучера, умчал Степняка-Кравчинского после убийства генерала Мезенцева. Ваня приходился дальним родственником Миши Оберучева, и это привело его в нашу юношескую среду. Он был совсем молод, всего 16 лет. С задорным хохолком, живыми глазами, быстрыми движениями — он был полон энергии и сознания своих сил и одаренности. Его самоуверенность и беспощадное суждение о слабостях других отталкивали. Помню, как он говорил, что хочет сбросить Герцена с пьедестала, обличить его чуждость истинной революционности. Михайлов не разделял аскетических стремлений нашего кружка (остатков «№ 37»). Он рано женился на скромной девушке Соне. «Чтоб обуздать в себе зверя, надо жениться», — говорил он. Как мы были изумлены, когда Михайлов, столь строго судивший всех, согласился быть оставленным при университете у профессора — ставленника Кассо70. В февральскую революцию он примкнул к эсерам. В Уфе он пытался устроить переворот, но неудачно. Он насытил свое честолюбие при Колчаке. В качестве министра финансов. Я слышал, что Колчак, будучи беспомощным в политике, всецело доверился Михайлову, прозванному «Ванькой-Каином» (ему приписывалась организация убийства его политического противника эсера Новоселова). «Зверя» в себе обуздать ему не удалось и в другом отношении. Он бросил свою Соню, отбил жену у своего соратника (помнится, Алмазова), такую же авантюристку, как он сам. Михайлов сумел вовремя бежать с тонущего корабля адмирала Колчака. Он действовал среди эмигрантов, связавшихся с японцами. После крушения японской державы в Великую Отечественную войну Михайлов был взят в числе других видных белогвардейцев, принес свое покаяние и был по суду расстрелян как изменник родины.
Тяжело мне думать о той метаморфозе, которая произошла с Сергеем Радловым, с Юрием Пятаковым...71 Но можно ли признать эти измены своей честной и чистой юности типичным явлением? Еще раз скажу о ложности статистического метода в вопросах морали. И я с гордостью за свою студенческую юность утверждаю, что общий колорит нашей среды был прекрасен, ибо ее окрашивали лучшие из нас.
70 Михайлов был оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре политической экономии и статистики у профессора И. И. Чистякова.
71 О неточности отзыва Н. П. о С. Э. Радлове см. прим. 4 к данной части. Среди причин такого отзыва — недостаток сведений и переживания Н. П., вызванные смертью сына в блокадном Ленинграде, судьбой дочери, картиной сожженного Царского Села, увиденной в 1944. В свете пережитого Н. П. в 1920—30-е трудно себе представить, чтобы он мог принять за чистую монету обвинения, выдвинутые против Ю. Л. Пятакова в январе 1937 на процессе «антисоветского троцкистского центра». Наиболее вероятно, что «изменой... чистой юности» Н. П. считает реальный путь превращения Пятакова из идейного борца в партийного функционера.
Часть шестая. На чужбине
Норге
Глава I. Лергровик
НОРГЕ1
[Глава I.]
ЛЕРГРОВИК.
Ибсен был любимым писателем моей юности. Его суровая чистота, его глубокая символика, его требовательность к жизни — все это пленяло мой юный ум. Образы Ибсена, воплощенные В. Ф. Комиссаржевской и Элеонорой Дузе, потрясали своей одухотворенностью и женственной силой. Ибсен в начале нашего века шел победоносно из страны в страну. Он подлинно стал мировым писателем. А мне этого было мало. Я хотел понять в Ибсене не только общечеловеческое, но и неведомое мне, ему присущее свое норвежское. Я мечтал побывать на его родине.
Весной 1908 года Лидия Карловна Белокопытова2 (...) собиралась ехать в Норвегию со своей подругой А. В. Дойниковой. Она брала с собой Вову [Белокопытова]. Я и Гриша Фортунатов получили приглашение примкнуть к ним. Со мной собрался мой учитель И. Б. Селиханович.
Мама, расстроенная состоянием моего здоровья, писала Грише, чтобы он не давал мне много читать. Гриша ответил, что если с ним и будет что-нибудь печатное, то только газеты, в которые он завернет вещи. Столь же строгие инструкции были даны и Селихановичу.
Мы выехали на пароходе в Стокгольм, а из шведской столицы в древний Троньем. Здесь все казалось суровым и диким — это родина викингов. Темный храм с покатой чешуйчатой крышей, словно отделившийся от окружающих скал, бурное море, над которым носились с тревожными криками чайки, такие же белые, как гребни волн. В отеле, очень скромном, где мы остановились, высокий широкоплечий моряк играл на фортепьяно что-то из Грига. Вот все, что мне запомнилось о дне, проведенном в древней столице Норвегии.
Отсюда наш путь лежал в Мольдефьорд. Это был тот фьорд, который так томил ибсеновскую «женщину с моря». Мы поселились в нескольких километрах от Мольде, в Лергровике. Вик значит залив, отсюда и викинг. Дом принадлежал семье Бека — крепкого норвежца с длинными усами вниз, как у викинга. Его жена, тихая и кроткая, с темными волосами уже с проседью, с голубыми глазами и прекрасным цветом лица, свойственным норвежским фру и фрекен. Хозяева были очень внимательны и
1 Эта часть воспоминаний Н. П. состоит из четырех отдельных очерков, посвященных пребыванию автора в Норвегии (1908, 1913), Швейцарии («Вилла Шиллер», 1910), Париже (1911) и Италии (1912). Первые два из них делятся на главы. Написаны эти очерки были в разное время и согласно ранним композиционным замыслам Н. П. то включались хронологически в четвертую и пятую части мемуаров, то объединялись в самостоятельное произведение. Предлагаемое нами их положение к тексте соответствует более поздней авторской воле, выраженной в составлении конволюта, хранящегося у его внука М. С. Анциферова. Нумерация примечаний в каждом очерке отдельная.
2 Л. К. Белокопытова — тетка друга юности Н. П. В. Н. Белокопытова, взявшая его на воспитание после смерти матери. Подробнее об этой семье см. в очерке «Вилла Шиллер» на ее. 237—40 наст. изд.
всегда приветливы. Впрочем, фру Бек пугали наши русские горячие споры на отвлеченные темы, она иногда появлялась в дверях и с тревогой спрашивала, не случилась ли какая-нибудь беда. Спор мгновенно стихал, мы улыбались ей. Улыбалась и она, приветливо кивая головой, и исчезала. Спор вспыхивал с новой силой.
Вставал я раньше всех, часов в 6 или 7. На веранде раскладывал книги, тетради. Я не исполнил завета своего дяди Мити: «Коля, брось книги, возьмись за учебники». Со мной были книги, а не учебники. Я занимался греческой философией, делая выписки в толстую тетрадь в зеленой обложке. После философии я переходил к биологии (студенческому курсу Шимкевича). Я конспектировал и перерисовывал в тетрадь те виды морской фауны, которые мог находить на отмелях Мольдефьорда после отлива.
Все кругом переносило меня в мир Ибсена. Я видел перед собой: «Дом с большой крытой верандой, вокруг него сад. Перед верандой на садовой площадке флагшток. Направо в саду беседка со столом и стульями. Сад обнесен живою изгородью, о калиткой в глубине, на заднем плане. За изгородью вдоль берега фьорда идет дорога, обсаженная деревьями. Между деревьями виден фьорд и ряд высоких скал и вершин вдали». Все так, от слова до слова3.
Уж не здесь ли, в Лергровике, жила женщина с моря Элида? Вот идет она вся в белом, длинном платье, словно в саване, с распущенными пышными русыми волосами. Она идет на красные скалы из микроклинного гранита у самого фьорда. Но нет — это, пожалуй, Ирина из последней драмы Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». За этой белой женщиной следует, как ее темная тень, женщина в черном. Обе в глубоком молчании. Они живут в доме Бека. Я узнал, что белая женщина — художница, заболевшая тихим помешательством. В окне ее комнаты выставлены странные этюды, напоминавшие больное творчество Леонида Андреева, писавшего также картины отражавшие безудержную фантазию.
Флагшток перед домом в жизни норвежца означал многое. Флаг развевается — хозяин дома, флага нет — дом опустел, флаг приспущен — в доме покойник. После освобождения Норвегии (ее обособления от Швеции) флаг сделался чрезвычайно популярен. Занавеси, скатерти, костюмы детей — всюду вы могли узнать этот синий крест с белым окаймлением на красном фоне.
Однажды во время моих утренних занятий ко мне подошел норвежец средних лет с веселым лицом. Он хотел видеть хозяев Лергровика. Мы разговорились, и, как это часто бывает в беседе с русским, речь скоро зашла на литературную тему. Я спросил его об Ибсене, Гамсуне, Бьернсоне. Он мне ответил, что Ибсен в целом мало популярен в широких массах. Он слишком пессимистичен. «Мы, норвежцы, больше всего ценим «Бранда» и, особенно, «Пера Гюнта» — это подлинно норвежские произведе-
3 Ремарка к I действию драмы Г. Ибсена «Женщина с моря» дана Н. П. в переводе А. и П. Ганзен.
ния. «Пера Гюнта» можно понять только в Норвегии. Гамсун вовсе не популярен. Своей известностью он обязан Франции, Германии и России. Он слишком эротичен и слишком развинчен (zuenerviert¹). Бьернстьерне Бьернсон — вот наш национальный герой, наша гордость». Собеседник мой был купец.
Солнце над фьордом поднималось все выше и выше. Вдали венчали панораму зубчатые стены Ромсдальских гор с их снежными вершинами. Это были руины древнейших гор нашей земли архейского периода.
В 9 часов на веранде появлялась фрекен и тихо ворковала: «Wer so gut» («Милости просим») — и я складывал книги, чтобы присоединиться к своим друзьям и идти к Smorbrod'y² (утреннему завтраку) с бесчисленными закусками и всегда у нас оживленной беседой.
В хорошую погоду (она бывала не часто) я садился в лодку и плыл, медленно взмахивая веслами, к шхерам. Высаживался на каком-нибудь островке, ложился среди вереска и мха и читал «Пана» Гамсуна в приятном сознании, что кроме меня на острове никого нет.
В горы я уходил с друзьями. Низкие тучи, моросит дождь. Мы кутаемся в наши плащи, взбираясь на гору Тустен. По мере восхождения тучи редели. Пробивались солнечные лучи. Внизу в просветах между тучами сверкали воды фьорда и зеленые острова. Становилось жарко. Что делать с плащами?
«Что делать с плащами?» — спросили мы Уле Бека. «А вы их сбросьте и заметьте кусты, где положили».—«Ну это рискованно, потом и кусты спутаешь». — «Так вы положите их у верстового столба на большой дороге и запомните цифру километров». — «Вы шутите!» — «Помилуйте, ведь вы в Норвегии. Будьте покойны, никто не возьмет!»
Со страхом мы послушались хозяина. И о чудо! Вернувшись через б часов, мы нашли наши плащи нетронутыми у верстового столба. Кто-то мне рассказал (не купец ли, поклонник Бьернсона), что в странах Скандинавии можно увидеть на тюрьме белый флаг — это знак: за ее стенами нет ни одного заключенного.
В дождливые дни, когда ветер, срывавшийся с фиельдов, гудел в трубах, мы собирались у камина. Селиханович часами рассказывал нам о революционных событиях 1905 года, участником которых был сам, о профессорах университета, которые будут и нашими учителями, о студенческой среде. Его характеристики были очень ярки, очень трезвы, часто насмешливы. Слушали мы его с захватывающим интересом. Перед нами раскрывался сложный мир, заманчивый и... пугающий. Какое место суждено нам занять в нем?
В ясные вечера я любил уединяться с Гришей на красных
скалах. Нас пленяла симфония красок северного заката с тончайшими переливами и этот пурпурный покров, который набрасывал закат на фьорды. Мы мечтали посетить манящую нас Ромсдальскую долину.
В Лергровике на красных скалах Гриша застенчиво читал мне впервые свои стихи. Здесь мы взволнованно говорили о вечности нашей дружбы. А белая ночь с ее «прозрачным сумраком» благословляла своей тишиной и фьорд, и шхеры, и фиельды, и нас, русских подростков.
* * *
Мы играли в крокет, когда к нам подошла Лидия Карловна, на этот раз не принявшая участия в игре. Она побывала у норвежской писательницы фру Анкер, которая пригласила ее к себе. Лидия Карловна была очень увлечена своим новым знакомством. Мы, мальчики, слушали ее рассказ с некоторой недоверчивостью, зная склонность Лидии Карловны видеть в людях прежде всего хорошее. В описании наружности фру Анкер с гладко, вопреки моде, причесанными волосами, с напусками на ушах, мы усмотрели своего рода кокетство и прозвали эту эмансипированную особу «норвежской Жорж Санд». Лидия Карловна сообщила нам, что у фру Анкер большой интерес к русским и она хочет видеть у себя всю нашу компанию. Мы охотно согласились, заинтересованные норвежской Жорж Санд, тем более что нам рекомендовали ее как представительницу крайне левого течения в норвежской интеллигенции.
Решено было ехать на лодке, хотя дом фру Анкер находился далеко от Лергровика, по ту сторону Мольде.
Мы подъехали к зеленому берегу, но пристать было трудно. Мужская часть нашей компании вылезла на камень и старалась вытащить лодку с нашими дамами на мель так, чтобы они могли выйти, не замочив ног. Но нам это не удавалось. На берегу стоял очень высокий мужчина интеллигентного вида. Увидев наше затруднение, он без всякого стеснения сбросил с себя штаны и то, что под ними, вошел в воду фьорда, и взялся за борт лодки. С его помощью мы достигли цели. Когда все оказались на берегу, незнакомец оделся и подошел к нашим дамам, «Инженер Анкер, однофамилец фру Анкер, не более. Мне поручено встретить вас».
Мы вместе мы тронулись в путь. Дорожка вела под гору. На склоне виднелся небольшой деревянный домик крестьянского типа. Он был окрашен в темно-красный цвет коричневатого оттенка с белым переплетом окон. Крыша с сильным скатом была покрыта дерном. Яркая зелень приятно сочеталась с окраской домика. По дороге шли дети в белых платьях с множеством маленьких флажков. Поравнявшись с домом, они остановились. К ним вышла высокая фру, также вся в белом, с темными, глад-
ко причесанными волосами. Дети дружно прокричали: «Фру Анкер! Ура! Ура! Ура!» — отрывисто, как кричат в Скандинавии. Шествие продолжалось, а мы подошли к хозяйке дома, которая оживленно приветствовала нас и ввела в свою «избу». Внутри фру Анкер представила нас своим сестрам, старшей Сигрит и младшей Асте. Сигрит была замужем за французским художником Пейроне, который вскоре появился в гостиной. Мы узнали, что художник со своей женой незадолго перед тем провел месяц на вершине совершенно диких фьельдов, живя в заброшенной избушке. Пейроне повел нас в свою студию и показал 12 написанных им там этюдов. Это был вид одной и той же скалы при разном освещении. Северные краски дали возможность художнику-импрессионисту создать 12 совершенно разных картин на один сюжет.
Выяснилось, что Пейроне — синдикалист. Когда мы спросили его, как он отразил в своем творчестве свои революционные идеи, Пейроне пожал плечами и сказал: «В жизни я — революционер, в искусстве я — художник. А впрочем, — добавил он пренебрежительно, — вот вам «идейная» моя работа», — и он показал этюд, изображавший рабочего, грозящего кулаком быстро удалявшемуся автомобилю. Его фигура выражала непримиримую ненависть. На дороге рядом с ним лежал другой рабочий, опрокинутый автомобилем. Ясно было, что художник не придавал особого значения таким своим работам.
Его жена казалась нам настоящей «ибсеновской женщиной», углубленной в себя, внешне сдержанной. Младшая их трех сестер, Аста, поразила нас. Она была небрежно одета. Ее пепельные волосы были растрепаны. Глаза постоянно меняли свое выражение. Аста была такая же затаенная, как и Сигрит, но в то время, как та казалась нам тихой и кроткой, в Асте сидел, посаженный до времени на цепь, бесенок. Странность ее внешности и поведения объяснялась жизнью в Париже, где была в это время мода в среде богемы на известную долю распущенности.
Нас пригласили к ужину. За столом фру Анкер сидела и ее прислуга. Положение прислуги в Норвегии резко отличается от ее положения в других странах. Это дает возможность норвежским студентам и курсисткам на время каникул поступать в отели и рестораны.
После ужина мы собрались опять в гостиной. Подали пунш. Беседа оживилась. Мы «завели» Селихановича. Он рассказывал о событиях 1905 года, Гриша — о боях на Пресне, где участвовал в качестве санитара его старший брат Константин. Я поделился своими воспоминаниями об октябре 1905 года, когда шестнадцатилетним мальчиком спасался в подворотне от пуль драгун. Наши рассказы вызывали не только интерес у норвежских слушателей, но и какую-то зависть. Вот это жизнь!
Конечно, разговор зашел о русской литературе. Мы не выразили наших симпатий к господствующему духу послереволюцион-
ной литературы, считая ее упадочной. Внимательно слушая ее характеристику, инженер Анкер внезапно встал и принес нам серию снимков со скульптур современного норвежского скульптора Вигелянда. Они поразили и оттолкнули нас своей обнаженной чувственностью, болезненной, ничем неутолимой, как у Пшибы-шевского. Видя наше отрицательное отношение, именно видя, так как мы говорили очень мало из ложной деликатности, инженер Анкер сказал: «Вы недостаточно чисты, чтобы оценить нашего нового гения».
Гриша во время рассказа о своей кузине революционерке Кастальской упомянул синдикалиста Северака. Пейроне подскочил на стуле и, протянув к Грише обе руки, воскликнул: «Tien, Vous connaissez Severac!»¹ Это имя подняло русских гостей в его глазах. В этом разнообразном обществе царила фру Анкер. Она была значительно выше ростом своих сестер. Стройная, прямая, с правильными чертами лица, с прической, действительно напоминавшей Жорж Санд, она внушала невольное уважение. Чувствовалось, что весь строй жизни этой «избы» был определен ею.
Фру Анкер во время разговора о литературе рассказала нам о том, как впервые услышала имя Гоголя. Она была еще совсем молода. «В Риме я шла с Бьернстьерне-Бьернсоном, по Via Sistina. Великий писатель остановился перед вторым каменным домом: «Видите эту доску? Здесь писал свои гениальные «Мертвые души» Гоголь». Со стыдом я должна была сознаться, что не знакома с этим русским писателем. И Бьернстьерне-Бьернсон взял с меня слово, что я при первой возможности прочту «Мертвые души». Я прочла и поняла возмущение своего спутника». Речь зашла об Ибсене. В этом доме его все очень чтили. Однако Аста не преминула рассказать, как восторженный поклонник Ибсена встретился с ним в одном обществе. Ибсен, застегнутый на все пуговицы своего длинного сюртука, с холодным видом хранил ничем не нарушцмое молчание. «Восторженный поклонник», выведенный из себя этим молчанием, подошел к Ибсену, ткнул ему в грудь пальцем и воскликнул: «Lebet du?»²
Так в живом обмене рассказами мы засиделись до позднего вечера. Прощаясь, фру Анкер обещала посетить нас в Лергровике.
Вскоре мы принимали фру Анкер и фрекен Асту Анкер у себя. Но что мы могли им показать? Со мной были репродукции картин Левитана. Вот наша скромная природа. К удивлению всех нас, сестры единодушно признали, что Левитан замечательно отразил и их природу. Не ту, что любят иностранцы — фьельды, фоссы, фьорды, а укромные уголки, полные особого обаяния. Сестры попросили нас почитать русские стихи. Я прочел «Ангела». Слушали очень внимательно, а Аста все время движением руки подчеркивала ритм: «Как это замечательно, какой музыкальный язык.
Кто этот поэт?» Я рассказал, и Аста написала в маленькой книжечке: «Лермонтов». Фру Анкер принесла нам чудесных нежно-розовых роз и раздала всем шестерым. Вот все, что у меня осталось в памяти от их посещения. Больше я их не видел.
Впоследствии я узнал, что не должен считать фру Анкер и ее окружение типичным для норвежской интеллигенции. Что это отщепенцы, «испорченные Парижем».
Фру Анкер прислала Лидии Карловне томик своих сочинений, а после смерти Всеволода — письмо, очень тронувшее его тетушку <...>.
Глава II. Ромсдальская долина. Мудрость Гераклита
[Глава II.]
РОМСДАЛЬСКАЯ ДОЛИНА.
МУДРОСТЬ ГЕРАКЛИТА
Пароход причалил к пристани Неса, когда уже был вечер. Мы не задержались в этом поселке; всем хотелось скорее тронуться в путь по берегу бурной Реумы, к подножью могучих фьельдов. Широко разлившаяся в долине при впадении во фьорд, горная река становилась по мере нашего удаления от Мольдефьорда все уже и все глубже. Мы дошли к ночи до светлого отеля на берегу Реумы: Holgenes (Хёлгенес). Мне хотелось побыть одному. Я оставил свой рюкзак в номере и пошел побродить перед сном. Над Рёумой у обрыва склонилась плакучая березка. Ее ствол странно белел в прозрачном сумраке северной ночи. Я сбросил срой синий плащ и вскарабкался на березу. Ночная тишина... Мне вспомнились слова Рубека: «Ты любишь слушать тишину?» Я с наслаждением слушал эту тишину. Все звуки — легкий шелест березы, всплески рыб вблизи и рокот Реумы, доносившийся издалека, из тех мест, где она борется с порогами, — эти звуки лишь усиливали действие царственной тишины. Воды Реумы совершенно прозрачны — виден на дне каждый камень. Зыбкие тени от проплывавших стаек рыб скользят по камням. В Реуме много форелей. Цвет воды — сапфировый. Не отражение неба создает эту чудесную окраску. Реума сохраняет ее и тогда, когда по небу ползут серые, всклокоченные тучи. В этом месте в Реуму впадает другая горная река, но я забыл ее название. У слияния двух рек, разделяя два ущелья, высится громада Тролльтиндерне. Ее зубчатый силуэт действительно напоминает шествие троллей самых фантастических, уродливых форм. Глядя на эти выветренные зубцы нагорья, не только вспоминаешь, но словно слышишь музыку Грига — шествие троллей. По другую сторону ущелья Реумы возносится к небу одинокая скала, увенчанная рогом, — Ромсдальсхорн. Еще левее — зубчатый Венгетиндерне, словно закованный в броню. Направо — прижавшись друг к другу, громоздятся четыре горы — Король (Кунге), Королева (Дронниг), Епископ и Фрейлейн—последняя
с длинной фатой. Первые три получили свое имя от вершин, имеющих формы корон и митры. Склоны этих гор, обращенные к реке, сверкают черными пластами слюды (биотита).
Древнейшие в Европе горы Норвегии отличаются живописностью форм (...). Здесь, в Ромсдале, они кажутся столь высокими оттого, что непосредственно поднимаются от уровня фьорда и каждая стоит особняком, с четко очерченным силуэтом.
В этот ночной час на их снегах еще не угас последний отблеск заката. Вершины нежно сияли в ожидании первых лучей восходящего солнца.
Внезапно над долиной пронесся гул и замер; где-то там, за фьордом, замер он какой-то музыкальной протяжной нотой. Этот гул несся из ущелья. Где-то обвал. На мгновенье все ожило, прислушиваясь к этому гулу. И снова тишина. Теперь еще лучше стало слушать эту торжественную тишину.
Мне вспомнился разговор двух гор [в] «Senilia» Тургенева. Ему, как и Пушкину, красота природы казалась «равнодушной». Человек ощущал не только свое одиночество, но и ничтожность перед ее величием. Это оттого, что оба они противопоставляли свое «я» ее вечности и бесконечности, и космос превращал в ничто это «я».
Мне хотелось включить себя в эту величественную симфонию космоса и ощутить его как то целое, в котором мое «я» у себя на родине. Не равнодушием, а лаской веяло на меня от этих узорчатых снежных вершин, от этих таинственных ущелий, от этой сапфировой реки. Во всем, что окрест меня, — та же великая мистерия жизни, что и во мне. И этой мистерии нет конца и нет преград между мною и миром.
«Тот, кто спит, — замкнут в своем мире, для проснувшихся — мир един», — вспомнился мне фрагмент Гераклита.
Счастье такого пробужденья — вот задача для человеческого общества. Когда будет создан социализм, тогда все будут бодрствующими. Для всех будет мир един, каждый будет жить жизнью всех. И одиночества больше не будет. Но ведь этого не дождаться! Когда душа человечества ощутит свое единство! Труден и долог путь. А нашему веку что дано? Что в силах осуществить мы? И я сказал себе тогда: то, что доступно грядущим векам для всего человечества, то нам доступно теперь, в наши дни, в наши годы через дружбу и любовь. Возлюбившие смогут проснуться в мире едином и будут двое — душа едина. И я стал думать о далекой Тане Оберучевой. С ней, только с ней мне суждено исполнить завет Гераклита. «Для проснувшихся мир един». Когда же кончится сон — утренняя заря еще далека.
В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами
Еще витали сны и скованная снами
Душа молилася неведомым богам4.
4 Первая строфа стихотворения В. С. Соловьева (1885), называемого по первому стиху. В оригинале 4 ст.: «Еще летали сны — и схваченная снами».
Глухо шумели воды Реумы подо мною. Легкий ветер шевелил мои длинные волосы, и ветви плакучей березы касались моего лба. От этого касания я ощущал трепет во всем теле. Словно это было помазание. Я ощутил в себе небывалую силу. Тогда я не знал то имя, которым должен быть назван открывшийся мне мир.
Когда я вернулся в Хёльгенес, мой спутники уже спали.
Глава III. Флатмарк
[Глава III]
ФЛАТМАРК
На следующий день мы рано выступили в поход. Так манила нас Реума, навстречу нам струившая свои хрустальные воды... Высокие палки в руках. Мешки за плечами. В путь!
Долина все сужалась. Мы шли между Ромсдальсхорном и Тролльтиндерне. Ущелье становилось все более мрачным. Тролльтиндерне казался замком, построенным гигантами. Словно отвесная стена, увенчанная зубцами, над берегом Реумы навис горный кряж. Мы назвали Валгаллой — эту гору Тролльтиндерне. И вновь раздвинулось ущелье. Мы подошли к Орхейму.
На этом постоялом дворе лежала книга для записей путников. Мы раскрыли ее и заполнили графы. Фамилия — Белокопытов. Имя — Всеволод. Профессия — студент. Из какого города — из Петербурга. Один из таких листов был заполнен так:
Фамилия: Гогенцоллерн.
Имя: Вильгельм.
Профессия — император Германии.
Откуда — из Потсдама.
Вот еще один след кайзера. Ох как много этих зловещих следов оставлял он в Норвегии!
В Орхейме мы оставались недолго. Хотелось в тот же день добраться до следующего постоялого двора — до Флатмарка.
В пути у нас вспыхнул спор: возможна ли война между европейскими народами. Тень ее уже тогда ложилась на землю. И все же эта мысль казалась безумием. Я горячо говорил: «Как бы ни кипели национальные страсти — все же совершенно немыслима война внутри Европы. Нельзя представить себе, чтобы русские, французы, немцы могли броситься друг на друга, истребляя людей, опустошая земли. Неужели можно вообразить, чтобы эти люди, мирно беседующие у камина в Орхейме, могли убивать друг друга? Народы Европы так сжились уже друг с другом, их культура достигла такого высокого уровня, ее плоды стали общим достоянием». Мысль о возможной войне вызывала головокружение, казалось, что приближаешься к краю бездны <...>.
Спор затих.
На пути мы встретили норвежца, похожего могучим ростом и длинными опущенными вниз усами — на викинга. Из-под рыжеватых нависших бровей сурово смотрели голубые глаза. Он
спросил нас, кто мы. Мы ответили — угадайте. Викинг стал гадать: «Тюски (немцы), англичане, неужели французы!» — Все нет и нет.
«Да кто же, наконец!» — «Мы русские». «О, рюсиске! — И он покачал головой, с которой, казалось, еще недавно снял шлем, и со вздохом сказал: — Революция! — безнадежно махнув рукой и указав на землю. — Революционер, фью — Сибирь! — Он еще раз покачал с грустью головой. — Казак! О казак!» — И наш викинг поднял кулак, как бы сжимая в ней нагайку. Так хотел житель Ромсдаля выразить свое сочувствие русской революции.
Впоследствии нам попалась открытка, на которой мы узнали нашего викинга. Он оказался прославленным охотником на медведей. На открытке викинг был изображен в окружении трех убитых им медведей.
Ущелье вновь сузилось. С высоких фиельдов тонкими светлыми ленточками падают в Ромсдаль водопады. И сама Реума на своем пути в Мольдефьорд, постепенно опускаясь по уступам, образует вереницу водопадов. Около одного из самых больших белеет маленькая деревянная церковь. Она совсем одинока, и кругом нее все так сурово. Мы прозвали ее церковью Бранда. Здесь мы сделали остановку. Но мне не хотелось отдыхать. Меня манила морена, покрытая низко спустившимся в долину снегом. Отделившись от товарищей, я пошел к ней, рассчитывая вернуться через час.
Трудно было пробираться по груде камней, которыми обвалы загромоздили долину. Среди камней разросся лесок, местами — густая чаща. Шел я долго, то спотыкаясь, то раздвигая ветви, пока добрался до морены. Из-под снежной пещеры вытекал холодный ручей. Снег потемнел — несло холодом. Я очень устал, ощущение одиночества охватило меня. Отдыхать не было времени. За фиельдами уже скрылось солнце.
Спотыкаясь о камни, я побрел назад к церкви Бранда. Застал только Селихановича. Он был вне себя от тревоги. С тех пор как я ушел, прошло три часа! Ему уже казалось, что я упал в водопад или низвергся со скалы, в лучшем случае заблудился. Остальные спутники уже давно отправились к Флатмарку. Теперь пошли и мы. Но я едва волочил ноги. Ущелье становилось все уже и уже. Каменные глыбы, целые скалы, сорвавшись в долины с высот фиельдов, загромождали стремительный поток Реумы. Глыбы эти поросли мхом, вереском, можжевельником, соснами. Все чаще встречались водопады. Реума, обтекая нагромождения каменных глыб, бурлила и пенилась. Ее цвет принял изумрудный оттенок. Здесь все казалось полным тайны. Вспоминался мир «Потонувшего колокола»: Раутенделейн, Брегеккехс, Леший. Тени белой ночи в ущелье, рокот Реумы, шелест деревьев — все это манило каким-то особенным очарованием. Но усталость брала свое. Мне хотелось упасть на мох и отдаться этому очарованью сказки.
Ihr nacht euch wieder, schwankende Gestalten,
Die fruh sich einst dem truben Blick gezeigt.
Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Fuhl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?¹
Мой взор был тогда действительно отуманеный, и я был во власти сказочных видений.
Селиханович не давал мне прилечь. «Коля, хуже будет: ляжете и уже не встанете». И я брел, собирая последние силы. Где-то вдали из-за деревьев блеснул огонек. Он придал мне силы. Это, конечно, Флатмарк. Я уже не помню, как добрел до маленького, деревянного двухэтажного домика, перед которым рос могучий вяз. Мы постучали. Этот приветливый домик мне показался раем, и ангел весь в белом с огненным мечом отворил райские врата.
Мы поднялись на второй этаж. Я, не умываясь, но все же раздевшись, свалился на кровать. И тут, казалось бы, должно последовать: и уснул крепким сном молодости. Но это было не так. Какое-то возбуждение мешало сну. Я забылся лишь под утро.
Проснулся я поздно, и когда спустился к смёгеброту, то застал своих спутников кончавшими завтрак. Ночное виденье получило реалистическое раскрытие, как в повестях Гофмана. Кашу подавала прекрасная фрекен, в которой я легко узнал ночного ангела. Уже не трудно было сообразить, что ночью она накинула на себя что-то белое и в руках держала зажженную свечу. У нее был чудесный цвет лица, обрамленного густыми темными волосами. Густые, слегка изогнутые брови над синими внимательными глазами, быстро менявшими свое выражение. Улыбка рождала ямочки на щеках. Внезапно девушка засмеялась: «Die Herren essen die Crutze mit lofein!»² Мы, также смеясь, объяснили ей, что на нашей родине кашу едят ложками. Фрекен нам так нравилась, что мы стали обсуждать, как бы ее сфотографировать в национальном костюме. Наш фотограф Белокопытов не решался обратиться к скромной фрекен со столь смелой просьбой. Не решались и остальные, в том числе и я.
Неожиданно она сама к нам подошла с письмом в руках. Не владеем ли мы французским языком? О, конечно, чем можем быть ей полезны? Она получила из Парижа письмо и не может его прочесть. Мы охотно согласились ей помочь. Фрекен протянула письмо Белокопытову и внезапно, густо покраснев, исчезла. Мы стали разбирать изящный почерк. Студент Сорбонны писал,
¹ Вы вновь со мной, туманные виденья,
Мне в юности мелькнувшие давно...
Вас удержу ль во власти вдохновенья?
Былым ли снам явиться вновь дано? (нем.)
(Начальные строки «Посвящения» к «Фаусту» И. В. Гёте в переводе Н. А. Холодковского. — Прим. публ.).
² Господа едят кашу ложками! (нем.).
сидя в своей мансарде в душный и пыльный вечер, насыщенный запахом бензина. Он вспоминал чудесное ущелье, зеленую Реуму и прелестную фрекен Анну. Но память бессильна воспроизвести черты, хотя и незабвенные. Он хотел бы видеть над своей кроватью в раме портрет фрекен Анны и при этом обязательно под норвежским флагом и в национальном костюме. Прочтя об этой просьбе, мы весело рассмеялись.
В комнату внезапно вошла фрекен Анна. Лицо ее пылало негодованием: «Die Herre lachen!»¹ Мы успокоили ее, объяснив причину нашей веселости. Ведь мы сами хотели того же, о чем просил ее парижский корреспондент. Согласна ли она исполнить его просьбу, к которой присоединяемся и мы: фотографический аппарат с нами. Фрекен Анна так охотно и так просто согласилась. Мы вышли во двор и стали ждать под флагштоком, на котором развевался столь чтимый в Норвегии флаг. Вскоре вернулась фрекен Анна. На ней был национальный костюм. Белая, ослепительно белая, расшитая кофта. Черный корсаж и черная юбка, прикрытая фартуком с красными полосами. Корсаж был отделан золотом.
Лицо милой фрекен было холодно и серьезно. Брови слегка сдвинуты, и глаза под длинными и густыми ресницами казались темными. Фрекен Анна хотела, чтобы мы поняли: снимается она не для нас.
Вечером мы были уже опять далеко.
Ромсдаль остался позади.
Снимок вышел мало удачен, но мы все же решили доставить его во Флатмарк. Было начало августа. Приближался день моего рождения. Мне исполнялось девятнадцать лет. Хмурые косматые тучи скрыли вершины ромсдальских фиельдов, но ненастная погода не удержала меня. Мне хотелось встретить новый год своей жизни в тиши и уединении. С Мутом я отправился в Ромсдаль. Тучи наводнили ущелье. Завывал ветер. Холодно было по-осеннему. Только Реума осталась такой же сапфировой. Мы остановились в Хёлгенессе. В этом отеле все было приветливо. У пылающего камина чопорные англичане вели неспешные и скупые беседы. В длинных сюртуках они походили на пасторов. Я поставил на столе своей белой комнатки бледно-алые розы, подаренные мне фру Анкер. Я писал письма Тане Оберучевой в Россию, читал «Юлиана-отступника» Ибсена. Помню, меня поразили тогда слова, определившие суть его трагедии: «Старая красота уже не прекрасна, а новая истина — не истинна».
Эпоха конца античного мира всегда волновала меня. Я уже тогда ощущал закат старого мира, схождение обветшалых концов и неведомых начал. Так в раздумье проводил я день своего рождения. К вечеру вышел с Мутом на балкон. Тучи еще клубились в долинах, но над ними, высоко поднятые в небесах, сияли
¹ Господа смеются! (Нем.).
вершины Ромсдальсхорна, Венгетиндерне и Тролльтиндерне. Вершины казались оторванными от земли и вознесенными в недостижимую высь.
Мы могли на следующий день тронуться в путь. Прошли мимо троллиных скал, миновали Орхейм, оставили позади церковь Бранда. К вечеру увидели вновь приветливый огонек Флатмарка. На наш стук снова спустилась фрекен Анна и сказала нам своим тихим, грудным голосом: «Es freut mich sehr, Sie wiederzusehen»¹.
Но Флатмарк этот раз выглядел иначе. Он был переполнен немцами, съехавшимися в эти края ввиду прибытия в Моль-дефьорд кайзера Вильгельма. От сигар и трубок в комнате был сизый туман. Грубые «вицы»², вульгарный смех. Эти господа в тирольских фетровых шляпах с перьями, в высоких чулках, чувствовали здесь себя «ganz gemutlich»³. Некоторые из них заигрывали с фрекен Анной. Мне стало очень не по себе. Я поднялся наверх, в ту же комнату, и снова долго не мог заснуть. Мысль о судьбе милой фрекен, постоянно окруженной подобными павианами, которым она должна прислуживать, мне не давала покоя. Так хотелось стать на ее защиту, охранить ее честь и покой.
Глава IV. На родине Пера Гюнта
[Глава IV.]
НА РОДИНЕ ПЕРА ГЮНТА
Прошло 5 лет. И я, и Мут — мы оба стояли на пороге новой жизни. На серебряной цепочке я носил тайно обручальное кольцо. Мут также был уже женихом. Свой «мальчишник» мы хотели справить прощальной поездкой в Норвегию. Первоначально я звал Мута в Париж. В свою первую поездку, увлеченный старым городом, его искусством, его историей, я мало видел современный Париж. Мут и вовсе не был в этой прославленной «столице мира». И все же он убедил меня ехать опять в Норвегию. Я уступил не без боя. В Христианин (Осло), сидя в гостинице, слушая свист ветра и удары капель мелкого дождя о стекла окон, я с тоской думал о прекрасном Париже и внутренне ругал Мута, да и себя самого за уступчивость. Из Христианин мы решили ехать в Гудбрансдальскую долину — на родину Пера Гюнта, в это троллиное царство с его «Доврским дедом». Река Логен протекала в южную сторону по Гудбрансдалю — она имеет своим источником то же озеро, что и Реума, которая течет к северу. В Ромсдале мы собирались задержаться ненадолго во Флатмарке.
Покинув поезд на станции Отта, мы наняли двухколеску и тронулись в путь. Небо все время было в косматых и волнистых тучах. Дул резкий, холодный ветер, капли дождя все время кололи лицо. Мутно-зеленый Логен пенился и бурлил. Черные гри-
фельные склоны Доврских гор блестели от дождя. Перед нами ехала такая же двухколеска. На постоялых дворах мы встречались с нашими спутниками. Это был старик-англичанин с длинной бородой, напоминавший Бернарда Шоу, и его жена-старушка со спокойным и ясным лицом. Оба ласковые, оба веселые. Они садились у камина и требовали горячего пунша. Англичанин покрывал свою жену большим серым плащом, и они смотрели на огонь, который играл на их лицах красноватыми бликами. Чувствовалась долгая дружная жизнь, прожитая ими. Дети выросли. Обзавелись своими семьями. А старики решили странствовать по белу свету с сознанием хорошо пройденного совместно жизненного пути.
На одной из станций мы познакомились. Сперва попеняли на погоду; постепенно перешли на литературные темы. Англичанин, вопреки традиции своей нации, оказался весьма словоохотливым. Он заговорил о Шекспире и весь загорелся. На память стал читать отрывки. Мне запомнилось — из «Генриха VIII»; читал он превосходно, с большой силой, с передачей ритма шекспировской речи и, вместе с тем, с красочными интонациями.
Гудбрансдальская долина — путь, по которому ездили короли из Осло в Троньем для коронации. Это — уголок Норвегии, наиболее сохранивший свой вековой характер. Поселков почти нет. Под высокими скалами, на пригорках изредка попадаются домики с крышами, сложенными из черного графита. Их стены выложены из больших валунов. Над входом — рога оленя. Вот на такой маленький домик Пер Гюнт мог легко посадить свою мать Озе. В тех домах, что побольше, живут крестьяне. Но как это понятие здесь дурно вяжется с их социальным обликом. На стенах можно видеть родословное древо, которое ведет свое начало от XIV— XV веков. Фамилию эти крестьяне носят, как графы и бароны — по своему месту, так нашу фрекен Анну нужно было бы называть «из Флатмарка» (von Flatmark).
Позднее, в 40-х годах, читая роман Унсет «Сигрит — дочь Лауренса», я легко мог понять социальную характеристику этого Лауренса, не то крестьянина, не то барона. Это особая социальная разновидность норвежца. Пока мы ехали по Гудбрансдальской долине, мы ни разу не видели солнца. Оно встретило нас своим мягким северным светом, когда мы перебрались в Ромсдаль и увидели прозрачные воды Реумы. Этот свет кажется таким ласковым, таким не жгучим, что его можно принять за тихое сияние луны.
Глава V. Обручальное кольцо
[Глава V.]
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Скоро Флатмарк. Встретит ли нас фрекен Анна? Много воды пронеслось по руслу Реумы за эти пять лет. Вряд ли милая девушка работает еще здесь, в этом светлом, приветливом домике. Она, конечно, забыла нас. Стоит ли и нам напоминать о себе? Ведь за
эти годы тысячи лиц промелькнуло мимо нее. И мы решили не говорить о себе. Первое, что бросилось нам в глаза — был мощный ствол памятного нам вяза перед домом. Коляска остановилась. Мы расплатились и вошли внутрь постоялого двора. В передней мы увидели портрет Марии Стюарт и виды Эдинбурга. Они были прикреплены к доске, густо обклеенной всевозможными марками. Встретила нас молодая женщина, с худощавым лицом, несколько болезненная. Ее каштановые волосы были гладко зачесаны назад. Темно-синие глаза и густые, изогнутые брови — внезапно напомнили нашу фрекен. Неужели это она?
«Анна!» — раздался грубый голос. Девушка попросила нас подождать. Мут обернулся: «Как же она изменилась!» — «Это, верно, из-за своего мужа — обладателя этого грубого голоса». Через минуту фрекен Анна вернулась и повела нас, не говоря ни слова, наверх, в ту самую комнату, где я когда-то провел две беспокойные ночи. Неужели же это случайность? Закрывая дверь, фрекен Анна нам улыбнулась: «Ведь это вас я видела лет пять тому назад, вы — русские студенты?» — «Да, мы те самые, что ели ложками кашу!»
Первые дни я не обращал никакого внимания на фрекен Анну. С бесконечной радостью я отдался норвежской природе. Порой мне чудились еще романтические образы прежних лет — эти «шванкенде гештальтен»5.
Умчат нас в царство ласки
Семь белых лебедей;
Неправда ли, мы в сказке,
Мы в книжке для детей.
Но и Раутенделейн, и Брегеккехс уже мало занимали меня. Красота того, что есть, была так могущественна в своем величии, что фантазия смирялась перед ней <...>. Эти ландшафты таили в себе неведомое мне бесконечное очарование. Тени на склонах кудрявых фиельдов были сиреневыми, как цветы вереска. Меня поразили знакомые по России цветы: колокольчики, цикорий, васильки; они были крупнее, чем у нас, и ярче.
Я взбирался на скалу, ложился под соснами и между кустами вереска на этот изумрудный, густой и мягкий мох и подолгу лежал на груди, всматриваясь в воды Реумы и следя за тенями от рыб, которые пробегали по таким же изумрудным камням на дне прозрачной реки, или переворачивался на спину и смотрел сквозь нависавшие ветви на небо, на линии фиельдов и на пенистые струи водопадов. Иногда я отваживался погрузиться в быстро текущие воды. Было очень холодно. Реку ведь питали водопады, которые несли талые ледниковые воды. Я испытывал легкий ожог и, несколько раз взмахнув руками, чтобы переплыть от скалы к скале, выбирался на берег.
Как я радовался полному безлюдию! Мне хотелось быть совсем одному, даже без Мута. Хотелось растворить себя в этой
5 «Шванкенде гештальтен» — «туманные виденья» (нем.) — см. стр. 227.
торжественной природе, потерять себя в ней. А возвращаясь к себе, думать о невеста, которая где-то далеко, на пути в другое полушарие, где-нибудь уже на Амуре6. Не скоро получу я вести от нее! Мне так хотелось на время отойти с ней от своей обычной жизни и укрыться вот в таких местах, чтобы наполниться силами для строительства жизни.
У меня на груди на цепочке висело обручальное кольцо, которое я получил в пасхальную ночь 25 марта 1912 года. Это кольцо я ощущал как живую, реальную связь со своей невестой, как залог грядущего счастья.
Как-то раз я пошел один к северу, к церкви, которую мы пять лет тому назад прозвали церковью Бранда. Долго просидел у водопада и потом не спеша повернул обратно к Флатмарку. У себя в комнате, переодеваясь, я обнаружил исчезновение цепочки с кольцом. Вряд ли кто поймет то отчаянье, которое овладело мною.
Не помня себя, я бросился к берегу Реумы. Я обшарил все места, где был днем. Тщетно! Как все померкло, каким стало чужим, холодным, враждебным. Я бросил на дно Реумы монетку в 20 эре, чтобы утром посмотреть, затянет ли ее песком. Я пошел к церкви Бранда не спуская глаз с дороги в 8 км. И назад я шел, с жадностью всматриваясь попутно в каждый камень, травинку, шишечку. В ущелье сгущались тени, как тогда на пути во Флатмарк пять лет тому назад. Озаренное неугасимой зарей, небо сияло над ущельем, где все стало таким мрачным. Во Флатмарке под густо-красным вязом сидели Мут и фрекен Анна. Они часто здесь на скамейке вместе заканчивали день. Увидев мое расстроенное лицо, они стали допытываться, что случилось со мною. Я им рассказал о своей беде. Фрекен Анна внимательно выслушала меня, все понимая.
«Успокойтесь. Все будет хорошо. Кольцо вернется к Вам. Даже если форель проглотила его, найдя на дне Реумы, оно не погибнет для вас. Рыбаки выудят форель, ее зажарят, и я подам вам ее с кольцом на блюде».
Говорила она это без малейшей иронии, с полной серьезностью и уверенностью. Но ее слова не успокоили меня. Еще долго я шарил по комнате, перебирая свои книги, свои вещи. В совершенном отчаянье я лег спать, и все мне чудилось кольцо, лежащее на моей груди. Рано утром я побежал к тому месту, где бросил в реку монету. Ее уже не было видно. Все же я разделся и рылся в песке Реумы, пока не окоченел от холода, и совершенно посиневший выбрался на берег. Угасла последняя надежда...
Понурый, обессиленный, я побрел домой, держа в руке шляпу. Вдруг я услышал, как что-то звякнуло в ней. Снова вспыхнула надежда. Я не сразу решился ее погасить, хотелось продлить это ожидание. С осторожностью я стал ощупывать подкладку и прощупал кольцо! Не в чреве форели, а в недрах моей шляпы, но оно нашлось. Я пришел с ним к фрекен Анне. Она нисколько
6 С 17 июня по 24 августа 1913 Т. Н. Оберучева гостила у своего отца, армейского полковника Н. М. Оберучева, служившего на Дальнем Востоке.
не удивилась. «Ведь я же сказала, кольцо не может пропасть, оно вернется к вам».
В эти дни на другом конце нашей планеты моя. Таня также во время купания потеряла обручальное кольцо. 23 июня она писала: «Есть ли у меня Коля? Есть ли у меня опора? Есть ли у меня мечта?.. Или это тоже сон? Вчера, лежа с открытыми глазами в темноте, я вдруг с ужасом почувствовала, что его нет... Что это все снилось или мечталось... Я невольно ухватилась рукой за обручальное кольцо и поднесла его к губам. Нет, это все правда. Тогда здесь все это сон! Совместить такой контраст в сознании я не в силах... Кольцо для меня единственное связующее звено с прошлым. И подумать только, что я его чуть не потеряла третьего дня... Разве поймут здесь, отчего я так отчаянно рыдала... Нет, я не должна осуждать их за равнодушие, за легкую насмешку, которая сквозила через холодную и деятельную помощь. Кольцо нашли»7.
7 В дневнике Т. Н. Оберучевой этого времени о потере обручального кольца не упоминается (ОР ГПБ. Ф. 27. Дневник Т. Н. Оберучевой 1912—13 гг.: Тетрадь 12 (III). Л. 45—65).
Глава VI. Фрекен Анна
[Глава VI.]
ФРЕКЕН АННА
Потеря и нахождение кольца сблизили меня с фрекен Анной. С того дня мне также захотелось сидеть по вечерам со своим другом и с нею под старым вязом. Фрекен Анна рассказала нам, что сюда приезжала комиссия по постройке в Ромсдале железной дороги. Инженеры намечали трассу так, что «Ульм» должен был быть срублен. Ей едва удалось отстоять его. «Ну что же — проведут здесь железную дорогу, но я не думаю, что люди от этого станут лучше или счастливее». Говорила она тихо, словно прислушиваясь к своим словам, словно беседуя сама с собой. Казалось, она отвыкла делиться с кем-нибудь своими думами.
На нашу откровенность она ответила рассказом о себе. Ее родина — не Ромсдальская долина. Она родилась в Гудбрансдале. Там жизнь замкнулась и застыла. Дети повторяют отцов. Ибсен представил гудбрансдальцев как Троллиное царство Доврского деда. Закон их жизни — довольствоваться собою. «Troll, hab dich selbst genug». (Мы подумали сейчас же: как исказил перевод Ганзенов замысел Ибсена: «будь самим собою доволен». Это совсем не то, что «довольствуйся собой».) Фрекен Анна была рада переехать во Флатмарк. Ей казалось, что открылось окно в мир и повеяло волной свежего воздуха. Здесь она видела много людей. Это ущелье — большая дорога — мимо нее шли люди из одной жизни в другую, задерживаясь на день, на два. Она с жадностью слушала всегда рассказы о неведомах странах, городах и людях. И фрекен Анна просила нас рассказать о России. Здесь, во Флатмарке, несколько раз останавливался Бьернстьерне-Бьернсон. Он говорил с ней о России, говорил с глубокой симпатией.
После этого вечера я начал читать фрекен Анне курс лекций
по истории русской интеллигенции, начиная с Пушкина: «Онегин и Татьяна». Тогда еще во мне крепко сидел Овсянико-Куликовский.
Накануне Ивановой ночи фрекен Анна предупредила нас, что во Флатмарке будет праздник. К ней приедут ее земляки из Гудбрансдаля. Она просила нас отнестись снисходительно, без насмешек к ее родичам и землякам. С утра к вязу стали подъезжать на двухколесках родовые крестьяне. На них были высокие цилиндры неимоверных размеров и сюртуки необычайной длины. Это были коренастые люди, широкоплечие и широкобедрые, с длинными руками, в кожаных тяжелых перчатках. У некоторых вместо галстуков — красные шарфы. Их жены — в тугих корсетах с огромными брошками и огромными гребнями в высоко поднятых прическах. В этот день стол Флатмарка был сплошь покрыт разными смергосами¹. Подали национальное блюдо — рёмегрёт — кашу желтого цвета, похожую на тесто, с топленым маслом и черничной подливкой. Есть ее было трудно. Мут нагнулся ко мне — «это пища троллей». Вино подавали фруктовое. Смех становился громче. Лица горели, но пьяных не было. После обеда все пошли отдыхать на лугу на копнах свежескошенного сена.
Вечером фрекен Анна села к пианино. Началась пляска. С выкриками, с притопыванием, с маханьем руками. Но ничто не нарушило степенного характера празднества. Фрекен Анна с тревогой поглядывала на нас, призывая добродушной усмешкой к снисходительности. А в нашем сознании ее музыка заглушалась той мелодией, которая вспоминалась нам — «Пляской Троллей» из сюиты Грига «Пер Гюнт». К вечеру гудбрансдальцы запрягли свои двухколески и поехали к водоразделу. Когда во Флатмарке после пиршества все было приведено в обычный порядок, фрекен Анна подошла к нам. «Ну, как?» Мы выразили свое полное восхищение всем виденным. «Ведь это же исконная Норвегия». И все же мы не удержались, чтобы не сказать о троллях. Она засмеялась: «Да, конечно, это и есть тролли». И фрекен Анна рассказала нам легенду о троллях, поселившихся в той церкви, которая стояла за Флатмарком и была засыпана обвалом.
Наступила Иванова ночь. Огни не были возжены. На скошенном лугу, у снопов свежего сена еще долго слышался смех. Это справляли языческий праздник батраки и батрачки.
* * *
После Ивановой ночи возобновились наши вечерние беседы под вязом. Я заканчивал свой курс, не пожалев мрачных красок для характеристики упадочной литературы после 1905 года. Фрекен Анне сделалось грустно: «Когда вы говорили о русских
¹ Smorges (норв.) — холодные закуски, перед обедом или ленчем.
70-х годов, о Вере Фигнер — я думала — да, вот именно так я и представляла себе русских. И вот такой конец!» «Какой же это конец — это временные сумерки, или затмение. Все это пройдет». Ну а как вы смотрите на любовь? Ведь не так же, как этот Санин». «Это вы могли знать и без нашего ответа». «О, конечно, это я так зря. Вы знаете, лет пять тому назад я иначе думала о любви. Я тогда увлекалась Кнутом Гамсуном и Мопассаном. Теперь я поняла, что это все ложь».
И мне представилась эта девушка такой, какой я видел ее впервые, с этими ямочками, от которых было такое сияние на ее лице. Я представил себе, как она тогда могла мечтать о том, кто сумеет ее оценить, полюбить. Кто уведет ее за собой из этого темного ущелья в мир, залитый солнцем. А здесь полгода вовсе не видно низкого зимнего солнца, скрытого фьельдами.
Придет какой-нибудь воитель Гельголанда и похитит ее. Может быть, это будет тот студент из Парижа. Все это только наша фантазия или догадки. Конечно, мы не сообщили о них фрекен Анне.
Из русских классиков она больше всего увлечена Л. Толстым. Об уходе его и смерти я рассказывал ей в один из наших вечеров. Особенно оценила фрекен Анна те страницы «Войны и мира», где было описано Аустерлицкое небо князя Андрея, первый бал Наташи и встреча их в Мытищах.
Наше пребывание во Флатмарке шло к концу. Я получил столь желанную телеграмму из Благовещенска от своей невесты. Мне казалось, что Флатмарк уже не должен нас долее удерживать. Мут также был готов тронуться в путь.
Последний вечер под вязом. Фрекен Анна рассказала нам на прощанье, что у нее есть жених, который живет в еще более узком ущелье. Что она свою фамилию Хюле скоро променяет на Шири. Она много болела, и врачи советуют ей переехать на юг, где много солнца. Но ей все равно. Она переедет скоро к своему жениху, чтобы стать его женой.
Свой рассказ о себе она закончила словами: «Я теперь поняла, что в жизни главное — труд и долг. Нужно много трудиться, нужно сильно устать — и тогда — тогда будет хорошо». В ответ я привел ей заключительные слова из «Дяди Вани»: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка».
Грустно стало нам, когда мы сложили наши рюкзаки и взяли высокие палки. Фрекен Анна простилась с нами, как с друзьями. Ее синие глаза задумчиво смотрели мимо нас, когда она пожимала наши руки. Мы пошли по уже хорошо знакомой дороге, все оглядываясь назад. Фрекен Анна стояла под вязом и махала нам белым платочком.
Из Осло мы послали ей «Дворянское гнездо» на норвежском языке. А она прислала нам милое письмо и свою карточку, где она снята с женихом. Фрекен Анна осталась жить в нашей памяти. И когда я слышу мелодию Сольвейг, я вспоминаю о ней.
* * *
К вечеру мы подошли к Хёльгенесу. Мне этот отель запомнился внутри покрытым карельской березой. Все это было фантазией памяти. Но Хёльгенес действительно сиял белизной. Сбросив мешок и поставив в угол палку, я побежал на берег Реумы искать ту березку, сидя на которой думал о фрагменте Гераклита. Я ее легко нашел. Здесь ничто не изменилось. Снова сидел я на ее склоненном над рекой стволе и снова ветви березы касались моего лба. Я смотрел, затаив дыхание, кругом себя. Конунг, Дрониг, Тролльтиндерне, Ромсдальсхорн, Венгетиндерне — создавали ту же торжественную панораму. Так будет века, тысячи, миллионы лет. И вот теперь у Реумы, в том же самом месте, задыхаясь от пронизывавшего меня чувства счастья, я думал о том, что я не один, что я с Таней в одном мире. Сбылось и с такой полнотой то, что я поставил как высокую задачу своей личной жизни. С какой легкостью шел я назад в Хёльгенес! В зале у круглого стола с газетами стоял Мут. Лицо его выражало волнение. Он молча указал на газету. Я прочел: Болгария напала на Сербию...
Мне вспомнился наш спор, когда пять лет назад мы шли по пути из Орхейма во Флатмарк. Уже тогда ложилась сумрачная тень на нашу землю, но наше сознание, наше нравственное чувство протестовало против трагической возможности европейской войны. Нападение болгар на сербов было воспринято мною, как начало общеевропейских войн. Это начало конца старого мира. Цепляясь одна за другую, потянутся цепью войны. «Европа выйдет из фур своих, будет втянута в общий разгром» (Герцен).
Мне стало трудно дышать Потрясенный, я вышел на тот балкон, с которого увидел пять лет назад вершины гор, освобожденные от туч, вознесенные над ними. Теперь фьельды были залиты кровавым закатом. Словно рубины алели их снега. Сердце сжалось во мне. Мир покидал землю.
Я ощутил в этот час тот разрыв между личным и общим, разрыв, который лишь ненадолго исчезал в дальнейшей моей жизни.
Личная моя жизнь казалась поглощенной в том свете, который брезжил мне здесь, над Рёумой, в ту ночь. Мое личное счастье будет огоньком хрупкой свечи, который я понесу через жизнь, как в Великий Четверг, сквозь ненастье исторического дня.
Надвигающийся хаос уничтожал все, что я любил, но уничтожал в жизни, а не во мне. Свет, загоревшийся внутри, был свет неугасимый <...>8.
8 На опущенных страницах: поиски «подлинной Норвегии, скрытой от туристов», рыбачий поселок Буд на севере страны, быт семьи Бьорсет, окрестности поселка. Доктор Петер Рамбек и его жена — местные интеллигенты. Конфликты доктора с пастором и учителем. Концерт заезжих музыкантов в Буде. Шторм на море и спасение Н. П. рыбаками Буда.
Германская политика в Норвегии. Встреча Н. П. с кайзером Вильгельмом. Немецкие матросы в Норвегии. Бегство немецкого матроса с корабля из-за того, что не успел вовремя вернуться на поверку. Размышления Н. П. о Второй мировой войне в Норвегии, о свободолюбии ее народа.
Вилла Шиллер
Глава I. Семья Белокопытовых
ВИЛЛА ШИЛЛЕР
Глава 1.
СЕМЬЯ БЕЛОКОПЫТОВЫХ
В этом эпизоде моей жизни главная роль принадлежала моему рано умершему другу. Его звали Всеволод Николаевич Белокопытов.
Это было в 1910 году — тридцать лет тому назад. Он носил тогда длинные волосы. Ровными русыми прядями спускались они к плечам, слегка приподнятым: Всеволод Николаевич несколько горбился. Носил он темно-синие галстуки и завязывал их свободным бантом. Его костюм больше ничем не выделялся. На нем равно не было ни франтовских складочек, ни неряшливых пятен или «пузырей» на брюках у колен. Его голубые глаза глядели из-под взъерошенных бровей задумчиво, даже печально. <...>
Белокопытовы — старый дворянский род, владевший поместьями в Киевщине, в Чигиринском уезде. Их родовой дом, по старинной легенде, строил сам Растрелли. В действительности этот дом с классическим портиком был построен в духе классицизма а конца XVIII века.
Отец Всеволода Николаевича — Николай Николаевич — готовился стать «идейным помещиком», культуртрегером в своем районе. Окончив кадетский корпус вместе со своими братьями, он, вместо того чтобы идти на военную службу, поступил в Сельскохозяйственную академию, что под Москвой в Петровском-Разумовском. Это был «добрый малый» с курчавой головой русых волос. Он увлекся «идейной курсисткой» Володиной, женился на ней и, окончив академию, уехал в свое имение Дубраву, близ родового поместья Белокопытовых Поповки с его «растреллиевским» домом. Там он занялся сельским хозяйством.
«Идейности» ему надолго не хватило. Из года в год Николай Николаевич полнел, кудри его редели, он обрастал бытом, превращаясь постепенно в ординарного «степного помещика». С ужасом его жена узнала, что он «меняет ее на первую попавшуюся скотницу». Первый ее порыв был взять с собой двоих детей и бежать из Дубравы, чтобы начать самостоятельную жизнь, достойную идеалов юности. Но на это не хватило душевних сил. Елена Николаевна замкнулась в себе. Перед ней стала трудная задача: воспитать своих детей вне отцовского влияния, вне помещичьих традиций их рода. Она стала отводить детей от отца, не скрывая от них своего презрения к нему. Но этим путем отрицания она не могла надеяться воспитать их в согласии со своими представлениями о человеческом достоинстве. Нужно было дать детям образцы положительные, показать им, какими могут и должны быть настоящие люди. Но где их найти? Разочарованная Елена 1 Николаевна все же хранила в себе способность увлекаться людьми и настойчивое упорство в отыскании «настоящих людей».
У Николая Николаевича были две сестры. Старшая — Ольга и младшая — Ксения. Обе чрезвычайно добрые, нежные, хрупкие, внутренне изящные, последние цветы последних «дворянских гнезд». Обе вышли замуж за молодых ученых-физиологов. Старшая — за Илью Ильича Мечникова, впоследствии всемирно известного ученого, младшая — за Алексея Григорьевича Радзиевского, впоследствии профессора Киевского университета. Несмотря на всю противоположность характеров, они были счастливы в браке.
Елена Николаевна возложила большие надежды на родство с И. И. Мечниковым в отношении будущности своих детей. Она стала усиленно поощрять их рано определившиеся вкусы к естественным наукам. В 1900 году возила детей на Всемирную выставку в Париж и жила у И. И. Мечникова в Севре, где находилась его дача. В их семье создавался особый культ автора «Этюдов оптимизма». Но, к сожалению, непосредственное влияние Ильи Ильича могло быть лишь весьма кратковременным. Нужно было на родине найти подходящую семью, которая могла бы послужить опорой в деле воспитания двух мальчиков из распадающейся семьи.
Такая семья нашлась. Это были Фортунатовы. Глава семьи, Алексей Федорович, был профессором в Петровском-Разумовском. (...) Трудно было встретить более спаянную семью, крепкую взаимным уважением и любовью. Их простой и строгий быт, возбужденность их умственных интересов, широта их образования — все это не могло не привлечь одинокую Елену Николаевну. Старший сын ее Вова (так в детстве звали Всеволода Николаевича) нашел себе друга в одном из младших сыновей Алексея Федоровича—Григории (в дружеском кругу—Мут). Это был худой, костлявый мальчик с приподнятыми плечами, серыми глазами, внимательно глядевшими из-под тонких бровей, выразительными губами, на которых иногда играла насмешливая улыбка. Одевался он в серую курточку с кожаным ремешком и высокие сапоги, из которых торчали всегда не убранные ушки. Он был молчалив, застенчив. В 10 лет увлекался Достоевским.
У Фортунатовых бывал и я. Там в 1901 году познакомился с Белокопытовыми. Нас соединил общий интерес к птицам, которых мы покупали на Подоле на рынке, где был древний фонтан «Самсон». Еще более нас соединяла тогда игра в рыцарей и чтение Вальтера Скотта, а потом и Шекспира. Мы любили забегать в киевские трущобы Глубочицы — забираться в овраги, в чужие сады — в жажде необычайных приключений. Это длилось недолго. Через год Фортунатовы уехали в Москву — в Петровское-Разумовское, и Елена Николаевна, оставив мужа в Киеве, увезла за Фортунатовыми своих детей, настолько она ценила влияние на них этой замечательной семьи. Я не терял их из виду. Мы переписывались. Я пользовался всякой возможностью, чтобы побывать в Москве. Шли года. В 1907 году, уже юношами, встретились мы трое в Гурзуфе, чтобы вместе провести лето.
Мы были полны планов на будущее. Вопросы философии, этики, политики горячо волновали нас. С ними сплеталась любовь к поэзии и интерес к новым поэтам — А. Блоку и другим символистам. Учитель Вовы — Анатолий Николаевич Дроздов, студент юридического факультета, социал-демократ (большевик), прекрасный музыкант со своим творческим лицом, — прививал нам вкус к Вагнеру. Жизнь расстилалась перед нами пестрой, яркой, манящей своими таинственными, неведомыми далями. Но наш текущий день казался мрачным. Только что была разогнана 2-я Государственная, Дума, на которую возлагалось столько надежд. В Одессе я был свидетелем отвратительной манифестации «черной сотни». Торжествовала реакция. Мутная волна упадочных настроений проникла в литературу. В поэзии запахло «козлоногим». (...)
Мы были смущены силой растущего зла. Надо было готовиться противопоставить себя темным силам крепчающего хаоса. Елена Николаевна была настороже со своим страхом любви. Ей казалось, что мы вступаем в нашу зрелость в самое неблагоприятное время. Что мы окружены соблазнами, перед которыми не может устоять наш юношеский темперамент.
Была ночь. Мы возвращались из Суук-Су. Там был бал. Никто из нас не танцевал. Но мы усиленно собирали призы в пользу одной девушки, которую между собой называли Корделией. При входе у Генуэзской крепости нас ждала Елена Николаевна. Крайне взволнованно попросила всех трех пройти с ней на скалу к морю. Я никогда не забуду эту ночь. Елена Николаевна рассказала нам всю историю своего брака с необычайной для нас, юношей, не ведавших жизни, откровенностью, которая порой мне казалась тогда граничащей с цинизмом. Она говорила о том ужасе, который овладевает ею при мысли, что ее дети могут последовать примеру всех Белокопытовых. Она заклинала нас блюсти свою чистоту, хотела внушить нам свой страх любви. Лицо ее горело. Глаза блуждали. Минутами она казалась безумной. Ее сын сидел бледный, изредка растерянно посматривая на нас, и куда-то прятал свои глаза.
Мы разошлись, когда над морем начало светлеть небо. У нас на душе было смутно. Нас смутила такая откровенность с подростками этой зрелой, пожившей женщины. Ее страх за нас казался не только ненужным, но даже оскорбительным. И Елена Николаевна казалась смущенной своей исповедью. Она с того дня как-то отдалилась от своего старшего сына и делала попытки сблизиться с младшим, Тусей (Константином), — живы, красивым подростком, более одаренным, чем брат, но вместе с тем гораздо более поверхностным и легко подходившим к жизни.
Осенью того же 1907 года Елена Николаевна умерла. Оставшийся без матери Вова не вернулся к отцу. Он вместе с братом переехал к своей тетке Лидии Карловне, жене их дяди Василия
Николаевича Белокопытова (офицера в отставке). Через полгода умер и Туся.
Прошло два года. Летом 1909 года Всеволод Николаевич, уже студент естественного факультета Петербургского университета снова жил с Гришей Фортунатовым в Гурзуфе у Генуэзской крепости. Здесь он познакомился с художницей Марией Николаевной Чибисовой, которая на несколько лет была старше его. Через несколько месяцев она стала его невестой. Всеволод Николаевич мучительно переживал свою первую любовь. Не принесла она радости и его невесте. Брак не состоялся — к весне они разошлись. Разошлись они тихо, без взаимных оскорблений, но с большим надрывом в душе. Мир казался страшным. Хотелось какой-то гармонии, тишины, ясности. Всеволод Николаевич искал их в музыке, и полная глубокой печали музыка Шумана более всего влекла его.
Весной 1910 года он собрался ехать в Грецию, Египет и Палестину со студенческой экскурсией. В солнечную Элладу вез свой семинарий и профессор Ф. Ф. Зелинский. Ехать было очень соблазнительно. Я сделал свой взнос. Но когда было все готово, пришла телеграмма: «Едем Швейцарию — Италию. Белокопытов, Фортунатов». Я, не колеблясь, изменил свой маршрут. (...)
Глава II. Первый день на Вилле Шиллер
Глава 2.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ВИЛЛЕ ШИЛЛЕР
Я подводил итоги этому первому, столь счастливому для меня студенческому году в имении Курбатовых, в Рязанской губернии. Оттуда я проехал в Москву, где встретился с моей матерью и Гришей Фортунатовым, с которым через Киев [мы] отправились за границу. Всеволод Николаевич нас ждал уже в Бруннене, на берегу Фирвальдштетского озера. Мы избрали это место нашей первой стоянки, потому что оно было связано с героическим прошлым Швейцарии: с клятвой в долине Рютли и с подвигами легендарного Вильгельма Телля, дань увлечения которым (по Шиллеру) я отдал еще в киевский период своей жизни.
В Бруннен приехали к вечеру и остановились в первой попавшейся гостинице. Я пошел на почту спросить, нет ли чего-нибудь poste restante¹. Мне подали письмо, оно было от Всеволода Николаевича. В нем сообщалось, что комната для нас снята на Villa Schiller, и очень удачно. Оказалось, что этот пансион не в Бруннене, а за городом. «Sie miissen eine Halbestunde bis Villa Schiller zu laufen»², — объяснил первый попавшийся мне навстречу гражданин кантона Швиц. «Если бежать требуется полчаса, то сколько же нужно идти?» — подумал я и тронулся в путь. Несколькими светлыми домами с черепичными крышами и зелеными жалюзи
оборвался маленький приозерный городок Бруннен. Передо мною расстилалось глубокое, сине-зеленого тона, узкое Фирвальдштетское озеро, сдавленное с обоих берегов высокими лесистыми горами. Кое-где высились торжественно венчающие их скалистые вершины с полосками и пятнами/ вечных снегов. Все это живо напомнило мне норвежские фьорды. Между дорогой и озером шелестели камыши. К их шорохам вскоре присоединилось журчание горной реки Муоты. Я перешел мост. Нигде не было видно признаков какого-либо пансиона. Мне вновь встретился швейцарец. Он объяснил, что Villa Schiller на горе. Действительно дорога пошла в гору. Вскоре я заметил очертание какого-то четырехэтажного здания. Вот оно скрылось за хвойным лесом, в который врезалась моя дорога. Я шел недолго. Направо возникла часовня— за ней возвышалась Villa Schiller. Высокая лестница, которая вела на веранду, была обставлена пышно разросшимися олеандрами в зеленых кадках, зеленый трельяж был увит плющом. Я позвонил. Дверь открыла молодая девушка с темно-каштановыми волосами и чрезвычайно живыми карими глазами. От ее блузы и белого фартука веяло свежестью и той же приветливостью, которой озарялось ее лицо.
«Herr Belocopitoff ist hier?»¹ — спросил я. Девушка кивнула утвердительно и повела меня на второй этаж. На стук в дверь отозвался хорошо знакомый мне голос, приглашавший войти. Я открыл дверь. Всеволода Николаевича в комнате не было. Я заметил его на балконе. Увидев меня, он с необычайной для него живостью бросился навстречу и обнял меня. «Наконец-то, как я рад, здесь так чудесно», — говорил он взволнованно. Меня обрадовал его вид. Он посвежел, глаза прояснились; он как-то выпрямился. «Коля, посмотри, ведь это просто замечательно», — говорил он, выводя меня за руку на балкон. Я осмотрелся, и на меня повеяло такой тишиной, таким величием, что я ничего не ответил, а только глядел кругом, отдаваясь радостному чувству гармонии. Солнце уже скрылось за горами, и сизые тени легли на спокойные воды.
«Вот, посмотри, как алеет эта гора, — сказал Всеволод Николаевич, протянув руку по направлению к остроконечной горе, которой замыкалось озеро. — Это Бристеншок. Она отделяет нас от Италии. Но, Коля, не будем спешить в эту обетованную страну. Поживем здесь?» — «Да, не будем спешить», — ответил я, весь во власти очарования озером четырех кантонов. «Вот видишь, там, правее, — гора, кончающаяся красноватым рогом, — это здесь самая высокая вершина — Уриротшток; вон там, под нею, у самых вод — изумрудное пятно — это и есть Рютли». «Ты уже успел побывать там?» — спросил я быстро, и в голосе моем он должен был уловить недовольную ноту. «О нет, что ты! Я ждал тебя! Теперь лунные ночи, мы поедем туда на лодке с тобой попозднее,
¹ Господин Белокопытов здесь? (нем.)
к ночи». — «Однако, что же это я задержался. Надо идти за мамой и Мутом», — сказал я, как бы очнувшись. «Да ты подожди, я хочу показать комнату, которую наметил для вас». Мы поднялись выше этажом. Комната была с тем же чудесным видом на озеро.
«Ну вот, — продолжал Всеволод, — ты устал — сиди здесь. А я схожу в Бруннен и привезу твоих спутников».
Я согласился. Сел в кресло, и стал глядеть кругом, и дышал полной грудью, отдаваясь тихой радости, наполнявшей все мое существо. Как хорошо будет здесь подготовиться к Италии. Лучшего места и не придумать. Я не заметил, как пробежало время. Раздался хруст гравия под колесами экипажа. Это ехали наши. Я сбежал вниз и скоро привел маму в наш номер. Пока мы приводили себя в порядок после дороги, раздался мягкий звук гонга, разнесшийся по Villa Schiller. Это был зов к ужину. На гонге был изображен олень.
В большой SpeisesaaFe¹ Я встретил своих друзей, уже успевших переодеться. Но гостей в этом Gasthaus'e² было немного. Мы сейчас же познакомились с фрейлейн Хинзе из Берлина. Назвать ее красивой было невозможно. Однако острые черты ее лица были оживлены мыслью. Беседа у нас завязалась легко, и ей не мешали вкусные блюда, которые сменяла перед нами некрасивая Fraulein³ в очках, одетая совершенно так же, как та милая девушка, которая открыла мне дверь. Вино Бахтоблер также содействовало живости беседы. Фрейлейн Хинзе выразила удивление. что мы — русские, несмотря на то, что все блондины (впрочем, строго говоря, блондином был лишь один Всеволод Николаевич). До сих пор ей попадались лишь черные русские: очевидно, ей приходилось встречать преимущественно евреев, которых было много в Швейцарии среди эмигрантов. Когда мы объяснили ей разницу между языком русским и украинским и отметили, что даже схожие слова звучат из-за разницы выговора по-разному (любовь с окончанием -фь по-русски, любоу — по украински, без «ве»), она, всплеснув руками, воскликнула: «Die Gluklichen, Sie haben Liebe ohne Wehl» («Счастливцы! У них любовь без муки»). Эта шутка была живо воспринята Всеволодом Николаевичем. Вечер заканчивали мы на террасе перед большим залом (Halle). Там за маленькими столиками разместились гости и попивали пиво. Им подавала не фрейлейн в очках, а та девушка, которая встретила меня. К фрейлейн Хинзе подсел бравый мужчина с большими холеными усами — это был венгерский ротмистр. Он за пенистым бокалом пива старался рассмешить
свою собеседницу, быть может, стараясь убедить ее, что и для нее есть Liebe ohne Wen.
Озеро там, внизу, лежало черно-синее, погруженное в ночную дрему, пока лучи луны, поднявшейся над скалами, не покрыли его поверхность полосой серебристой парчи. Цветы олеандра нежно благоухали. Ночные сфинксы гудели над ними своими острыми крыльями, запуская в тычинки свои длинные хоботы. Аромат олеандров звал нас еще дальше на юг. Он манил Италией. Но нам было хорошо и на Villa Schiller, на берегу Фирвальдштетского озера.
Глава III. Поездка в Рютли
Глава 3.
ПОЕЗДКА В РЮТЛИ
На следующий день мы знакомились с окружающим с той жадностью к новизне, которая свойственна юности, да и только ли юности! Освободившийся из-под власти ежедневных впечатлений и в особенности повседневных забот, созерцательный элемент человеческой природы приобретает свежие силы, пробуждается бескорыстный интерес ко всему окружающему, смысл которого в радости общения с миром. Все случайные, малозначащие лица приобретают внезапную значительность. Что за жизнь бьется за этими неведомыми и неузнанными лицами? В особенности этот интерес к лицам обостряется в чужих краях. В этом одна из многих прелестей «духа путешественности» (выражение И. М. Гревса).
Сейчас, через тридцать лет, уже не вспоминаешь ясно промелькнувшие тогда лица. Они сливаются в один тип лица, приветливого, возбужденного радостью наступившего нового дня, лица, восприимчивого к новым чаемым радостям. Вероятно, такие лица были и у нас, русских постояльцев Виллы Шиллер. Сейчас мне вспоминаются две пары. В одной из них — почтенная бюргерка, уже седая, несколько чопорная, но полная нежной и гордой любви к своему сыну — молодому приват-доценту Берлинского университета. Лицо сына — открытое, очень серьезное юного гелертера, но сохраняющее в себе что-то детское: в больших круглых глазах и в живых, угловатых движениях. Я вспоминаю, как сей ученый муж в одних трусиках (тогдашний быт это строго запрещал) мчался по набережной Бруннена, подпрыгивая от крайнего возбуждения и сотрясая воздух восторженными криками: «Смотрите, смотрите — ведь это же цеппелин!» А над озером, словно в прозрачной воде, подобный огромной допотопной рыбе, сверкая своей чешуей, плыл воздушный корабль.
Этот приват-доцент оценил игру моей мамы и готов был сидеть часами рядом с пианино и слушать звуки Чайковского или родных ему Шуберта и Бетховена, и глаза его становились печальными и какими-то кроткими... Он не был типичным представителем берлинской науки...
Запомнилась мне и другая пара — это уже не были мать и сын, это были новобрачные. Он — «красавец-мужчина», статный,
с великолепными черными шелковистыми усами, полный жизнерадостности, — М-г Рене — сотрудник «Matin». И она, красавица, под стать ему, шаловливая и страстная. Ничем не смущаясь, М-г Рене на террасе Виллы Шиллер, презирая косые взоры окружающих, сажал «прекрасную даму» себе на колени и ласкал ее, как ему вздумается. М-г Рене искал в нас сообщников в своем презрении к «этим немцам».
Знакомились мы и с окрестностями Villa Schiller, в особенности привлек нас Ausflug (вылет), как выражались здесь путешественники, к долине Рютли.
Мы выехали поздним вечером. Луна уже всплыла над Урирот-штоком. Мы плыли одни в лодке, рассекая серебристую реку лун-ности привлек нас Ausflug (вылет), как выражались здесь путе-к Schillerstein¹, остроконечной каменной глыбе, поднимавшейся над озером, с мемориальной надписью в честь певца Вильгельма Телля. От нее было уже недалеко до Рютли.
Мы причалили. Железная цепь загромыхала, раздался плеск воды. Все звуки были так четки! Мы привязали лодки. Но только собрались ступить на землю, как злобный лай больших псов, взявшихся неизвестно откуда, смутил нас. Мы решились вернуться в лодку и ждать. Лай «псов сторожевых» стих. Тогда мы, опасаясь каждого звука, начали красться по лугу, чтобы обмануть их бдительность.
Эта таинственность подогревала нашу романтическую настроенность. Тут и там высились мощные, вольно разросшиеся сосны. Где-то в стороне, словно прозрачная от пятен света и тени, поблескивавшая мелкими кружками стекла в окнах, виднелась шале (хутор). Кругом было все пусто. За лужайкой вздымались крутые скалы, над которыми горели бледные звезды, терявшие в лунном сиянии свою лучистость и радужность. С этих скал в ту памятную ночь 1291 года спускались во главе с Вальтером Фюрстом граждане кантона Унтервальден. В центре лужайки возвышался камень — им, по преданию, было отмечено место, где окруженные гражданами четырех кантонов, подняв руку, их вожди Штауфахер (кантон Швиц), Мельхталь (кантон Унтервальден) и Вальтер Фюрст (кантон Ури) принесли свою клятву бороться против тирании за свободу Швейцарии. В знак поддержки им во всех поселках и одиноких шале (хуторах), на всех окрестных горах запылали костры.
На камне было высечено:
Hier standen die Vater zusammen
Fur Freicheit und heimisches Gute.
(Здесь стали на борьбу наши предки
За свободу и общественное благо².)
Я не мог не вспомнить, стоя под этими скалами, в тени ночной этих сосен, перед этим камнем, что Герцен назвал место своей клятвы с Огаревым — Воробьевы горы — своими ребяческими Рютли. Было тихо. Собаки этот раз не были встревожены нами. Где-то вспорхнула птица и едва слышно поплыла между соснами — это была птица ночи.
Так же тихо, стараясь держаться в тени, мы прокрались к берегу и сели в лодку. Снова загромыхали цепи — и снова выскочили псы. Но мы уже, всплеснув веслами, направились к Бруннену. Над городом поднимались две высокие остроконечные скалы — Миттен. Днем они красные, а теперь казались сиреневыми. Справа к югу виднелись огни Симплона, а налево от Бруннена в чаще дерев — несколько огоньков нашей Villa Schiller.
Мы заговорили о ее обитателях. Та девушка, что открыла мне дверь, произвела впечатление не только на меня, но и на моих друзей. Она появлялась редко. Обычно за обедом (гостей тогда было мало) подавала некрасивая девица в очках. Мы узнали ее имя — фрейлейн Адельгейде. Но имени привлекательной девушки мы не знали. Смущала нас и изменчивость ее облика. То она казалась ниже, темнее, веселее, и, пожалуй, даже что-то задорное появлялось в ней. Когда она бывала задумчива, она казалась неж- нее, стройнее, выше, и волосы ее не были темными. Но ей всегда было свойственно то радушие и гармоничность во всех движениях, которые так понравились мне при первой встрече.
Вернулись мы домой поздно. Halle уже опустел. Скатерти с небольших столиков были сняты. Опрокинутые стулья поместились на столах. Нас встретила моя мама. Она загадочно улыбнулась и, сказав, что приготовила нам сюрприз, села за пианино. Едва раздались первые звуки, открылась дверь и вошли две девушки. Мы с изумлением глядели на них. Наша «таинственная незнакомка» распалась на два существа. Обе они оказались поразительно похожи. Только одна была ростом выше, стройнее, волосы ее были светлее. Обе были одеты совершенно одинаково. Обе казались очень смущенными. Они робко поклонились нам в отдалении и подошли к пианино.
Послышались торжественные аккорды, и они запели чистыми, звонкими голосами:
Hier standen die Vater zusammen.
Это был швейцарский народный гимн, воспевавший клятву в Рютли.
Так мы познакомились с сестрами Цернциц. Ту, что была повыше, звали Жозефиной, сестра ее звалась Анной.
Глава IV.Семья Цернциц
Глава 4.
СЕМЬЯ ЦЕРНЦИЦ
В ближайший воскресный день к гостям вышла вся семья Цернциц. Дородный pater familias¹ в тирольской шляпе с пером, нос прямой и короткий, длинные рыжеватые усы и бородка кисточкой. Хозяина Villa Schiller сопровождал огромный дог — Мец. Мать семейства — невысокого роста, с лицом усталым и всегда озабоченным, с доброй улыбкой. Два сына: старший — красавец Франц и младший, еще подросток, Гуго. Братья совсем не походили друг на друга. Франц был бравый малый атлетического сложения, знающий себе цену, младший — застенчивый и болезненный — был мало заметен. Хозяева справлялись у подходивших к ним гостей-постояльцев об их здоровье и о том, понравилась ли им Villa Schiller, а также, пришелся ли по вкусу ужин... Все, конечно, отвечали самым благожелательным образом, и контакт был установлен ко взаимному удовольствию.
Кроме трех сестер: Адельгейды, Жозефины, Анны — была еще четвертая сестра — София, смуглая, с красноватым лицом, большими карими глазами. Она хромала и, видимо, очень смущалась своим недостатком. О ее существовании мы узнали много спустя.
Больше всех семьей Цернциц был занят Всеволод Николаевич. С радостью он сообщил нам, что наши хозяева вовсе не немецкие швейцарцы. Их фамилия Чернчич. Отец семейства — словак; мать — из Тироля. Славянским происхождением наш друг хотел объяснить все достоинства вызвавшей его симпатии семьи.
— Так они оправдали итальянское истолкование превращения Чичероне в Цицерона, а Чезаре — в Цезаря, — заметил с иронией Мут.
— Как это?
— Да как же. Ведь итальянцы уверяют, что римляне говорили так: «Чичеро поехал в Сичилию». А немцы, не умевшие справиться с трудностями звука «ч», исковеркали на свой лад благородную речь римлян и заставили «Цицерона ездить в Сицилию». История превращения наших миль1х хозяев из Чернчич в немецкий Цернциц — вполне оправдывает патриотическую гипотезу итальянцев.
Мы рассмеялись над этим филологическим экскурсом нашего молчаливого Мута.
Далее выяснилось, что семья Цернциц владеет не только Виллой Шиллер, но [и] небольшим поместьем. Имеют своих лошадок, коров, коз и целое куриное царство. На склонах горы расположен их фруктовый сад. А по дороге в Люцерн у них есть свои каменоломни, где работают итальянцы. Оказывается, все тяжелые работы в Швейцарии выполняются итальянцами. А мы-то все твердим об итальянском doice far niente².
Кроме отеля здесь еще имеется при дороге дешевый ресторан для прохожих.
— Этот Цернциц — порядочный жох, — заметил в заключение своего доклада об экономической базе нашего хозяина Всеволод Николаевич.
— У него очень мало наемной прислуги. Вся работа лежит на дочерях. Адельгейда в основном прислуживает за табльдотом постояльцев, Жозефина и Анна не только помогают ей, не только приводят в порядок весь дом, но и прислуживают в ресторане.
Тут Белокопытов вспыхнул от негодования.
— Подумайте, там, в ресторане, они должны обслуживать всех этих подвыпивших грубиянов и выслушивать их пошлые шутки. Это ужасно!
Мы согласились с нашим впечатлительным другом, и наша симпатия к «славянину» ослабла.
Пока было мало гостей и сестры не так уставали, мы все вместе собирались поздно вечером в большой Halle. Жозефина и Анна пели нам, все время стараясь угодить нашим вкусам. Так, они, лукаво переглянувшись, спели: «Не шей, ты мне, матушка, красный сарафан» («Mutterlein den roten sarafan»), A однажды, очень долго пошептавшись, осмелились в четыре руки сыграть Ре-tersburges Schlitschufahrt¹. Но нам особенно нравилась тирольская песенка:
Tiroler sind lustig
So lustig und froh².
Тут разница между двумя сестрами обозначилась резче. Жози (так звали ее домашние) пела, всегда опустив глаза и слегка склонив голову набок. Анни же — подняв голову и весело улыбаясь, причем ямочки на ее щеках выступали с полной отчетливостью.
А мы сидели у открытых дверей террасы, откуда доносились из сада ароматы и где теперь было черно, так как луна вставала уже поздно и не показывалась из-за гор. Эти вечера с пением становились все реже. К августу Villa Schiller, к удовольствию своего хозяина, наполнилась большим количеством гостей. Наши сестры были завалены работой и редко выходили к нам.
Нас уже перестали интересовать новые лица. Нам надоели эти привычные возгласы восторга: «Kolossal! Pyramida!!!»³ И мы, уходя из этой пестрой, нарядной толпы в горы, повторяли слова
Lebet wohl, ihr glatten Sale,
Glatte Herreni Glatte Frauen!
¹ Петербургское катанье на коньках (нем.).
² Тирольцы веселы//Так веселы и радостны (нем.).
³ Колоссально! Пирамидально!! (нем.).
Auf die Berge will ich steigen
Lachend auf euch niederschauen¹.1
И только вечером, поднимаясь к себе, мы старались повидать наших сестер, чтобы пожать им руку и услышать их прощальное приветствие: «Angenehme Rune»².
* * *
По воскресным дням наши сестры ходили в церковь. Мы попросили как-то разрешения сопутствовать им. Они не удивились нисколько и радушно приняли нас в свое общество.
Утро было изумительное. Ранний час. Озеро, в еще затененных берегах, лежало зеркально спокойным, отражая прибрежные скалы. Вершины гор были освещены еще косыми лучами. Снега искрились, отливая цветами зари. Легкие пушистые облака окружали вершины венками эдельвейсов. В долинах на зеленых склонах — рассеянные белыми цветами стада коз. Легкое позванивание бубенчиков сливалось с призывным звоном церковного колокола. Иногда в эти прозрачные зовы врывались странные звуки—не то человечьи, не то птичьи, не то звериные. Сестры, улыбаясь, говорили: «Это наши jodein»³— вибрирующие звуки, которые я слышал только в Швейцарии. Они издаются горлом, путем выдыхания и выбрасывания воздуха. Изобразить их графически невозможно.
Мы обогнули гору, на которой стояла Villa Schiller, и вступили в Muotathaal⁴. Горная Муота была прозрачна и окрашена в сине-зеленые тона. Ее струи шевелили каменистое дно, и воды гудели. Мы перешли через старый крытый деревянный мост. «Если бы вы видели, какой замечательный мост в Люцерне! — воскликнула Анни, делая круглые глаза. — Он длинный-предлинный и посреди реки меняет свое направление. Между столбами на треугольных досках — картины нравоучительного характера. И там, знаете, изображены нечистые духи, такие страшные! Крыша у моста двускатная, вот под ней и размещены такие треугольные доски. А при входе на этот мост надпись:
Iuh stamme aus der alten Zeit
Hab’ viel gesehen von Leid und Neid»⁵.
Окончание этой надписи мне не запомнилось. Смысл ее: «Теперь я стар и заслужил внимание своих сограждан». Но Анни этот стих знала полностью.
¹ Прощайте, гладкие (скользкие) души,
«Гладкие» гости, «гладкие» дамы!
Я хочу подняться на гору,
Смеясь, взглянуть на вас вниз! (Нем.).
² Покойной ночи (нем.).
³ Пение на тирольский манер (нем.).
⁴ Долина Муоты (нем.).
⁵ Я происхожу из старого времени,
Видел много горя и зависти (нем.).
1 Последняя строфа Вступления к «Путешествию по Гарцу» Г. Гейне. В переводе В. А. Зоргенфрея: «До свидания, паркеты,//Гладкие мужчины, дамы,//Я хочу подняться в горы,//Чтоб смеяться там над вами». Текст исправлен нами по оригиналу.
Сестры Цернциц стали расспрашивать нас, какие девушки в России. Им отвечал Всеволод Николаевич: «У нас хорошие девушки. Только они очень мудреные. Все ищут лучшей жизни и редко находят ее. Они ищут правды на земле. Много страдают и рано становятся пессимистками».
— Как, еще молоды и уже пессимистки? — воскликнула Анни. — Да разве это возможно?
Жози слушала, внимательно склонив голову. Она молчала. Всеволод Николаевич шепнул мне: «Наш пессимизм им непонятен, как это хорошо!»
Мы подошли к городу Швиц — столице кантона. Там не было ни магазинов, ни высоких отелей. Небольшие патриархальные домики с садиками за высокими стенами, рынок с фонтаном и храм. Когда сестры входили в него, нам невольно вспомнилась Гретхен2. Они были в соломенных шляпах с широкими полями и черным бантом. Платья розового цвета с белой полоской и небольшим вырезом; короткие, приподнятые рукавчики; длинные вязаные перчатки до локтей; на шее — черные бархатки с гранатовым крестиком.
Входя в храм, они присели на одно колено. Лица стали сосредоточенны и строги. Они обмакнули правую руку в святую воду, находившуюся у врат храма в прикрепленной к стене чаше, и быстро перекрестились. Навстречу неслись плавные звуки органа. Мы все сели на одной из задних скамеек. Свободных мест уже было мало. Помню, меня странно поразили быстрые движения священника и серебристые колокольчики во время эвхаристии. Общее пение молящихся (у всех на коленях были молитвенники) сливалось с органом. Сквозь цветные узкие витражи падал приглушенный солнечный свет и расцветал на колоннах, на полу, на молящихся синими, красными, лиловыми бликами.
На кафедру поднялся монах. Это был францисканец. На нем был коричневый хитон с отброшенным капюшоном, подпоясанный грубой веревкой. На босых ногах — сандалии. Лицо его с длинной бородой было сурово. Чувствовалось, что он пришел издалека, — пыль покрывала его.
— Die Welt ist ganz ausverdorf¹, — начал он свою речь. Тема — мир во зле лежит — была им развита в тонах Савонаролы. Речь его была груба, но в ней не было деланной риторики пасторских проповедей.
Истекшей зимой я много работал над Средними веками. Вживаясь в эту столь оклеветанную эпоху, я чувствовал для себя новые области духовной жизни. Для меня научные занятия не были ранковским удовлетворением чистого познания того, «как оно в сущности было». Я искал в Средних веках уроков для построения жизни, ждал откровений от утраченной новыми веками правды.
¹ Мир совершенно высох (нем.).
2 Гретхен — героиня «Фауста» И.-В. Гете.
Католицизм тогда привлек мой интерес. Стройность системы, которую я воспринял преимущественно по Эйкену3, смелый охват им всех сторон жизни, его властная педагогика, его учение De civitate Dei¹, его выразительная эстетика привлекли меня, Я понимал те соблазны, которые манили П. Я. Чаадаева и покорили В. С. Печерина. Но сам я по существу оставался чужд ему. Лишь во Франциске Ассизском я ощутил себе родное, но это «родное» воспринимал тогда ошибочно как что-то русское, созвучное Нилу Сорскому и старцу Зосиме, т. е. духу Оптиной пустыни или Серафиму Саровскому.
Все же мне было приятно, что я нахожусь у озера четырех лесных кантонов, именно тех кантонов старой Гельвеции, которые остались верны Риму, в его борьбе с реформацией.
Запыленный монах кончил. Поспешно осеняя себя крестом, он быстро сошел с кафедры. Еще раз пронеслись волны органа, и мы покинули храм.
На возвратном пути Жози сказала, что мы попали неудачно. Здесь, в Бруннене, есть замечательный проповедник — капеллан, он работал в католической миссии в Индии и недавно вернулся. Но я был доволен и этим монахом. Хотя он походил скорее на доминиканца, чем на последователя святого из Ассизи: это был какой-то призрак из Средних веков.
Пока Жози рассказывала о капеллане, Анни, потупясь, молчала. Она прятала свои блестящие глаза и густо краснела.
Наступил день моего рождения, 30 июля (12 августа). Мы его решили провести вместе. <...>4 Всеволод Николаевич, обычно застенчивый, был в ударе и вел беседу. Я сообщил гостеприимным хозяевам, что мы уезжаем завтра на две недели в Италию, а мама остается у них. После Италии перед возвращением на родину, мы отдохнем еще дней десять на Villa Schiller.
В этот вечер мама много играла нам. А в заключение Жози и Анна спели новую песню о страннике, покидающем отчий дом. Юноша, благословленный отцом, уходит в чуждый мир, никому не ведомый. Припев в той песне был:
Schon ist es iiberall
Doch glaubt mir auf mein Wort
In unser Heimen ist das schonste Ort².
Их дружные голоса звучали так приветливо. Их лица были так прекрасны, так светились ясным покоем, что мне сделалось грустно при мысли об отъезде.
Еще раз angenehme Rune.
Мы поднялись наверх. Всеволод Николаевич позвал меня к
¹ О государстве Божьем (лат.).
3 Возможно, знакомство Н. П. со взглядами Генриха Эйкена не было случайным: автором предисловия к русскому переводу его книги «История и система средневекового миросозерцания» (СПб., 1907) был И. М. Гревс.
4 Опущено: прогулка по люцерне кой дороге, воспоминание о Вильдунгене в 1897, день рождения Н. П. на Вилле Шиллер, подготовка к отъезду в Италию. Ст. 9—12 из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон».
себе на балкон. Молодой месяц плыл по ясному небу. Снега Бристенштока слабо сияли в его еще легком серебристом свете. Там — Италия. «Подумай, как нам будет светить в Италии эта луна! Мы будем смотреть на нее из Колизея или с Палатинского холма!» Всеволод Николаевич нахмурился и перевел разговор на другое.
— Знаешь, Коля, я все думаю: насколько здесь жить — теплее, спокойнее. Насколько сама жизнь здесь хорошо и крепко слажена. Ты, например, следил ли за движениями Жози или Анни, когда они накрывают на стол, закрывают ставни, метут пол? Ни одного жеста лишнего. Не правда ли, какая непосредственность и ясность человеческих отношений. И главное, как все налажено и уверено в завтрашнем дне.
— Да, я все это вижу, и нравится мне все это, пожалуй, не меньше, чем тебе. Но нет в здешней жизни просторов, как нет и в природе, пока не поднимешься на высокие горы. Все сдавлено, как-то прижато. Нет в этой жизни кипения, движения. Нет, понимаешь, будущего. Я боюсь, что если осесть в этой жизни, то будет душить мещанство.
— Пусть мещанство! Ведь это жупел русской интеллигенции. Ты пойми, Коля, что мы готовы всякую оформленную жизнь называть мещанством. А к чему ведет наша бесформенность? Или к распущенности, или к нигилизму, обанкротившемуся уже лет тридцать тому назад, но все еще не изжитому. Вот все эти надрывы, вся достоевщина — ведь это все разрушает в жизни лад, тепло. Вспомни тип нашей курсистки после 1905 года: неврастенички, не знающие, что им, собственно, надо. А тут есть у жизни свое русло, созданное веками. А у нас всякая струя стремится бежать не по общему руслу, а своим особым путем. Что же без русла? Болото, в котором вязнут и гибнут жизни! Какие «светлые личности»! — Он усмехнулся. — Ведь это свет — болотных огоньков, всегда блуждающий свет — гнилушек, лесных или Ивановых червячков. Он светит только во тьме, во мгле больной русской жизни. Светит, а не греет. А я ищу в жизни тепла! Он на минуту замолк.
— В моей жизни его было слишком мало.
— Постой, Вова, как можешь говорить это все ты — ты, столь любящий поэзию дворянских гнезд, ты, ненавидящий буржуазную культуру!
С досадой он мне возразил:
— Ты не понимаешь, Коля, или не хочешь понять. Я больше всего в жизни люблю музыку. А музыка — всегда гармония. Даже допускаемые, например, Скрябиным диссонансы — они все разрешаются гармонией. Я люблю в жизни форму, — он посмотрел на меня, — а вот ты ее не ценишь. Это вот характерно для тебя! Посмотри, как повязан на тебе галстук, как встрепаны у тебя волосы, а они—самое красивое, что у тебя есть, складочка на твоих брюках держится не более трех дней.
— Ax, оставь, Вова, мы о серьезном, а ты сворачиваешь на пустяки.
—Ну хорошо, не буду. Так пойми меня, Коля. Я люблю гармонию, форму. И в нашей дворянской культуре уже есть эта форма. У дворян есть не только гербы (ты любовь к ним презираешь, а я уважаю, да-да, уважаю), но есть свой язык, нашедший прекрасное завершение в языке Грибоедова, Пушкина, Тургенева. Есть, понимаешь, стиль жизни. Ты ведь знаешь, я — социалист, как и ты. Я против всяких привилегий и преимуществ, но я не могу не жалеть о том, что отмирает на наших глазах дворянская культура, что гибнет наш Вишневый сад. Вот и здесь я нахожу форму жизни, нахожу гармонию. Да, в мещанстве, но этот термин я понимаю не в духовном, а в социальном смысле. А что меня здесь особенно привлекает, это то, что здесь еще все крепко, все согрето теплом жизни. Мне здесь хорошо.
— Между мной и тобой, Вова, тот же водораздел, как между Герценом и Тургеневым. Помнишь слова, посвященные этой теме, в начале первого письма «Концов и Начал»? Я тоже люблю осень культуры, как и осень природы. И для меня осень культуры — «очей очарованье». Но я люблю ее, как люблю в жизни былое, наряду с любовью к весне, полной чаяний грядущего. Былое и грядущее — все сливается воедино в вечности.
— Этого я не понимаю, Коля. Что касается грядущего, друг мой, то ах как оно неясно и тревожно. Быть может, и социализм окажется совсем не тем, чем мы его представляли из нашего «прекрасного далека».
— А я жду того грядущего, от которого мы отделены бурями и градом и всем тем трудом, которого мы еще не сделали. Я жду революции всей душой и счастлив, что смогу тогда сказать:
«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали всеблагие как собеседника на пир»5.
Всеволод Николаевич усмехнулся.
— Да, конечно, блажен. «Блажен, кто верует...» Молодой месяц скрылся за горой. Тени внизу сгустились. Только вершина Бристенштока тихо сияла в ночном небе.
— Ну, будет! Вот там — Италия. Итак, завтра едем.
— Нет, поезжай с Мутом. А я остаюсь здесь.
С изумлением я посмотрел на друга. Он грустно улыбнулся:
— От добра добра не ищут. Мне и здесь хорошо.
Я позвал Мута на помощь. Но никакие убеждения не могли поколебать это решение.
1 августа мы уехали одни. Всеволод Николаевич остался с моей мамой на Villa Schiller.
Глава V.Первая встреча с Италией
Глава 5.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ИТАЛИЕЙ
Через 15 дней поезд, все время ныряя в дымные туннели, мчал нас обратно на север. В ущельях завывал ветер. Низкие холодные тучи клубились у подножия гор, скрывая их вершины. Как внезапно наступила осень! Простившись с Италией, мы, казалось, простились и с солнцем.
Италия не обманула нас. Она не пряталась от нас, она сразу раскрылась нам в ту первую ночь, которая овеяла нас всем очарованием страны «обетованной».
Эту ночь мы провели в грязненьком альберго¹, где клопы нам не давали спать. Мы давили их Мутиной палкой, которую он с тех пор называл клопшток. И несмотря на это первая ночь в Италии казалась сказкой в духе Гофмана или Эйхендорфа. Шум фонтана во дворе-колодце. Мелодичное пение из окна, звон гитары, красавица с распущенной волной волос, игравшая на окне с попугаем, — все это было полно югом, негой, какой-то особой лаской жизни.
Из Генуи мы написали Всеволоду Николаевичу: «Италия — Италия», так как мы нашли ее такой, какой представляли себе в наших пылких мечтах. К Риму мы подъехали поздно. После Чивита-Веккиа мы увидели во мраке ночи гору, по которой вверх бежало огненное кольцо, все время сужаясь. Перед самым Римом мелькнули какие-то развалины. Как призрак тысячелетней старины, явившейся на мгновение из ночи веков. И исчезли... Ночевали мы где-то возле вокзала, а утром направились на Форум Романус.
Как сжималось сердце, когда мы шли по via Cavur (на ее месте в древности проходила плебейская Субурра). Все кругом было так буднично. Вспоминался Гоголь, который, сидя на станции в Назарете и ожидая лошадей, думал с тоской, не на почтовой ли он станции у себя на родине ждет перекладных. «Будете смотреть и не увидите». Но когда по аллее из лавров мы спустились на Форум и очутились среди гордых руин храмов и базилик, под лазурным небом, которое из-за мраморных колонн и из-за статуй весталок в атриуме показалось охваченным каким-то синим пламенем, мы почувствовали, что действительно мы в Вечном городе, где все стало достоянием веков.
А вслед за этим — развалины дворцов Палатина среди пиний, кипарисов, пальм и вечнозеленых дубов; Колизей, озаренный луной, с жуткими провалами и трепетными тенями, казавшийся фантастическим ущельем, населенным совами и летучими мышами; термы Каракаллы, похожие на руины целого города; via Appia с ее томбами и надмогильными плитами, на которых надписи начинались обращением: «Sta, viator»². Прохладные подземелья
Катакомб, озаренные слабым светом легких чериний¹, которые мы несли в руках. Там, под землей, надписи говорили уже о другом духовном строе, там часто попадались слова: «Requiescit in расе»².
Там, в подземельях, мы встретили статую святой Сицилии, закутанную с головой, лежащую в одной из ниш. Все это следовало одно за другим, погружая нас не в сон, а пробуждая нас к иной жизни, где мы были охвачены дыханием вечности.
Рим Ренессанса и барокко с его Ватиканом, дворцами Фарнезе, Канчелярией и другими, с торжественными фонтанами — в тот приезд мало захватил нас. Над всем господствовал античный мир, погружавшийся в средневековье.
Мы «открыли» тогда виллу Адриана, в которой этот мир поздней античности был представлен в его остатках с исключительной завершенностью.
Больно было расставаться с Римом, и невольно вспоминался Байрон: «Великий Рим — души моей отчизна!»
Григорий Алексеевич проехал прямо во Флоренцию. А я не мог не задержаться в Умбрии, чтобы совершить паломничество в Ассизи. И самый город, прилепленный как ласточкино гнездо к скалам, и долина с оливковыми рощами — остались в воспоминаниях погруженными в синеватые сумерки...
Там в храме Франциска я «открыл» фрески Джотто, которые мне тогда чем-то напоминали Рериха. А весь храм итальянской готики показался светлым, окрашенным цветами зари, разгоравшейся в синеве.
Во Флоренции я без труда нашел Григория Алексеевича — такого радостно возбужденного, какого я редко встречал. Он сейчас же повел меня к Санта-Мария-дель-Фиоре, и этот храм с башней Джотто и баптистерием, в котором крестили Данте, — в тиши уже пустынных улиц и площадей, залитый сиянием полной луны, — показался мне видением из Paradise³. На следующий день мы сделали новое открытие: «Рождение Венеры» Ботичелли, которого знали только по имени.
Да, все эти «открытия» объяснялись, конечно, нашей слабой подготовкой, но зато сколько было свежести в нашем восприятии, сколько непосредственности и сколько неожиданных событий!
После этого я был еще три раза в Италии, но ни одна поездка, несмотря на всю значительность и глубину последующих восприятий, не могла вытеснить воспоминаний об этой первой встрече с Италией двух юношей, почти мальчиков, первой встрече, похожей на первое свидание первой любви. Пусть в ней было много наивности, но зато, быть может, в ней было больше всего творчества.
И вот эти дни, такие нагруженные, такие сочные, падали один
за другим, как спелые фрукты падают с яблони в дни ранней осени. (...) И настал конец. Но нам казалось, что не две недели прожито нами, а прошли долгие годы. И вот в эти часы, когда поезд, рассекая ветер и мглу, мчал нас на север, нам казалось, что мы уже не те, что нам прибавилось жизни — много, много лет.
И с какой досадой мы думали об изменившем нам друге. Досадовали и на себя, что не сумели увлечь его за собой... В эти часы нам были приятны и этот мрак, и этот ветер, так завывавший в ущельях, и седые водопады, срывавшиеся со скал, и эта внезапная стужа. Все это было таким контрастом Италии. А тут мысль— скоро мы на Villa Schiller. И эта мысль сулила нам, странникам, отдых. Откуда-то поднялась мелодия: «Туда, туда, в родные горы». В «родные»? Почему же родные? И опять: «В милые горы мы возвратимся, с жизнью былого снова сроднимся!»
— Гриша, а вероятно, это ненастье спугнуло всех туристов. Мы, может быть, будем совсем одни. Каким уютным покажется нам камин в Halle. Что-то споют нам Жози и Анни?
А поезд несся все дальше на север. Промелькнули где-то в стороне Брюглейн (родина Вильгельма Телля), Альтдорф, где на площади он сшиб стрелой яблоко с головы своего сына. Вот и прибрежный Флюелен. Воды Фирвальдштетского озера вздымались седыми гребнями, как на море. Вот в такую бурю Телль соскочил на берег, оттолкнув лодку с Гесслером в бушующие воды. Да и эта Телльсплатте где-то недалеко со своими фресками, повествующими о подвигах Телля.
Вот промелькнули огни Симплона. Вот исчезло опять озеро, и наконец показался Бруннен. Какой дождь! Какая темь!
На вокзале мы увидели Жози и Анни. Они были в плащах, с которых струилась вода. В руках у одной было два мокрых зонтика. На лицах их отразились обманутые ожидания. Внезапно они увидели нас и воскликнули от радости.
Неужели они встречали нас? Это же невозможно! Мы, конечно, ошиблись: с этим поездом должна была приехать их старая учительница-англичанка. Сегодня нас не ждали. Все были уверены, что мы задержимся дольше. (Так бы оно и было, да у нас вышли все деньги.) У станции ждала коляска. Нас усадили — и мы тронулись. Верх был поднят. Все время не переставал хлестать дождь. Вот мост через Муоту, вот подъем на гору и скрежет гравия. Вот часовня! Из-за деревьев так приветливо, так по-домашнему мелькнули окна Виллы Шиллер. Ну, разве мы не дома?
Всю дорогу сестры с необычайным оживлением, перебивая друг друга, рассказывали о том, как наступившие холода разогнали гостей. Как у них теперь много досуга и как хорошо они проводили время с Frau von Anziferoff и Herr von Belocopitoff. Что-то изменилось в них. Еще недавняя связанность, робость прошли. Они были так оживленно приветливы, так доверчиво просты. Мама и Всеволод Николаевич встретили нас в Halle. Мама с первого взгляда поняла, как я счастлив Италией, а Всеволод Нико-
лаевич казался немного смущенным. «Теон у домашнего очага приветствует возвращение эсхинов»6.
Я внимательно посмотрел на него. Лицо Белокопытова было непривычно оживлено и как-то посветлело. Но откуда это смущение?
Мы переоделись, помылись. Достали подарки. Привезли мы и нашим сестрам: Жози—изображение Св. Цецилии (покровительницы музыки). Мама находила между ними большое сходство. Анни мы подарили «Quo vadis?» на немецком языке7. «Одобрит ли наш подарок капеллан?» Анни вспыхнула и ничего не ответила. Каким замечательным показался нам ужин! А легкое вино Бахтоблер оказалось таким согревающим. Но согрело меня не только вино, не только камин, но весь уют Villa Schiller, кончая меню, изящно написанным, как всегда, рукой Анни. Вечер, на этот раз очень долгий, был посвящен рассказам об Италии. Несмотря на поздний час, он все же закончился дуэтом сестер Чернчич — они спели нам «Скоро, увы, проходят дни счастья». Но они ошиблись. На Villa Schiller отнюдь не чувствовали мы себя несчастными. <...>8.
6 По-видимому, это скрытая ссылка на стихотворение В. А. Жуковского «Теон и Эсхин» («Эсхин возвращался к пенатам своим...», 1814). Теон и Эсхин— греческие имена писателя и философа.
7 «Quo vadis» («Камо грядеши?») —роман польского писателя Г. Сенкевича.
8 На опущенных страницах: начало осени на Вилле Шиллер, народный праздник граждан трех кантонов в Альтдорфе — день освобождения, быт Виллы Шиллер, музыкальные вечера. Прогулки по окрестностям вместе с сестрами Цернциц.
Глава VI. Прощание с Villa Schiller
Глава 6.
ПРОЩАНИЕ С VILLA SCHILLER
Наступил канун последнего дня. Под вечер мы втроем карабкались на горы, возвышавшиеся непосредственно над Виллой Шиллер. Мы избрали очень крутой подъем. На пути попался крест, а рядом камень. На нем надпись: такого-то числа здесь «verungluckt»¹ такой-то. Такие кресты и камни часто попадаются в альпийских горах. «Verungliict» — несчастный случай — как бы про себя говорил Всеволод. Он был очень печален. Грустно было и мне.
— Уж не остаться ли нам здесь на зиму?—заметил Мут, слегка подмигнув. — Выписать побольше книг. Пожалуй, и без профессоров подготовимся к весенним экзаменам. Уж тут ничто мешать не будет.
Мут, конечно, шутил. Не знаю, как Всеволод, но я испытывал некоторое искушение — не остаться ли. Какая-то смутная тревога перед русской жизнью поднималась в душе. Я стыдился этой тревоги, стыдился минутного соблазна, дезертирства с поля брани нашей жизни, полной такого горения, страданий и счастья... Счастье противоположно довольству. Оно же — подвиг для души, а душа ищет полной тишины и ясности; вот таких осенних дней. Счастье — это большой труд для души, а душа порой ищет легкости и первичной простоты. Конечно, то, что переживал я в эти часы расставания с Виллой Шиллер, было слабостью. Ну а что переживал Всеволод Николаевич? Ему не нужно было бояться
¹ Погиб (нем.)
того, чего боялся я. Он понуро молчал. И я гадать не стану, что творилось в его душе.
Последний вечер. «А вы еще не останетесь, хотя бы дня на три?» — спрашивала Анни.
— Нет, мы здесь дожили до крайнего предела, — ответил тихо Всеволод.
— Что же вам спеть на прощанье? Сестры опять пошептались. На этот раз они шептались долго. В глазах Анни заиграли опять лукавые огоньки. Она в чем-то убеждала Жози. Та смущенно протестовала, но потом улыбнулась. Она дала согласие. Сестры спели нам, как тогда, перед Италией, песнь о родине, на этот раз они изменили припев:
Schon ist es uberall
Doch glaubt mir auf mein Wort.
Ach! Villa Schiller
ist das schohnste Ort!
Слово Heimen они заменили Villa Schiller. И мы дали торжественное обещание — как перелетные птицы — вернуться к весне. <...>9
9 На опущенных страницах: возвращение в Россию, бурные события студенческой жизни 1910—11 (изложены в части пятой), приезд на Виллу Шиллер в 1911 после пребывания в Париже и Гейдельберге, где слушали лекции Виндельбанда. Постояльцы Виллы, ее быт, музицирование с сестрами Цернциц. Подготовка к новому путешествию в Италию. Историк Герзе. «Дон Антонио», оказавшийся мошенником. Посещение церкви вместе с сестрами Цернциц, участие в сенокосе, беседы с сестрами о русской литературе. Влюбленность В. Н. Белокопытова в Жозефину Цернциц, его мечта о спокойной жизни в альпийских горах. Новая встреча с Италией. Отъезд в Россию. Дальнейшая жизнь В. Н. Белокопытова и его смерть в 1915.
Париж
ПАРИЖ
О Париже писать через 37 лет мне особенно трудно. Ведь я жил в нем еще юношей, совершенно не подготовленным к постижению этого сложного города, «мозга мира», как его любят называть французы. И то, что я могу здесь записать, это будут следы не только незрелых наблюдений, но смутные воспоминания о них.
В Париже я провел конец зимы и начало весны 1911 года. В университете отбушевали события новой волны студенческого движения. Академическая жизнь замерла. Несмотря на все старания части профессуры, оживить ее не удавалось. Кучка штрейкбрехеров, переходивших из аудитории в аудиторию всех факультетов, не смогла создать и видимости занятий. Много забастовщиков было сослано в глухие углы России, много выслано на родину. Остальные разъезжались по домам. Что. было делать, чтобы не терять дней юной жизни, тех дней, которыми определяется все последующее. В. Н. Белокопытов предложил мне ехать с ним в Париж1, где жил его дядя И. И. Мечников.
Франция и Париж не были мне родными, как Италия с Римом, как Норвегия; Париж не лежал на основном пути моей жизни. Но мне все же хотелось побывать в нем. Я с ним связывал многое. Прежде всего, это был город революций, он, казалось, шел впереди общечеловеческого движения. Вместе с тем мой юный патриотизм говорил мне, что историческая роль Парижа уже сыграна, что переходное знамя революции теперь перейдет России
1 «В конце февраля он зашел ко мне.
— Знаешь, Коля, университет открыт только для штрейкбрехеров. Едем в Париж».
что Париж — город декаданса, блестящей, но уже увядающей культуры. Он сходит с исторической арены без того трагического величия, как Aurea Roma¹. Про его конец не скажут: «Факел мира погас».
В мои планы входило изучение на местах событий революции XVIII века и трех революций XIX.
На всякий случай я запасся рекомендательным письмом от профессора Н. И. Кареева с целью получить возможность работать в архивах. Мой чемодан был наполнен историями Великой французской революции.
Белокопытов ехал со своими двумя тетушками со стороны матери, очень симпатичными, деликатными и нежными натурам, как-то краешком обходившими жизнь.
В Берлине мы не задержались долго. Город показался чуждым, почти враждебным. Его чистота произвела впечатление бездушности. Его художественные богатства казались временными гостями в этом чужом для них городе. Надменные берлинцы, особенно офицеры, отталкивали. Вместе с тем город казался могучим, уверенным в себе, идущим железной поступью на историческом пути, с волею к мировому господству.
Германия — это сегодняшний день, Франция — прошлое, Россия — будущее.
Поезд мчит на запад. Рейн, Кельн, Бельгия, где — сплошной город: предместье одного граничит с предместьем другого. Где же русский простор полей!
Вечереет. Париж уже близок. В сизых сумерках мокрые деревья кажутся облитыми тушью. С грохотом поезд примчался к Северному вокзалу. Мы в Париже.
«Я открыл окно... Передо мной стояла колонна... Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это — Вандомская колонна и Рю де ла Пэ» (Герцен)2.
В этот первый вечер мы не видели ни Вандомской колонны, ни улицы Мира. Мы нашли комнатку близ бульвара Монпарнас на рю Леополь Робер. Оставили вещи и вышли на бульвар. Прежде всего нас поразил бодрый, даже, можно сказать, веселый, легкий ритм парижской вечерней толпы. А женщины — как они были все изящны, как прекрасно одеты! Мы зашли в маленький ресторан и заказали рыбу «соль» — тонкую, как блин, — и бутылку красного вина. Нам самим было необычайно легко и весело. Мы погружались в новый, неведомый и манящий мир.
Белокопытов напомнил мне, что нас ждет в этот первый вечер наша киевская знакомая Ольга Михайловна Вивденко, приехавшая истекшей осенью в Париж для занятий живописью. Ну что ж! Надо было идти.
Я помнил девушку, только что окончившую гимназию, изнеженную и болезненную, жившую в каком-то искусственном мире
¹ Золотой Рим (лат.).
2 Неточная цитата из гл. XXXIV пятой части «Былого и дум».
мечты. Казалось, она не могла ходить, стоять, а только сидеть глубоко в мягком кресле, все время ища точек опоры. Казалось, ей тяжелы были ее толстые и длинные темно-русые косы. Оля была крестницей отца Белокопытова. Николай Николаевич был убежден, что семья Вивденко мечтает о браке Вовы и Оли. Эта мысль возмущала его. Как! Дочь какого-то сквирского нотариуса может стать женой потомственного дворянина! И он стремился сблизить своего сына с дочерьми богатого помещика Спасовского, светскими веселыми девицами. Но у Вовы были свои мысли. И вечера, которые устраивал Николай Николаевич у себя с приглашением лучших киевских певцов и художников, не содействовали сближению его сына с сестрами Спасовскими.
А Оля относилась к Вове с насмешливой нежностью, посмеивалась над страхами своего крестного.
Все это вспомнилось мне, когда я подходил к большому каменному дому с зелеными жалюзи, завершавшему переулок Леополь Робер3.
Уже был поздний час. Мы крикнули швейцару: «Cordon, s'il vous plais»¹, — и дверь бесшумно открылась. Лифт поднял нас на пятый этаж. Ольга Михайловна была дома. Она радостно приветствовала нас, вместе с тем упрекнула: «Что так поздно!»
Я не верил своим глазам — как изменилась она в такой короткий срок! Выпрямилась и стала казаться гораздо выше. Совершенно исчезла ее изнеженность: от вялости не осталось и следа. Лицо ее сияло довольством найденной жизни. Она работала в студии художника Касталуччо. Очень увлекалась своей работой, а особенно Парижем.
— Но ведь Париж—умирающий город, да еще лишенный тех вековых наслоений, которые придают величие Риму. Париж — это центр мод и красочной формальной живописи. Его слава— кафешантаны! Мировой ресторан с музыкой. Это сыр-рокфор. Он вкусен, но питаться им нельзя, — говорил я, несколько утрируя свои взгляды.
Мои слова возмутили Олю.
— Оля-ла! — воскликнула она. — В ваших словах нет ни одной верной мысли. Вековая старина не исчезла, но Париж при этом остается вечно юным, полным радости жизни. Неужели вы не почувствовали ее, пройдя несколько шагов по бульвару?
Я должен был признаться, что эту радость жизни я действительно почувствовал сразу.
— Ну, это для начала. Я берусь быть вашим гидом и открыть вам глаза на Париж. А теперь обратимся к чаю.
В нашем споре Всеволод хранил молчание. На столе стояла ваза с чудесными бананами и тарелка с птифурами.
Мы условились встретиться на следующее утро.
¹ Веревку, пожалуйста! (Франц.) (Cordon — веревка для открывания дверей во Франции. —Прим. публ.).
3 В восторженных воспоминаниях о Бестужевских курсах, на юридический факультет которых она поступила годом позже, О. М. Вивденко пишет об Н. П. как о старшем товарище: «„Пока вы не попадете в семинарий, другими словами на практические работы, вы себя будете чувствовать одинокой и чужой на курсах", — говорил мне мой друг и наставник Коля Анциферов. Он кончал университет через год, и И. М. Гревс оставлял его «при кафедре». Я не могла участвовать в семинарии профессора Гревса, все по той же причине: нужен был стаж и надо было быть зачисленной на историко-филологический факультет. Но совет Коли Анциферова мне пригодился — я могла попытать счастья у профессора Кареева». (Наша дань Бестужевским курсам: Воспоминания бывших бестужевок за рубежом. Париж. 1971. С. 17). См. также ее воспоминания: Де-Кланье О. Книга о любви и о семи смертях//Русская мысль (Париж). 1964. 11, 18, 25 февраля.
В час назначенный Оля стояла под нашими окнами. Мы уже были готовы и спустились к ней в переулок.
Я был снова поражен обликом Оли. Она была в сером. Ее кофточка имела фасон камзола — узкая в талии и широкая в бедрах. Платок кремового цвета был повязан так, что напоминал жабо. На голове ее была треуголка темно-синего бархата. Все это шло к крупным чертам ее лица. Нос длинный, с горбинкой— нос XVIII века; ровно очерченные губы при улыбке обнажали зубы. Серые большие глаза глядели живо и умно. Она часто высоко поднимала густые брови.
— Начнемте с Notre Dame, — сказала она.
Мы направились к метро. Спуск в подземный мир был недолог. А там, внизу, все блестело белым кафелем. Поезд метро грохотал. Кондуктора внутри вагонов протяжно выкликали: «Во-жирар», «Сен-Жермен-де-Пре», «Сите». Мы вышли на этом острове «Сите». Остров этот — ядро Парижа — древней Лютеции. Он имеет контуры корабля, а корабль был гербом Парижа.
Собор Notre Dame поразил меня грандиозностью своих размеров (даже после Кельнского собора он не был умален). Это скала с двумя вершинами, сильно выветренная, кружевная. Глаз мечется среди этих толп святых, карабкающихся по уступам, среди этих химер и гарпий, взобравшихся на утесы. Химеры меня тогда интересовали больше всего. Мы поднялись по темной и крутой лестнице и очутились на террасе, охватывающей одну из двух башен собора, где помещены химеры. Мне сказали, что дуалистическое мировоззрение средних веков не могло мыслить храм вне злых дьявольских сил. Внутри храма им нет места, и вот они роятся вокруг его стен, изнемогая от невозможности попасть внутрь. Мне казалось это объяснение сомнительным. Ведь снаружи не только звероподобные химеры и вытянутые гарпии, схожие с летучими мышами. Ведь вереница святых — словно вышла из храма и покрыла его стены. А разве им нет места внутри? Химеры мне не показались такими уж злыми. Большинство из них — звери и птицы, очевидно, понятые как нечисть. Среди них—добродушный медведь. Но. часть из них — человекоподобна. Одна химера напомнила мне Анатему. Оказалось, действительно, Качалов, создавая грим для этой роли, воспользовался снимком химеры. Это действительно темная, злая сила. Другая, опирающаяся на сложенные кисти рук, с прикушенным языком, казалась погруженной в созерцание великого города, она в глубоком и печальном раздумье.
Перед Пантеоном Роден поместил статую, которую назвал «Мыслитель». Мне хотелось так назвать эту химеру.
Весь этот мир химер полон томления, и мне казалось, что это не силы зла, а души чистилища, жаждущие искупления и чающие тот час, когда и перед ними раскроются врата храма.
Среди этих уродов чудился образ Квазимодо, поселенный здесь гением Гюго. Я полюбил подниматься на эту террасу, бро-
дить среди химер и подолгу стоять возле химеры-мыслителя, заодно с ней созерцая Париж.
Бывал я здесь и в холодные утра последних дней зимы, когда за ночь выпавший снег нахлобучил пушистые шапки на -головы химер и прикрыл им плечи белой накидкой. Помню и весенние дни, когда Париж бывал погруженным в перламутровую дымку — там, внизу, с узенькой лентой Сены и мостами, с громадой Лувра и кружевной сеткой Эйфелевой башни. В такие утра даже химеры казались повеселевшими.
Полюбил я приходить сюда и в лунные ночи, когда скалы Notre Dame казались еще выше, еще торжественней, и, стоя внизу, отыскивать глазами знакомых химер и среди них химеру-мыслителя.
Как здесь все не похоже на наши православные храмы с их спокойными, плавными закомарами, с их белизной, напоминающей и фату невесты, и цветущее вишневое дерево, и белых лебедей, и белые березки. Их пылающие на заре золотые купола, похожие на горящие свечи заутрени. [И] все полно тишины ясного неба.
Внутри собора Парижской Божьей матери веет холодом от серых высоких стрельчатых сводов, едва согретых кое-где бликами от витражей, сквозь которые проникают солнечные лучи. Статуя Notre Dame в короне, готически изогнутая, выступает на пышном фоне занавеси, на которой изображен герб Парижа, разделенный по горизонтали — красный и синий. Вверху — зубчатые башни, внизу — корабль, несущийся по волнам на всех парусах.
Мне удалось побывать здесь в первый день Пасхи. Служил аршевек Парижа4. Он стоял, как величавая статуя в облаках фимиама, на котором лежали радужные блики витражей. Звуки органа у алтаря неслись ввысь, к стрельчатым сводам. Аршевек направился к выходу, изящными жестами благословляя молящихся. Навстречу ему понеслись волны звуков еще более мощного органа, находившегося над входом в храм. Матери с детьми образовали аллею, по которой медленно продвигался аршевек. При его приближении матери поднимали детей, и аршевек с нежной улыбкой на тонких губах благословлял и мать, и дитя.
Ольга Михайловна показала нам и Сен-Шапель Луи IX (Святого), легкую и прозрачную, стены которой состояли из сплошных витражей, и храм Сен-Севрен в древнейшем квартале Парижа, и крошечную романскую церковь Сен-Жульен-де-Повр, и Музей Клюни в готическом здании. В этом музее статуя Юлиана Отступника, трагичного воскресителя угаснувшего мира. Юлиан жил на этом месте в древней Лютеции.
— Ну что же, вы ощутили минувшие века, оставившие своих многочисленных заложников в Париже XX века? Я вам только приоткрыла завесу. Многочисленные следы многих веков рассеяны в разных уголках нашего Парижа. Вы медиевист, но стоит ли вам дольше задерживаться на средневековье? Я считаю, что свой тезис
4 Аршевек — архиепископ.
достаточно обосновала. Перейдемте к другим векам, времени у вас не так много. Надо посмотреть Лувр, съездить в Фонтенбло, побывать в Версале и непременно посмотреть Корнеля или Расина в Comedie Francaise.
— Стоит ли на французский театр тратить время? После Художественного театра он непереносим.
— А вот посмотрите, стоит ли.
— Хорошо, но не теперь.
Эту беседу мы вели, сидя у камина в Олиной комнате. Она подбрасывала уголь в виде яичек в пылавший огонь.
— Расскажите мне про итальянскую готику.
И я рассказывал о Миланском соборе (холодно), о храме Сан-Фраическо в Ассизи (горячо) и маленькой готической церковке в Пизе (тепло).
Оля слушала с увлечением. Внезапно она прервала меня:
— Знаете, что пришло мне в голову? Для того, чтобы лучше ощутить старый Париж, пойдемте теперь в Quartier Samt-Severen¹. Час уже поздний, ярко светит луна. А прогулку мы закончим на бульваре Сон-Мишель. Вы увидите ночной Париж, и надеюсь, что сможете ощутить и в нем какую-то вековую традицию.
— Ну что ж, моя Эллис5. В путь!
— Эллис, — повторила Оля, усмехнулась и задумалась. Она звала с нами Всеволода, но он не пошел.
Мы шли лабиринтом узких улиц-коридоров с каменными стенами высоких темных домов. Казалось, что они поросли мхом. Одна из этих улиц, упирающаяся в набережную Сены близ Notre Dame, носит название Rue (Tchat qui peche)². Я долго ломал голову, откуда такое название. И догадался. Здесь должен был находиться трактир с вывеской удящей кошки (о вывеске с кошкой, играющей в мяч, писал Бальзак). Здесь можно было остановиться посреди улицы и кончиками пальцев коснуться противостоящих домов.
Как здесь чувствуется контраст между каменным Западом Европы и ее деревянным Востоком! Побродив по этим закоулкам, мы подошли к ограде St.-Julien de pauvre. Ворота были уже закрыты. Позвонить? Но чем мы объясним наше желание прорваться внутрь ограды? И мы, недолго думая, перелезли через нее. Деревенская тишина нас даже испугала — в ней, казалось, все насторожилось.
— Послушайте, Коля, что если нас здесь застанут? Пусть нас примут лучше за влюбленную парочку, скрывающуюся от враждебных глаз.
— Оля-ля, слушаю вас.
Мы сели на холодные мраморные ступени, и воображение перенесло нас в далекие времена. Я воображал, что у меня шпага.
5 Эллис — героиня Повести И. С. Тургенева «Довольно! (Призраки)».
И вполне реальным плащом прикрывал Олю. Опасность быть открытыми подстегивала наше воображение. На ограде покоился кот, черный «бодлеровский» кот. Глаза его светились в лучах полной луны. Мы действительно перенеслись в какой-то неведомый мир.
— Ну, будет, — сказала Оля, вставая, и разрушила иллюзию. Я помог ей взобраться на ограду, и мы снова в узенькой улочке. Оля сообщила мне, что церковь St.-Julien de pauvre — самая древняя в Париже. Она построена из дикого камня, с двускатной крышей. Эта церковь принадлежит православным, признавшим власть папы. Внутри нее — царские врата, и служит в ней священник, вероятно грек, с черной окладистой бородой. Мы направились к бульвару Сен-Мишель. Картье Сен-Севрен погружен в сон. Улицы его пусты, и в нем глубокая тишина.
Бульвар Сен-Мишель—улица другого города. Как странно, что она пролегает так близко от этого средневекового квартала. На бульваре необычайное оживление, но при этом два потока противоположных направлений не задевают друг друга. А между тем многие из гуляющих не идут, а как-то скользят в пространстве, взявшись за руки. Тут и французские студенты в черных беретах, и португальцы в длинных плащах, конец плаща перекинут через плечо, а на голове черный колпак, спускающийся на спину длинным концом. Много классических гризеток. Турки, арабы и арапы. Смесь племен. В нас узнали русских. Окружили. Целый хоровод пропел насмешливую песню. Среди участников — юноша, похожий на Зибеля из оперы «Фауст» — в берете, плаще и высоких черных чулках.
Да, Оля права. Во всем этом теряется чувство времени, сознание эпохи.
На другой день в Люксембургском саду, где я занимался по утрам, на скамье рядом со мной оказался этот паж. Он сидел, высоко заложив ногу на ногу. Во рту его торчала маленькая трубочка. Он узнал «русского» и насмешливо поглядывал на меня. Его, вероятно, заинтересовал тот пушок на моих щеках, который должен был исполнять роль бороды. У пажа были большие черные глаза, длинные курчавые волосы и какая-то странная улыбка. И вдруг мне почудилась в нем переодетая женщина. Его соседство смущало меня, мешало работе, и я пересел на другую скамью.
* * *
Жил я со Всеволодом в известном среди эмигрантов-революционеров пансионе М-те Жеан. Комнаты нам отвели в соседнем переулке Леополь Робер, а столовались мы в главном здании на бульваре Монпарнас. Действительно, в пансионе было много русских, и среди них Вера Николаевна Фигнер. Мне кровь бросилась в голову, когда я узнал, что героиня Шлиссельбурга здесь, что я буду обедать с ней за одним столом.
Веру Николаевну я знал по портретам ее юности, и у меня возник очень ясный ее образ. Реальная Вера Николаевна не походила на него. У нее было точеное лицо, все еще полное внутренней энергии. Пристальные умные серые глаза, тонкие губы со сдержанной, «английской» улыбкой. Волосы уже с сильной проседью были гладко причесаны. Ее стан не утратил грации. Когда она волновалась, румянец заливал ее щеки. Тетушки Всеволода быстро сошлись с ней, и сошлись на всю жизнь.
Мне очень хотелось поговорить с Верой Николаевной на политические темы, узнать ее позицию в современном мире, в котором она не так давно возродилась после бесконечного сидения в крепостной одиночке. Хотелось поговорить и о ее прошлом. Но я ясно видел, что Вера Николаевна не допустит меня близко к себе, что она замкнулась в своих думах.
Вместе с тем Вера Николаевна охотно беседовала со мной о Париже, и я каждый день рассказывал ей о своих новых завоеваниях и показывал снимки и открытки. (...)
Выслушивая мои рассказы, Фигнер требовала, чтобы я говорил по-французски, и по поводу каждого русского слова стучала вилкой по столу и восклицала: «Amendel Amende!»¹ Этих штрафов мне пришлось бы платить очень, очень много.
В ясный и теплый весенний день моя Эллис перенесла меня на кладбище Пер-ла-Шез. Мы смотрели известный надмогильный памятник «Aux morts»². Люди, коченеющие от ужаса, столпились по обе стороцы врат смерти. Какой выразительный памятник неверия на христианском кладбище!
Побывали мы у стены коммунаров с расплывчатым рельефом грядущей революции. Вся стена покрыта красными венками и красными лентами (впрочем, я не уверен, что все венки красные). Блуждая среди могил этого грандиозного кладбища, густо покрытых холодными и чопорными венками из стекла и бисера, мы подошли к готической часовне, под сводом которой плита с изваяниями мужчины и женщины. У ног их — собака. Это могила Абеляра и Элоизы.
Трагическая судьба этих несчастных, их переписка произвели на меня глубокое впечатление. Как волновали меня слова из письма Элоизы к Абеляру: «В те мгновения, когда молитва должна быть всего искреннее и чище, — о, я стыжусь этого, — прекрасные образы нашего счастья так приковывают к себе страдающее сердце, что я больше думаю об этих недостойных предметах, чем о святой молитве. Все начинается снова, все прошлое оживает опять и волнует меня; даже во сне я не имею покоя... Горячность чувства и страсти, юность, вечно пылающая и раздражающая, и сладкие опыты испытанных мною наслаждений возбуждают меня без отдыха и приводят к моему поражению». Элоиза
опередила свое время на века. Такую борьбу и такое отчаяние ее познала душа человека не ранее Ренессанса.
Это подлинный голос любившей женщины, дошедший до нас из глубины восьми веков!
С удивлением увидел я несколько букетиков фиалок, положенных чьими-то любящими руками на древнюю могилу. Кому же она здесь дорога? Кто оплакивает в современном Париже Элоизу и Абеляра? Мы разыскали продавщицу цветов, купили у нее два букетика и положили их на каменные изваяния.
В тот вечер я рассказывал за ужином о поразившей меня могиле и о ее культе. Рассказал о том, что и сам положил на нее свой скромный дар. Вера Николаевна очень смеялась.
— А вы знаете, M-r Nicolas, кто приносит эти фиалки, кто поддерживает культ этой злополучной четы? Это те влюбленные, которым препятствуют соединиться, это те, которые разлучены судьбой. Вот и вы вашим даром приобщились к ним.
Прошло три года. Я с женой был в Лозанне у ее родных и у Натальи Александровны Герцен. Вздумалось нам посетить Веру Николаевну в Кларане. Пароход доставил нас в этот чудесный уголок на Женевском озере. Вера Николаевна очень радушно встретила нас. И я опять был поражен ее живым интересом ко всему, характеризующему новое время, живостью ее ума, ее тонкими и меткими замечаниями. Помню ее оценку Элеоноры Дузе; эта шестидесятилетняя женщина еще была полна грации, женского очарования.
Встречался я с нею и в Москве, в 30-х годах. Она показала мне серию снимков Н. А. Герцен. Один из них имел дублет. Я попросил Веру Николаевну подарить мне его. Она протянула все. «Берите, M-r Nicolas!» Я отказался. Она настаивала: «Знаете, старость — это осень. Осень бывает золотая, «очей очарованье». Но увы! Наступает время облетелой осени, когда деревья стоят нагие, лишенные своей листвы. О! Это печальная пора! Вот для Натальи Александровны уже наступила эта облетелая осень. Мне тяжело напоминание о ней». Вера Николаевна задумалась. «Беспощадное время идет!» Она взяла меня за руку и подвела к окну. «Вот и вы, M-r Nicolas, уже не юноша. Да, уже не юноша», — сказала она с печалью. (А было мне уже 47 лет.)
Это — последнее наше свидание. И для В. Н. Фигнер наступала облетелая осень. Она все больше замыкалась в себе и погружалась в молчание. Последний год она жила на Арбате против театра Вахтангова. Взрыв фугасной бомбы, разрушивший театр, не дошел до ее слуха. Для нее наступала пора полной тишины. При ней все время была одна из тетушек моего Всеволода — Софья Николаевна, после Парижа не покидавшая ее в Москве.
А мне казалось, что Вера Николаевна не подчинена власти времени, что золотой осени не будет конца.
* * *
В архиве я не смог заниматься. Для этой работы было мало двух с половиной месяцев, которыми я располагал. Уже если там работать, то нужно отказаться от осмотров Парижа. А Париж мне был интереснее, да и нужнее архива. Но историей Французской революции я все же занимался усердно. От Минье я перешел к Тэну, от Тэна к Олару. Работал в своей маленькой комнате. Электричества не было, и мне все время приходилось следить за лампой, у которой была большая склонность коптить. В комнате холодно, и я все время подбрасывал яички из угольной пыли в камин. Спал, прикрываясь ворохом газет. Утром меня будили крики продавцов. У каждого был особый способ привлекать внимание покупателей, как у каждой птицы своя песенка. После чашки кофе у М-те Жеан, я с книгами отправлялся в Люксембургский сад. Здесь студенты Сорбонны готовились к экзаменам, а я погружался в перипетии Великой Французской революции, с особым интересом отмечая «граны социализма» не только у Жака Ру или Шалье, но и у умеренного Рабо-Сент-Этьена.
Почки только что лопнули. Сад был насыщен запахом молодой зелени. Фонтаны весело били и так же весело перекликались большие черные дрозды. Статуи богов, героев, писателей и художников белели среди деревьев с еще влажной черной корой. Прелестно одетые, веселые и беспечные дети бегали за своими обручами, а матери со счастливой улыбкой наблюдали за ними. В уединенных аллеях ютились парочки влюбленных, которые здесь, в Париже, не очень скрывали свои отношения. Я еще ничего не знал тогда о тех художественных сокровищах, которые хранятся в старом темном дворце Люксембургского сада. Он был мне памятен прежде всего как место заседания Люксембургской комиссии Луи-Блана.
В связи с изучением Французской революции мы обошли ряд памятных мест, И Пале-Рояль, в саду которого — памятник Камиллу Демулену, сорвавшему лист каштана и прикрепившему его к своей шляпе вместо кокарды. Он призвал здесь парижан к оружию и повел их на штурм Бастилии.
Побывали мы и на площади Бастилии, где ежегодно 14 июля появляется надпись: «Здесь танцуют!» Осмотрели и башню монастыря якобинцев — место якобинского клуба. Стояли у стен тюрьмы Консьержери. Посетили и могилу гильотинированных. Ознакомились и с Музеем Карневале, где собрано столько портретов революционеров и реликвий Революции.
Все это так волновало мое воображение, заполненное людьми и событиями Революции! Места имеют большую власть над сознанием. В них не остыло прошлое.
В тот год меня больше всего увлекала борьба революционных партий, различные ситуации этой борьбы и ее герои. Любопытно было отметить, что все историки были партийны и имели своих героев. Тэн симпатизировал англоманам, умеренной группе одиноких вождей без массы: Клермон-Тоннеру, Мунье и Лал-
ли-Толлендалю: наш Н. И. Кареев — Мирабо; Ламартин — жирондистам Верньо и Бриссо; Олар — Дантону; Луи-Блан — Робеспьеру; Кропоткин один только выдвигал массу, народ, организованный в секции.
В каком возбуждении в те дни я покидал свою холодную комнату и шел в Люксембургский сад! Раннее, свежее, светлое утро. Парижские ребята в фартучках бегут, подпрыгивая, как воробушки, размахивая своими сумками с книгами, весело перекликаясь, сыпля остротами — классические гавроши. На перекрестках шумных улиц—жаровни с горячими каштанами. Ребята окружают их, тратят свои су и бегут дальше, подбрасывая на руке слишком жгучие каштаны. (...)6
* * *
В Версале я должен был повидать дочь Герцена Ольгу Александровну, жену историка Габриэля Моно. Она любезно приняла нас. Перед нами была типичная француженка с черными с проседью волосами, тонкими, точеными чертами лица, шумная, суетливая, говорливая. Она приняла нас за учеников своего покойного мужа, но я сказал ей, что мы скорее ученики ее отца и пришли к ней спросить, когда будет дано разрешение печатать неизданную часть «Осеапо пох» из «Былого и дум». В глазах Ольги Александровны появился испуг: «О, с этим вопросом вы обратитесь к моей сестре Nathalie». Она поспешно встала, и на листе бумаги написала адрес Натальи Александровны. Нам казалось, что наступила минута извиниться, поблагодарить и уйти, но Ольга Александровна удержала нас и начала рассказывать, как ей плохо жилось у отца при Наталье Алексеевне7, как отец понял это, пожалел ее и сказал М-те Мейзенбуг: «Возьмите мою маленькую Ольгу».
Разговор наш велся на французском языке. Только один русский звук был в ее речи: она сказала не Olga, а Ольга. Я смотрел по стенам. Всюду портреты мужа, детей, внуков. Едва нашел небольшой портрет отца. Мечта Герцена не сбылась: его дочь Ольга перестала быть русской.
Несмотря на то, что она показалась нам очень привлекательной, мы ушли от нее с грустным чувством.
Наталье Александровне я написал по полученному адресу и получил любезный ответ, который уцелел в моем архиве8.
* * *
Через всю мою жизнь в Париже проходит Лувр. Это торжественный и холодный храм мирового искусства. В нем, как в нашем Эрмитаже, нет границ. Какая-то беспокойная сила влечет все дальше, из зала в зал, в какую-то беспредельность времен и пространств. Однако скоро я обрел силу противодействующую. Это была сила Венеры Милосской. В то время я еще не мог видеть
6 На опущенных страницах: посещение музеев: Люксембургского, Пти Пале, Гимен, Карневале, прогулки по городу. Фрески Пюви де Шавана в Пантеоне. Лекции Олара в Сорбонне. Культ Наполеона во Франции: «Бонапартизм перешел в кровь француза. Сможет ли коммунизм очистить ее?» Праздник микарем (середина Великого Поста): выборы первой красавицы, красочный проезд «королевы королев», костюмированное шествие, другие развлечения парижской публики. Посещение Comedie Prancaise. Поездка в Версаль.
7 Речь идет о Н. А. Тучковой-Огаревой.
8 Письма Н. А. Герцен-дочери к Н. П. хранятся в ОР ГПБ. Ф. 27.
произведения искусства, отрешаясь от своих идей, своих фантазий. Я вспоминал рассказ Гл. Успенского «Выпрямила», в котором автор в Венере Милосской открыл мир абсолютной гармонии, той гармонии, которая рассеяна всюду в жизни, но здесь она сконденсирована. Эту эллинскую гармонию, эту завершенность, успокоенность ясного безоблачного неба над морем увидел я в этой искалеченной статуе. Меня поразило то, что увечье (у нее отбиты руки) нисколько не нарушает впечатления целостной завершенности. Но моя юношеская фантазия шла дальше. Я узрел в Венере тоску от ее всепобеждающей красоты, мольбу к небу об освобождении от своих гибельных чар.
Попадая в Лувр, я уже не шел дальше среди этих мраморных сокровищ античности. Я стоял перед Венерой, готовый в благоговении склонить перед ней свои колени. И даже мощная в своем победоносном полете Нике, парящая, как орлица, среди саркофагов, портиков, статуй, не могла отвлечь меня от Венеры Милосской.
В картинной галерее был другой магнит, который притягивал меня к себе: «Джоконда» Леонардо да Винчи. И не художественное совершенство этого прославленного творения гения Возрождения приковывало мое внимание. В ней я ощутил ту манящую, таинственную и жуткую силу, которую князь Мышкин видел в Настасье Филипповне. Но Мона Лиза не красива сама по себе. Тайна ее обаяния в гении Леонардо. Она — его творение, его мечта. Она жила в нем, быть может, только в нем. Что-то смутное бродило в душе, и я, оторвав себя с каким-то усилием от Джоконды, шел к La belle jardiniere¹ Рафаэля, которая своей ясностью, простотой и гармонией успокаивала, как голубое, безоблачное небо. После созерцания этих двух картин я покидал Лувр.
* * *
Моя Эллис осталась недовольна ограниченностью моих интересов. «Нужно расширить ваш художественный мир. Вы чувствуете только итальянцев, да и то преимущественно треченто и кватроченто». — «Что вы! Я так полюбил благодаря нашему Эрмитажу Рембрандта!» — «Ну, этого мало. Я вас познакомлю с "маленькими голландцами"». И Оля повела меня к Терборху [и] Метсю. Она открыла мне их влюбленность в материю, в вещь, в северный уют голландского домика, сосредоточенность их внимания, их спокойствие. Всеволод уже успел увлечься Ватто и Коро. Я их первоначально не умел ценить, но вскоре и французы, включая барбизонцев, открыли мне новый и разнообразный мир красоты, но этот мир оставался вне меня. Эти художники не сделались спутниками жизни.
Так постепенно необъятный Лувр стал нашим достоянием,
¹ Прекрасная садовница (франц.).
ибо понимание создает и владение. Новая французская живопись — Мане и Моне, Ренуара и Дега — тогда не была оценена мною. Я понимал ее ценность, но эта ценность не была еще ценной для меня.
* * *
В два с половиной месяца я мог хоть немного познакомиться с парижской толпой, с уличной жизнью. Но отдельные французы с их семьями оставались за стенами своих домов, и доступ к ним не был легким. Ту Францию «dans la maison»¹, которую Р. Роллан показал после Франции «foire sur la place»², я не знал. Единственный дом, в который я проник, был русский дом, дом Ильи Ильича Мечникова.
Русский ученый жил в пригороде Парижа Севре. Его небольшой дом находился в глубине фруктового сада и имел приветливый вид мирного приюта.
С Ильей Ильичом я познакомился еще в Петербурге в 1908 г., когда он, после долгого отсутствия, посетил родину. Левая печать приветствовала его как гордость русской науки, прогрессивного ученого, вынужденного жить на чужбине из-за репрессий правительства и травли реакционных ученых.
Мечников обладал импозантной внешностью русского ученого типа Кареева. У него была львиная голова. Над высоким и широким лбом — грива темных волос уже с проседью, спускавшихся к широким плечам. Длинный мясистый нос, окладистая борода, зоркий взгляд небольших глаз. Роста он был выше среднего. В его позах, в движении грузного тела чувствовалась большая сила, не физическая сила, а та сила, которую ощущает в себе победитель в жизненной борьбе, победитель в творческих начинаниях. Он завоевал в Париже то положение, которое редко выпадает на долю иностранца. Он был директором Института Пастера. Ему приходилось не раз переживать травлю, поднимаемую против него французскими националистами.
Жена Ильи Ильича — Ольга Николаевна, урожденная Белокопытова (тетя Леля, как называл ее мой Вова),—создала ему домашний уют и прочное семейное счастье. Она уже была немолода, но сохранила женственную грацию и чрезвычайную мягкость движений. Тихая и задумчивая Ольга Николаевна стремилась к гармонии, и резкие выходки ее мужа причиняли ей боль. Она не любила говорить худо о людях, своей кротостью смягчая любую напряженную ситуацию. Детей у Мечниковых не было. Они взяли на воспитание двух сестер-француженок. Теперь девушки были в Англии для завершения своего образования. Приемыши не радо-
вали Мечниковых: это были миленькие французские мещаночки, совершенно не поддававшиеся их духовному воздействию.
Ольга Николаевна была художницей. Для ее работ Илья Ильич построил в глубине сада особую студию. В творчестве «тети Лели» сказывалась ее мягкая, поэтичная натура. Ее портреты всегда смягчали и поэтизировали оригинал. Ее пейзажи были задумчивые, какие-то застенчивые. Она любила полутона, дымку и лиловатые оттенки.
Ольга Николаевна была занята писанием воспоминаний о своем муже. Как-то вечером мы попросили ее прочесть какую-нибудь главу. Илья Ильич насмешливо сказал: «У Лели вы не найдете моего реального портрета. Она пишет только о хорошем. Мы во Флоренции на Сан-Миниато среди цветущих лип любуемся внизу лежащим городом, прорезанным зеленоватой лентой Арно, — это она опишет. А то, что я, обозленный итальянским шарманщиком, который мне мешал работать, вылил ему на голову ночной горшок, — этого вы у нее не узнаете. А ведь это для меня очень характерно!»
Мне рассказывали о таком случае. На сестре Ольги Николаевны Ксении был женат профессор А. Г. Радзиевский, который добивался доказать самозарождение бактерий и, наконец, как казалось ему, сумел в aqua distillata¹ получить искомое самозарождение. Илья Ильич в гневе доказал ему, что «самозарождение» произошло оттого, что ученый плохо вымыл руки. Ученые поспорили, и Мечников бросил какой-то сосуд в своего родственника. Обе сестры очень страдали от этих столкновений.
Этот ученый с мировым именем сам ходил по магазинам и рынкам, чтобы разделить с женой заботы по хозяйству. Он был старше ее на 18 лет. В течение четырех лет оставался ее женихом, для того чтобы воспитать девушку для брака, и всю жизнь с отеческой заботой опекал свою Лелю.
Как-то раз мы ушли погулять в окрестности Севра и прогуляли дольше, чем предполагали. Илья Ильич, крайне взволнованный, пошел нас искать. Мы встретили его совершенно красным от прилива крови. «Илья! Илья! Что с тобой?» — говорила встревоженно его жена. Он долго не мог успокоиться.
Меня очень интересовала эта нежная и глубокая супружеская любовь между столь несхожими людьми. Но мир супружеской любви закрыт для глаз посторонних. Мне вспоминается в этой связи счастливый брак академика Д. С. Рождественского и О. А. Добиаш-Рождественской, а также брак А. П. Остроумовой-Лебедевой и химика Лебедева. Ярко выраженные индивидуальности и, казалось, с совершенно различными интересами, сумели создать в браке единство.
Беседуя с Ильей Ильичом, я с удивлением убедился, что его политические взгляды далеко не прогрессивны. И что нашей прес-
¹ Дистиллированная вода (лат.)
сой создан миф о его радикальности, в силу которой Мечников докинул родину. Так, Илья Ильич выражал свое негодование на то, что русское правительство разрешает Мануйлову с кафедры проповедовать социализм. (Этот-то умеренный кадет!) Илья Ильин пренебрежительно отзывался о «легкомысленном» Герцене и очень резко осуждал «глупого и беспутного» Бакунина.
Мечников не был реакционером. Он верил в грядущее счастье человечества, но счастье это, по его убеждению, может дать только наука. Революционный путь он отрицал. При все том он не раз помогал революционерам-эмигрантам в их нуждах.
Трезвый и ясный ум Мечникова четко очертил круг, доступный его пониманию; все, что было за пределами этого круга, Илья Ильич отметал как ненужное. Это был «звонкий позитивист», отлично чувствовавший себя в этом круге, очерченном его разумом. И все же автор «Этюдов оптимизма», проповедовавший спокойное отношение к смерти, признавался, что страха смерти ему победить не удалось. Ольга Николаевна как-то заметила, что разум гасит веру, но она все же где-то тлеет. «Иля! Идя! И в тебе есть ее очажок, еще не заглохший!» — «Ну вот, Леля, обыщи меня всего, нигде не найдешь». И я ему верил.
Весной, когда сад Мечниковых был осыпан белыми лепестками яблонь и вишен, я сидел с Олей (Вивденко) в беседке и читал ей из книги «Легран» Гейне. Мы сговорились ехать вместе по Рейну. Я прочел ей свой любимый отрывок: «Слава Богу! Я живу! 3 жилах моих кипит красная жизнь, под ногами моими дрожит земля, в упоении любви обнимаю я деревья и статуи, и те и другие оживают в моих объятиях... Каждая минута для меня ведь бесконечность... И я живу <...>»
Внезапно мы услышали звуки шагов по гравию: в беседку направлялся Илья Ильич. Увидев нас, он улыбнулся, приложил палец к устам и с лукавым видом пошел обратно. Увиденное им он осмыслил по-своему. Когда я вернулся в Москву и зашел к Белокопытовым, Лидия Карловна встретила меня с встревоженным лицом и стала расспрашивать о Тане Оберучевой. По мере моих ответов лицо ее прояснялось. Потом она спросила меня об Оле Вивденко. И, наконец, облегченно вздохнула: «Ну, слава Богу! А я была встревожена письмом Ильи Ильича. Он писал, что вы увлечены Олей». К этому Мечников присоединил мою характеристику: «Настоящий русский юноша, хороший, способный, но из него ничего не выйдет».
В заключение приведу рассказ Ильи Ильича, характеризующий нравы Парижа. Один русский, прекрасный знаток столицы Франции (не Боровой ли?), часто показывал ее русским экскурсантам. Приехала экскурсия курсисток. Было условлено, что все соберутся у руководителя в 10 часов утра. В назначенный час пришла одна курсистка. Руководитель, негодуя на русскую распущенность, тщетно ждал целый час прихода остальных. Наконец он спустился к швейцару узнать, не спрашивал ли его кто-нибудь.
Швейцар ответил: «О, мосье, вас тут спрашивали девушки, человек тридцать». — «Так где же они?» — «Я им сказал, что вас нет дома». — «Да почему же?» — «Одну уже впустил, не мог же я одновременно допустить к вам остальных женщин!»
У Мечниковых мы встречали итальянца Мальфетано, грека Саломоса. Мальфетано был видный ученый, помнится, биолог, синдикалист, женатый на русской. Саломос — молодой человек, изысканно одетый, называвший себя почему-то роялистом. Он был большой поклонник женщин, но утверждал, что терпеть не может, если женщина занята какой-нибудь работой. Он не любил женщину за книгой. Он только любил женщину, нюхающую цветок. Саломос вздыхал о временах рыцарства и собирался строить у себя на родине виллу не в классическом стиле, а в готическом. Его присутствие в доме Мечниковых было мне непонятно.
Перед 1 мая мы встретились за столом у Мечниковых и с Мальфетано, и с Саломосом. Разговор зашел о запрещении премьером Монисом всех демонстраций. Мальфетано со страстностью сицилийца разносил министерство. Саломос же упрекал правительство в излишней мягкости, проявленной к саботажникам во время забастовки, взволновавшей всю Францию. Спор принимал все более страстный характер. «Рабочие продают Францию немцам. Когда начнется война, они устроят беспорядок внутри страны и облегчат врагам победу», — кричал Саломос. «Не рабочие предают Францию, а капиталисты, для которых «деньги не пахнут». Рабочие единственно подлинные патриоты»-, — ответил ему Мальфетано, ударяя по столу графином.
Ольге Николаевне не удавалось прекратить спор. Илья Ильич в этот день отсутствовал.
Так в Севре под Парижем в русском доме спорил грек с итальянцем, о французских делах со страстностью французских патриотов. Я в этой схватке революционера и реакционера чувствовал эхо того, что происходило во Франции. Уже не раз мы могли наблюдать, что здесь, в Париже,— две силы противостоят друг другу, два класса, представляющие собою две исключающие друг друга Франции.
Желая понаблюдать парижских пролетариев, мы заходили в рабочие кварталы, в «черный город». Мы побывали на собрании, устроенном анархистом Себастьяном Фором. Председателя на митинге анархистов не было. Цель собрания — борьба с антисемитизмом. Себастьян Фор, держа в руках «Весь Париж», читал имена руководителей различных финансовых учреждений и предприятий. Банк такой-то — ни одного еврея, банк такой-то — только один еврей, банк такой-то — ни одного еврея. Вывод — антисемиты клевещут, утверждая, что французские финансы со времен Ротшильдов в руках у евреев.
Начались прения. Выступил молодой рабочий. Он сказал: «За этими французскими именами прячутся евреи». Поднялась буря
негодования. «Долой! У! у! у! Camelot du Roix¹!» Оратору не дали продолжить. Тщетно Себастьян Фор, вскочив на кафедру (где не было председателя), стучал графином — крики не стихали. Симпатии рабочих были на стороне евреев. Чтобы наблюдать пролетариев, мы зашли в Сент-Антуанском предместье в кино. Демонстрировался фильм, посвященный Германии. Едва показался Вильгельм II, принимавший парад, как раздалось в зале неистовое улюлюканье. Эта демонстрация нам показала, что и французские рабочие настроены весьма германофобски.
Париж посетила бельгийская миссия. Улицы были запружены народом. Коляски и автомобили едва могли двигаться в этой густой толпе. Среди встречавших <...> было немало блузников (рабочих). Но они вовсе не были настроены радушно. Как только показалось ландо с бельгийцами в цилиндрах, как рабочие стали свистеть и улюлюкать, заглушая аплодисменты и приветственные крики. Мы тогда не поняли смысла этой враждебной демонстрации. Быть может, уже один только вид буржуа вызывал враждебные чувства блузников.
Перед 1 мая в Париж начали стягивать войска. Мы с удивлением наблюдали движение этой колонны, которая заполняла улицы Парижа. С изумлением я смотрел на этих кирасир с длинными хвостами на золоченых касках и в красных штанах. Казалось, что эта форма сохранилась с наполеоновских времен.
Мне сказали, что 1 мая Париж распадается на два лагеря. Одни наденут белый ландыш, другие — красную гвоздику. Для одних первое мая — общенародный вековой праздник весны, для других этот день — смотр сил революционного пролетариата.
Хозяйка пансиона М-те Жеан просила меня не надевать красной гвоздики. «Мой швейцар будет очень недоволен», — мотивировала она. В чем дело?' Очевидно, М-те Жеан опасалась, что швейцар может донести: ее пансион — приют русских революционеров, приехавших мутить в социальных низах.
День был чудесный. Во всем чувствовался праздник. Снова толпа веселых парижан. Преобладает белый ландыш. Оля, Всеволод и я с красными гвоздиками направились на площадь Согласия. Там собирались демонстранты. Какова же была наша печаль, когда, придя на площадь, мы увидели ее превращенной в военный лагерь. Тем не менее тут и там проходили кучками «блузники» в синих штанах [и] с красными гвоздиками. «Какая же здесь возможна демонстрация?» — думалось нам. Внезапно раздался свист. Это был сигнал. Демонстранты устремились в ту часть площади, которая примыкает к Елисейским полям. Мы были изумлены, с какой быстротой, с каким искусством в виду войск и полиции построились демонстранты в стройные колонны. Мы немедля встали в ряды. Раздались звуки воинственной песни.
¹ Название боевой монархической организации во Франции. (Прим. Н. П. Анциферова)
Я спросил соседа, что поют. Он с изумлением посмотрел на меня и воскликнул: «Да ведь это же Интернационал!» Так я впервые услышал песнь, ставшую на долгие годы гимном моей родины.
Не прошло и пяти минут, как агенты полиции в форме и в штатском, в гнусных котелках, врезались в ряды демонстрантов. Один из котелков ударил меня по голове. Мгновенно я был подхвачен двумя полицейскими, которые начали бить моей головой по первому дереву Елисейских полей. Вне себя от гнева я вырвался и хотел с кулаками броситься на полицейских. Я успел заметить, как Оля взмахнула зонтиком, чтобы ударить моего врага, но тот ловким движением вырвал зонтик, переломил его о колено, отбросил в сторону и побежал дальше. Я не помнил себя от бешенства и хотел преследовать его, но меня схватили Вова и Оля. «Смотри, ты в крови». Я схватился за голову — на руке оказалась кровь. Друзья повели меня в киоск и заказали сифон сельтерской воды. Но выпить его не пришлось. На площади кирасиры избивали шашками плашмя рабочих. Демонстранты кричали хором: «У! У! У! As-sassines! Assassines!»¹ Спасаясь от ударов, некоторые из них забегали в кафе-киоск. Толстая хозяйка гнала их обратно. Они не шли. Явился отряд полиции и потребовал очистить киоск. Всеволод обратился к нему со словами: «Оставьте нас в покое: мы иностранцы». На офицера это не подействовало. Быть может, он заметил мою разбитую голову. Он схватил Всеволода за шиворот и спустил его с лестницы. «Вы иностранцы — прекрасно. В Москву. Путь свободен!»
Я досадовал на Всеволода. Если мы примкнули к демонстрантам, если у нас красная гвоздика — нам недостойно защищаться, называя себя иностранцами. На площади все кипело. Раздался выстрел. Один из кирасиров покачнулся и упал. Пробежал рабочий, закрыв глаза. Между пальцами струилась кровь. Всадник опрокинул коляску с ребенком. Толстая хозяйка киоска, стоявшая подбоченясь на лестнице, крикнула матери: «И поделом. Зачем привезла сюда в такой день ребенка!»
Мне становилось нехорошо. Друзья под руки довели до скамейки Елисейских полей. Всеволод пошел за извозчиком. Я видел, как вели арестованных. Их держали за рукава рубашки или пиджака. Извозчик нанят, и меня везут домой.
«Что же это? — думал я, потрясенный. — Всюду надписи «Li-berte! Egalite! Fraternite!»², а бьют, как у нас на Казанской площади».
Дома меня заставили раздеться и уложили в кровать. На голове компресс. Я пока соглашаюсь на все, но вечером мы должны быть на митинге. Выступает Жорес. Можно себе представить, каким негодованием заклеймит он правительство Мониса. Я предложил почитать «С того берега» — описание июньских дней9. Когда
9 «Париж! — писал Герцен в главе «После грозы». — Как долго это имя горело путеводной звездой народов; кто не любил, кто не поклонялся ему? — но его время миновало, пускай он идет со сцены».
приблизился час идти на митинг, оказалось, что одежда моя исчезла. Друзья унесли ее к Оле. Я был возмущен этим насилием. Так мне не пришлось услышать лучшего оратора Франции. Первое мая осталось без завершения. В тот вечер я писал письмо Тане Оберучевой, в котором излил всю свою горечь.
Вот какова Франция спустя сто с лишним лет после Великой Революции!
На другой день было серенькое утро. Оно действовало успокаивающе на взбудораженные нервы. Я раскрыл Олара. За окном с улицы донесся призыв «Оля-ля!» Это была моя Эллис. Она звала меня и Всеволода поехать в Фонтенбло. «Надо рассеяться после вчерашнего». Я охотно согласился. На этот раз согласился и Всеволод, часто уклонявшийся от совместных поездок.
Мне казалось, что Оля увлечена им, и его постоянные отказы сопровождать нас повергали ее в уныние. В это же серое утро мы весело отправились на вокзал. По дороге купили газеты. В вагоне я развернул «L'Humanite», надеясь найти громовую статью о вчерашних событиях. Передо, мной стоял вопрос: что это было? Нарушение ли всех либеральных традиций 1 мая или же обычное явление дикого разгона демонстрации? И вот даже в органе Жореса я не нашел того, что искал. Правда, весь подвал был отведен описанию событий 1 мая. Фельетон, как в нашей желтой петербургской газете, был разбит на части занятными подзаголовками. Например: «Деревянная башка». Это прозвище особо ретивого полицейского агента. Досталось и Лепину — шефу полиции, специалисту по разгону демонстраций. Меня неприятно поразил какой-то легкомысленный тон статьи. Так, значит, действительно вчера не произошло ничего вопиющего? А мне все еще хотелось верить: «Свобода. Равенство. Братство».
Теперь, спустя 37 лет, после всего, что пережило человечество, уже трудно представить, как такая вера могла жить в душе русского юноши, ненавидящего капиталистический строй.
Такова Франция после четырех революций! И мне вспомнились отдельные места из статей Герцена о неспособности французов к свободе. <...>10
* * *
Моя жизнь в Париже подошла к концу. Я почувствовал и вековое наследие в Париже, и жизнеутверждающую силу его молодости. И все же, как у себя на родине, так и теперь в Париже, я думал о нем, как о городе, уже заканчивающем свою всемирно-историческую роль. Он становился тем, чем были Афины в Римское время.
Мне не пришлось побывать ни в Палате депутатов, ни в Суде, ни в Moulin rouge. В Палату депутатов попасть трудно. Суд меня тогда недостаточно интересовал, a Moulin rouge хотел посетить для полноты впечатлений, но что-то удерживало меня: не хотелось
10 На опущенных страницах: прогулка по Фонтенбло, ощущение застывшей истории, дряхлые карпы в пруду, обед в ресторане. Фантазии Н. П., В. Н. Белокопытова и О. М. Вивденко о будущем: помещик-меценат Всеволод в своем доме в стиле ампир, художественно-политический салон Ольги в Париже (депутаты, журналисты, актеры, музыканты, поэты, художники) умеренно левого направления. Возвращение в Париж.
Диссертация, защищенная Н. П. в Институте мировой литературы АН СССР в 1944, называлась «Проблемы-урбанизма в художественной литературе». За нее он получил ученую степень кандидата филологических наук.
нарушать тот серьезный строй души, который не покидал меня в те годы.
Вечером, накануне отъезда, моя Эллис предложила нам совершить прощальную поездку по улицам Парижа. Всеволод опять отказался, и мы поехали вдвоем. Была теплая весенняя ночь с молодым месяцем. Еще раз Notre Dame и Saint Chapelle, мосты Сены, башня якобинцев, Лувр, площадь Согласия, Пале-Рояль, памятник Дантону. Все это, как детали панорамы, проплывало мимо нас, и становилось так грустно. Увидим ли еще раз все это на путях нашей жизни? Оля увидела, я — нет.
Прощай, Париж!
Мы в Кельне. Мощно звучит орган колоссального собора. Где-то высоко замирают эти звуки, то бурные, то скорбные. Молодой коренастый монах говорит проповедь. Патетически, сильно жестикулируя, он говорит о тех соглядатаях, которые были посланы в землю обетованную и устрашились вражьей силы, забывая о помощи всемогущего Ягве. И умерли соглядатаи, не увидя обетованной земли. Лишь один из них — Иисус Навин, воодушевлявший израильтян на борьбу, вступил в обетованную землю. Проповедник призывал верить, как Иисус Навин, в обетованную землю Нового Израиля — германской расы, ибо немцы наследуют землю. И в речах его была непреклонная вера. И мне казалось, что здесь, в Германии, эта вера в свой грядущий день охватила весь народ. «Мировой дух» Гегеля в этот час истории с немцами. Надолго ли?
* * *
И. И. Мечников умер в первый год первой мировой войны. Он еще успел увидеть мир, охваченный «бешенством крови». Его ясный рационализм был потрясен зрелищем общего безумия.
Мне вспоминается анекдот, возникший в начале войны.
Немцы начали обстрел русского окопа. Внезапно выскочил еврей и, подняв руки, побежал в сторону врага с криком: «Куда вы стреляете? Вы с ума сошли! Там же люди сидят!»
Этот анекдотический безумец казался мне единственным, сохранившим здравый смысл.
Всеволод умер через год. Весной 1917 года я был в Н. Симеизе, на даче Вивденко «Белый лебедь». Вместе с Олей мы посетили опустелый дом Белокопытовых. Я подошел к пианино, на котором играл Всеволод, и взял несколько аккордов. Как печально прозвучали они в пустом доме. На нашем свидании с Олей лежала тень — воспоминание об умершем друге.
Это была последняя встреча. Гражданская война заставила большинство состоятельных людей, напуганных слухами о большевиках, бежать из Крыма. Среди беглецов была и семья Вивденко. В Болгарии Оля делала копии со старых фресок по заказу какого-то американца. В своих скитаниях она встретилась с отцом Всеволода — Николаем Николаевичем, который так боялся
возможности брака его сына с дочерью нотариуса. Судьба решила иначе: не сын Н. Н. Белокопытова, а он сам вступил в такой мезальянс. Брак этот не был счастливым. Новобрачные поселились в Париже. Н. Н. Белокопытов ослеп. Вся тяжесть заработка легла на Ольгу Михайловну.
Шли годы. Однажды Н. Н. Белокопытов получил письмо от жены. Она извещала, что приняла заказ на несколько картин и уехала в провинцию для работы. Николай Николаевич бросился к своему другу (кажется, киевскому банкиру), которого подозревал в ухаживании за Ольгой Михайловной. Прислуга сообщила об отъезде своего хозяина и назвала тот город, куда поехала Ольга Михайловна. Тогда Николай Николаевич написал отчаянное письмо, умоляя ее вернуться. Он указал в письме срок, до которого будет ждать ответ. Ответа не было. На паперти Notre Dame Н. Н. Белокопытов застрелился. Вернувшаяся Ольга Михайловна уверяла родных Николая Николаевича о том, что она письма не получила. Однажды, перебирая книги мужа, она нашла коробку с патронами. Одно не хватало. Ольга Михайловна лишилась чувств.
Ее брак остался для меня загадкой. Любила она сына, а вышла за отца. Была ли [то любовь] «fort comme la mort»¹, но только в обратном смысле? Удалось ли ей создать салон, как мы предсказывали в Фонтенбло, мне узнать не удалось. Следы ее затерялись на неведомых мне и чуждых путях жизни.
* * *
Париж остался для меня навсегда позади моей жизни. Я изредка возвращался к нему в своих воспоминаниях. Когда я писал диссертацию—один из отделов посвятил Парижу Бальзака''. Мне было приятно еще раз взглянуть на этот город хотя бы чужими глазами великого художника. Да еще по ночам иногда я вижу себя на набережных или мостах Парижа. Передо мной, как в последнюю прогулку, плывут его панорамы. Я хочу дойти до Notre Dame — но сон расплывается, и все тонет в мире минувшего.
¹ Сильна, как смерть (франц.)
По Италии в 1912 году
По Италии в 1912 году (Caravano russo)
ПО ИТАЛИИ В 1912 ГОДУ (CARAVANO RUSSO)
Семинарий по Данте студентов университета и курсисток Бестужевских курсов Иван Михайлович собирал в столовой своей квартиры на углу Матвеевской и Б. Пушкарской.
На темном и ровном фоне обоев — большой портрет Данте с фрески Джотто. Мраморный бюст Данте на письменном столе
кабинета. Рядом с фреской Джотто — панорама Флоренции. (...)
Мы, ученики нашего padre, сидели за длинным столом. Перед каждым лежали тетради и книги ((...) «De Monarchia», «Convito», «Vita nova»¹ и три части «Божественной комедии»). В центре стола для общего пользования — три тома «Enziclopedia dantesca» Скартаццини. Основной труд, над которым мы работали» — «De Monarchia» — трактат, написанный Данте с целью содействия объединению Италии и установлению вечного мира. Каждый из участников семинария по очереди разбирал главу этого трактата. Основные понятия, заключенные в данной главе, тщательно комментировались: расе, carita, justizia² и т.д. Другие сочинения Данте привлекались в целях комментирования этого политического трактата. Работая над главою о мире, нужно было найти, где еще встречается у Данте понятие «расе» (мир) и как в каждом новом контексте автор понимает это понятие, в каком смысле он его употребляет. Таким образом составлялся толковый словарь основных понятий, определявших мировоззрение великого флорентийца. Только этим методом можно было прийти к точному употреблению дантовской терминологии³.
В этом отношении большую помощь оказывал сам Скартаццини, у которого мы находили ссылки на все места, где встречается интересующий нас термин. Так приучались мы Иваном Михайловичем понимать сокрытый смысл языка человека иных времен, иной культуры. Так отучались мы от произвольного вкладывания в чужие слова своего содержания (порок — столь распространенный среди мыслителей эпохи символизма).
Ознакомившись таким образом со всеми случаями употребления Данте интересующего нас понятия, мы писали доклады на такие темы, как: «Carita — в мировоззрении Данте». Некоторые из нас, в целях более широкого освещения изучаемой проблемы, привлекали и других авторов, современных Данте, или его предшественников и, сопоставляя с ними изучаемую по Данте идею, могли точнее и ярче выяснить индивидуальность автора трактата «De Monarchia». Особое внимание обращал Иван Михайлович на все строчки трактата, где можно было усмотреть намеки на исторические события или же где можно было отметить бытовые черты. Наш учитель стремился привить нам вкус к конкретной обстановке, к тому «бытию», в котором слагается сознание, в котором развиваются идеи, характеризующие эпоху. В особенности много внимания уделялось идеям, приобретшим общечеловеческое значение. Но наряду с этими идеями, имевшими «вечный» интерес
¹ «О монархии», «Пир», «Новая жизнь» (лат.).
² Мир, милосердие, справедливость (итал.).
³ Работая много лет спустя над Достоевским, я смог вполне оценить метод работы Ивана Михайловича. Так, например, термин Земля — Достоевский употребляет в своем особом смысле, точно так же особый смысл он вкладывал в термин «камни», когда употреблял его в связи с проблемой о культурном наследии. (Прим. Н. П. Анциферова.)
(мир, любовь, справедливость и др.), тщательно изучались проблемы и образы, характеризующие специфику мировоззрения средних веков. Например: «Два светила» (солнце, луна), образ, связанный с борьбой папы и императора, гвельфов и гибеллинов1 (император, подобно луне, заимствует свет (власть) от папы-солнца). Так же связана была с этой борьбой теория двух мечей, о которых упомянуто в Евангелии. Два меча —символ двух властей — духовной и светской. Оба они у первого папы Рима, апостола Петра, следовательно, ему и принадлежат обе власти: и духовная, и светская.
Данте возражал против этих теорий. Мы изучали толкование их и по другим авторам, имена которых уже стерлись в моей памяти. Так начинали мы понимать своеобразие мышления людей средних веков.
Читали трактат медленно, строку за строкой. Чтение шло по кругу. Один начинал, а следующий абзац уже продолжал сосед. После чтения начинался устный комментарий или читался доклад. Полная, настороженная тишина. Слышен только медленный и негромкий голос читающего. Шелестят переворачиваемые страницы. Читающий возглашает: « «Paradise», песнь XXX, строфа 5». И руки всех тянутся к третьей части «Божественной комедии», а глаза — пробегают по тексту, который читает докладчик. Изредка, но горячо вспыхивают споры. Я не ошибусь, если скажу, что в нашем семинарии совершенно отсутствовало соперничество, не было и соревнования. Все личное отходило на задний план. Мы были охвачены желанием знать и желанием научиться познавать.
А сам padre, чуть склонив набок голову, внимательно слушал каждого. Иногда улыбка появлялась на его лице, улыбка для поощрения робеющего, боящегося оказаться недостойным сидеть здесь за столом профессора Гревса (что каждый из нас считал большой честью). Запомнилось еще выражение его склоненного лица, всегда благожелательное. Помню живо ясный лоб его в раме серебристых, тогда еще густых волос. Как любил наш padre эти занятия! Каким ясным, успокоительным светом было озарено это всем нам дорогое лицо! Мы не замечали, как текло время. Ведь мы здесь преодолевали время, уносимые в далекое прошлое. Только изредка из деревянного домика с циферблатом на стене выскакивала кукушка и куковала нам о проплывших часах.
Занятия по Данте были прелюдией нашей подготовки к путешествию по Италии. Иван Михайлович уже возил за несколько лет перед тем своих учеников в Венецию и Флоренцию. Теперь его спутники были уже доцентами и профессорами. Мне помнится, среди них были: Карсавин, Оттокар, Шаскольский, Брюллов. Это путешествие Иван Михайлович описал в особой брошюре2. Теперь, в 1912 году им был задуман более широкий план: наш padre хотел расширить круг участников, более длительно готовить их и, наконец, увеличить самый маршрут.
Занятия по Данте, просеминарий по хронике Дино Кампанья, просеминарий по Франциску Ассизскому — все это было связано с
1 Гвельфы и гибеллины — политические партии в Италии XII—XV вв. Гвельфы — противники владычества Священной Римской империи (Гогенштауфенов) на Апеннинах, гибеллины — сторонники. Одному из эпизодов их борьбы между собой посвящена книга И. М. Гревса «Кровавая свадьба Буондельмонте» (Пг., 1923). См. также: Боткин Л. М. Гвельфы и гибеллины во Флоренции//Средние века. 1959. Вып. 16.
2 Гревс И. М. К теории и практике «экскурсий» как орудия научного изучения истории в университетах. СПб., 1910.
предстоящим путешествием. Помимо этого Иван Михайлович прочел нам краткий курс истории Флоренции. Вместо Данте и Enziclopedia dantesca на столе его появились карты, планы и многочисленные виды Италии. Особенно тщательно Иван Михайлович ознакомил нас с планом Флоренции, выросшей из римского лагеря, с его перекрещивающимися линиями: limes cardo и limes decuman us¹, сходящимися под прямым углом у Форума, где теперь Santa Maria del'Fiore. Мы знакомились с картами Италии, на которых И. М. Гревс демонстрировал нам маршрут, глубоко им продуманный. Вступлением в Италию намечалась Венеция, Venezia la bella², заключением — Рим, Aurea Roma. Из Венеции мы должны были проехать в Падую, далее — в Равенну (место изгнания и смерти Данте). Основной город нашего путешествия, его кульминационный пункт — Флоренция. Здесь мы должны были прожить две недели с выездом в Валамброзу и Альверно (гора, где получил стигматы Франциск Ассизский). После Флоренции намечалась Пиза, Сан-Джиминьяно, Сьена, Перуджа и затем паломничество пешком в заветный Ассизи.
Исключительно скромный Иван Михайлович не хотел взять на себя целиком руководство экскурсией. Он рассчитывал во Флоренции и Сьене на помощь своего ученика, урбаниста Н. П. Оттокара, молодого талантливого ученого. С нами должны были ехать два искусствоведа: знаток иконописи А. И. Анисимов (москвич) и специалист по Ренессансу В. А. Головань (сотрудник Эрмитажа).
К сожалению, не все участники семинария могли ехать. Хотя взнос был невелик (на все про все 200 рублей за два месяца), но даже и эта скромная сумма не для всех была посильна. Многие не могли примкнуть к нам и по семейным обстоятельствам. Так, любимая ученица нашего padre Таня Лозинская (как он называл ее) была в ожидании ребенка. Но вместо отпавших участников семинария к экскурсии примкнуло несколько учениц профессора М. И. Ростовцева, интересовавшихся преимущественно Римом.
Из участников семинария в экскурсию записались: Л. И. Новицкая, И. В. Берман, Е. Н. Нечаева, Т. Д. Каменская, Ж. П. Отто-кар, В. Н. Николаева, А. Р. Фрейдлинг. Со стороны пришли:
Е. В. Ернштедт, Л. С. Миллер, А. И. Корсакова, К. В. Гросман, К. П. Матафтина. Остальные участники поездки мне не запомнились ни как члены нашего семинария, ни как пришедшие со стороны: Томилова, А. Д. Кучина, А. Л. Бабич, Н. А. Сергиевская, Ж. А. Вирениус, Э. Г. Цубина, Кельнер, Е. В. Ершова. Присоединились к нам и две старых ученицы Ивана Михайловича: Фроловская и С. М. Гершберг. Девушек было 25 (впрочем, не все они были девушки. Замужем уже были Томилова и Оттокар3).
Из студентов поехало трое: А. П. Смирнов, Г. Э. Петри и я.
Прощаясь с нами, угрюмый и молчаливый латыш А. А. Тен-
3 Кроме перечисленных Н. П. в экскурсии участвовали А. А. Знаменская, М. Каган-Шабшай (Авербах) и Н. Мальцева.
тель, заведовавший библиотекой исторического семинария, говорил: «Не надо бы Вам ехать. Они (т.е. девушки) женят Вас на себе. Не миновать Вам беды». Когда мы вернулись, Август Адамович тщательно осмотрел руку каждого из трех студентов, подвергавшихся столь серьезной опасности, и со вздохом облегчения сказал: «Ну, молодцы! Все устояли, нет ни у кого обручального кольца. Чудеса!»¹
Так определился состав нашей экскурсии-экспедиции. Последнее собрание отъезжающих состоялось в помещении Бестужевских курсов. Иван Михайлович хотел устроить нашу встречу со своим учеником Л. П. Карсавиным. Я его тогда увидел впервые. Смуглый и худой, похожий на свою сестру, всемирно известную балерину4, Лев Платонович был очень красив, но красив I декоративно. Тонкие черты лица, прямой, словно точеный, нос, 1 узкая черная борода. Профессорские длинные волосы ложились на чуть приподнятые плечи. В его умном, сосредоточенном лице было мало мягкости, доброты и той светлой одухотворенности, которые так характерны были для лица его учителя — И. М. Гревса. Что-то затаенное и недобро насмешливое поразило меня в этом значительном лице талантливейшего молодого ученого. Мне показалось, что он счел «сентиментальными» словами Ивана Михайловича, просившего сказать нам «напутственное слово». В глазах Льва Плато-новича эта сцена была натянутой. Он недолго побеседовал с нами, но ничего значительного, запомнившегося мне, не сказал.
Наш отъезд был назначен на 20 мая5. В зале Варшавского вокзала я с радостью увидел группу своих товарищей. В центре — Иван Михайлович. Он уже был на месте, как всегда один из первых. Через плечо на длинном ремне бинокль. Девушки наши, одетые по-дорожному, какие-то непривычные. Шляпы с неимоверными полями некоторых из них придавали нашей группе недемократический вид. Поразило меня количество и величина чемоданов самой модной из девушек, ученицы Н. И. Кареева — К. П. Матафтиной.
Вот мы в вагоне. В одном из отделений поместились: Иван Михайлович, Александр Иванович и Владимир Александрович. С ними решились сесть несколько девушек. Мы, три студента, «три мальчика» (как прозвали нас спутницы), где-то робко уселись подальше. Иван Михайлович подозвал меня, как самого общительного и шепнул: «Не уединяйтесь, идите к девушкам. Надо сближаться со своими товарищами». Я передал Смирнову и Петри просьбу padre и мы робко начали «сближаться».
¹ Август Адамович казался нам мизантропом. Грузный, с рыжими усами и в золотых очках он всех профессоров, кроме Ивана Михайловича, называл дураками. Учеными он признавал только Моммзена и Ранке. Ненавистник брака, Тентель свою семейную жизнь устроил неожиданным образом: он женился на своей кухарке. Впоследствии в Латвии он был 2 года министром народного просвещения. (Прим. Н. П. Анциферова.)
4 Речь идет о Тамаре Платоновне Карсавиной (в первом браке — Мухиной, во втором—Брюс, 1885—1978), с 1902 выступавшей в труппе Мариинского театра, а в 1909—29 участвовавшей в Русских сезонах в Париже.
5 Помимо научной подготовки к экскурсии Гревс провел и большую организационную работу. По его настоянию в марте 1912 ректор университета Э. Д. Гримм и директор ВЖБК С. К. Булич обратились к русскому послу в Риме Н. С. Долгорукому с просьбой о ходатайстве перед итальянскими властями об обеспечении участников экскурсии льготным железнодорожным проездом и бесплатным посещением музеев. Одновременно были начаты аналогичные хлопоты и по линии российского Министерства народного просвещения. Гревсу министерство выделило для покрытия расходов 170 рублей (ЦГИА Ленинграда. Ф. 139. On. 1. Ед. хр. 13151; Ф. 14. On. 1. Ед. хр. 10576; Ф. 113. On. 1. Ед. хр. 60).
Головань оживленно рассказывал о своей жизни в Риме. Запомнилось мне лишь его воспоминание о том впечатлении, которое произвел на его хозяйку роман «Анна Каренина» (хозяйка, как Долли, трагически переживала неверность своего мужа).
Владимир Александрович, невысокий, узкий, с маленьким лицом, отмеченным тонкой эспаньолкой, с живыми жестами. Он слегка горбился и взмахивал руками. Говорил он очень увлекательно, умно и с юмором. Мне запомнилась его неожиданная улыбка, когда он, оглядевшись, заметил, с каким интересом мы слушали его рассказ. А души наши были всем радостям путешествия раскрыты. Все насторожилось в нас в ожидании нового, прекрасного, чаемого и неожиданного. Сколько «нечаянных радостей» сулило путешествие! Эту особенную настороженность духа, его раскрытость, эту до пределов обостренную жажду новых знаний Иван Михайлович называл «духом путешественности». К этому нужно присоединить еще доброжелательность ко всему окружающему, готовность не только радоваться, но жажда сорадоваться!
Помню, как в этот же вечер под песенку колес поезда Головань продекламировал:
Quanfe bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
A padre внимательно смотрел на нашу группу и радостно улыбался.
Пишу и думаю об этой последней строчке.
Di doman поп с'ё certezza.
Как хорошо для многих из нас было неведение своего будущего, своей грозной, а для многих жестокой судьбы! (...)7.
* * *
К Венеции мы подъехали вечером. Экскурсанты разместились в гондолах. Плывем по Каналу Гранде. Вот Rialto. Своды этого моста, застроенного домами, почернели. С какой легкостью скользит гондола! Как ловко, стоя, правит ею гондольер своим единственным веслом. Темные воды канала омывают ступени дворцов из мрамора с кружевной резьбой. Напряженно глядим налево, там, в глубине, над дворцами должна показаться Кампанилла Сан-Марко. Венецианские купцы, возвращаясь после многих лет странствований по Леванту8, пристально всматривались в туманную, голубовато-лиловую даль. Они ждали, когда над горизонтом пока-
¹ Как прекрасна молодость!
Но она все время убегает.
Кто хочет быть радостным — пусть будет:
В завтрашнем дне нет уверенности (итал.).
6 Начальные строки «Песни Вакха» («Canzona di Bacco»), написанной Лоренцо Медичи (Великолепным, 1449—1492) и входящей в его цикл «Карнавальные песни».
7 Опущено: пересадка в Варшаве, враждебность поляков к русским; переезд границы: «Наш padre отобрал всех, кто впервые переезжал пределы родины. Он вывел их на площадку и наблюдал то возбужденное ожидание новизны, которое появилось на лицах новичков». Пребывание в Вене, ее достопримечательности, показ В. А. Голованем картин Веласкеса и Джорджоне. Воодушевление экскурсантов при переезде итальянской границы.
8 Левант — древнее название восточной части Средиземного моря.
жется колокольня святого Марка, как величавый маяк прекрасной Венеции, царицы морей. Вот и она всплыла, как тонкий месяц над крышами дворцов. Но, увы! Это была уже другая башня, в 1905 году вековая рухнула. Венецианские патриоты возродили ее из праха в прежнем блеске.
Причалили мы у Пьяцетты9. Прошли мимо столпов со святым Марком, патроном города, и с крылатым львом, мимо Палаццо Дукале10 и Сан-Марко и повернули направо у Торре делла Орладжино11. Все это казалось в вечернем свете признаком, прекрасным и обманчивым. Нет, Венеция не обманет нас. Завтра в утреннем свете все это предстанет перед нами в своей многовековой плоти, — не призрак, а чудесная реальность: эти башни и храмы, врата и столпы, такие стройные, четкие, незыблемые.
В Венеции тихо. Шелест шагов прохожих, да всплеск весла гондольера, а вдали в вечерние часы на Канале Гранде — музыка и пение. Это серенады. Все эти звуки умолкнут не скоро. Венеция живет и ночью. Внезапно в эти великолепные звуки ворвалась дерзкая песенка мальчишек:
Tripoli sera italiano!¹
В тот год Италия воевала с Турцией из-за Триполи. Это было началом того губительного пути, который привел новую Италию к краху.
Утро. Мы сидим на Пьяцца Сан-Марко за столиками и едим джелатти. Стаи голубей носятся над площадью. Садятся на уступы Собора и Палаццо Дукале. Только что Иван Михайлович закончил свой рассказ о происхождении Венеции и сложил карту венецианских островов. Эти голуби сочетались с венецианским фольклором. Старая легенда говорит о том, что именно эта священная птица указала беглецам то место, где надлежало причалить, чтобы основать город. Ломбардцы, спасаясь от германских орд, сели со своим скарбом на ладьи и отчалили в море, куда глаза глядят. Впереди летела стая голубей, указывая путь вплоть до острова Риальто, где птицы сели. «Там будет город заложен».
Блеск утра был ослепительный. Тени медленно плыли по площади. Внезапная музыка ворвалась в ее тишину. Опять «Триполи сера итальяно»? Нет, это было что-то другое. Через [ворота башни] Торре делла Орладжино вливалась на площадь праздничная толпа. Впереди шли статные старцы с бородами и длинными волосами. На них был необычайный наряд: camicia rossa². Это было шествие гарибальдийцев. Их осталось немного. Суетливая толпа итальянцев сопровождала приветственными кликами это шествие. Гарибальдийцы приблизились к Скала дель Гиганти у Палаццо Дукале. В этой толпе они сами казались гигантами. Перед ними раскрылись врата Дворца дожей.
9 Пьяцетта (piazzetta) — буквально по-итальянски — «маленькая площадь». В Венеции — Пьяцетта Сан Марко — продолжение площади Сан Марко от колокольни до самого моря.
10 Палаццо Дукале—Герцогский дворец, или Дворец Дожей,—резиденция правителей Венеции, построен между 1309 и 1442 по проекту, приписываемому Филиппе Календарио.
11 Торре делла Орладжино (правильно: Торре делл Оролоджио) — Часовая Башня на правой стороне площади Сан Марко, построена в 1496—99 архитектором Мауро Кодусси.
При звуках музыки они вошли во двор. Раскрылись другие ворота, выводящие на Riva degli schiavoni¹. Я шел за ними вплоть до памятника Гарибальди. Здесь шествие остановилось. Один из гарибальдийцев поднялся на цоколь памятника и возложил на статую большой лавровый венок. Он говорил о Гарибальди — освободителе Италии. Я плохо понимал его взволнованную, патетическую речь. Поднялся другой и возложил венок из темно-красных роз. В его речи мне послышалась фраза о garibaldini del'mare². Я не понял ее. В словах обоих гарибальдийцев я искал осуждения захватнической политики молодого итальянского империализма, мне чудилось, что оба они учили свою смену тому, что борцы за свободу не должны лишать свободы другие нации.
Памятник Гарибальди поставлен на Славянской набережной³. Тогда еще не нарастал конфликт между итальянцами и славянами. А между тем еще Герцен после встречи с Гарибальди здесь, в Венеции, писал в статье «Venezia la Bella» p будущности демократической Италии, связывая ее с будущей славянской федерацией, которая должна возникнуть на востоке12.
Глубоко взволнованный видом необычайных старцев, соратников горячо любимого мною с детства итальянского героя, я шел к своим товарищам, оставленным мною на площади Святого Марка. Мне казалось, что я видел воочию, как измельчали итальянцы, мои современники, как они не достойны своего славного прошлого. Мне вспомнилось, как Ибсен, столь сочувствовавший освободительному движению в Италии, был огорчен при известии о взятии Рима Гарибальди. Он предвидел, что героический период закончится, что освобожденная Италия не сможет сказать своего нужного слова, которое вправе ждать нарождающийся день истории.
Когда я присоединился к своим товарищам, меня огорчил холодный прием моего рассказа: современная Италия их мало волновала.
Мы ходили по узким переулочкам, переходили горбатые 'мостики над каналами. Наблюдали неслышное скольжение черных гондол. Изредка любовались отражением в мутной глади канала маленьких темно-красных роз, свешивавшихся из редкого садика.
Странный город уводил из жизни. Ни земли, ни зелени — все иное, уводящее в особый завороженный мир, в «соловьиный сад» — место забвения своего трудового верного осла.
Поднимаем полог у входа в храм. Прохладный сумрак таил в себе неведомые сокровища. Глаз привык, и вот картина Карпаччо, самого венецианского из всех венецианских кватрочентистов, влюбленного в свой город. В другом храме из сумрака выступал мечтательный Джанбеллино или могучий Тициан. А вечером,
¹ Скиавонская набережная (итал.). Скиавония — прежнее название Далмации. (Публ.)
² Морские гарибальдийцы (итал.).
³ Так у Н. П. (Публ.).
12 «Venezia la bella» — вторая глава заключительной (восьмой) части «Былого и дум». Впервые опубликована Герценом в «Полярной звезде» (1869, Кн. 8). Н. П. не точно передает смысл высказывания писателя о будущности Италии: «Для Венеции, (выделено нами. — Публ.) может, она (будущность. — Публ.) в Константинополе, в том вырезывающемся смутными очерками из-за восточного тумана свободном союзничестве воскресающих славяно-эллинских народностей.
А для Италии? Об этом после. (...)
Где выход? Не знаю, разве в том, что, провозгласивши в Риме единство Италии, вслед за тем провозгласить ее распадение на самобытные, самозаконные части, едва связанные между собой».
утомленные, мы все-таки шли к Пьяцетте, где садились в гондолу слушать серенады, тихо качаясь на водах лагуны. Сонная волна плещется у ступеней палаццо. Огни домов, огоньки гондол!..
Днем мы встретили Собинова. Вот бы попросить его пропеть о Венеции! Но кто же из нас мог решиться подойти к этому стройному, светлому Лоэнгрину. Ему ли петь нам в сумраке Albergo Ferrari Bravo¹. Ведь даже наша Матафтина содрогнулась, поднимаясь по неприветливой лестнице этого отеля, и, говорят, ложась спать, всплакнула.
Мы — в Музее Академии.
Владимир Александрович — перед Мадонной Беллини. Одну за другой он показал три Мадонны, написанные этим художником: первую в юности, другую — в зрелом возрасте и третью — на склоне лет. В основном, все тот же тип Мадонны Джанбеллино. Первая — еще скованная в своем движении, еще не созревшая в своем материнстве, не проснувшаяся к жизни, полная не столько чистоты, сколько невинности. Вторая — все еще спокойная, безмятежная, но уже познавшая свое материнство, строгая в своей женственности. И последняя — с опущенными веками, что-то затаившая в себе, утратившая первоначальную гармонию, уже не невинная, но все же чистая и еще более женственная. И у каждой свои краски с переходом от холодноватой гаммы ко все более теплой. Краски художника не в его власти, они зависят от возраста, от опыта жизни. Они так же подчинены им, как почерк пишущего. <...>13
* * *
В Венеции мне были очень дороги эти переезды в гондолах от одного храма или дворца к другому. Посадка в эту ладью, плавное ее скольжение по водам лагуны, четкие раздельные звуки, как в лесу. Колеблющийся полет чайки над волной и вдали парус. Все это заставляло каждое новое впечатление переживать, как дар Венеции.
О красный парус
В зеленых далях.
Черный стеклярус
На темных шалях!14
Здесь, в Венеции, время стало иным, не похожим на время в других городах. Оно не несется со стремительностью вешних вод, разрушая и созидая. Время Венеции уже давно перестало быть зиждительной силой, но оно не стало и силой разрушительной.
На каменном горбатом мосту над узким каналом и сейчас можно видеть венецианку в такой же темной шали, как изобразил ее на своей таинственной картине Conversazione² Дж. Беллини.
13 На опущенных страницах: показ Голованем трех картин Тициана — раннего, зрелого и позднего. Спор между Голованем и Гревсом: включать ли в программу показ Тьепполо, «мастера упадочной Венеции»: «Для Владимира Александровича искусство было полноценным миром красоты, совершенно свободным от каких-либо духовных ценностей нравственного мира. (...) Зашел спор между ним и Иваном Михайловичем, для которого мир красоты был неразрывно связан с миром правды». Поездка желавших осмотреть картины Тьепполо втайне от Гревса. Мастерство искусствоведа: «В этой картине, столь мало религиозной, он показал такую глубину человеческого страдания, что все мы стояли потрясенные этим открытием, а на глазах «эстета» Голованя были слезы». Знакомство с произведениями Джорджоне и Тинторетто.
14 Ст. 5—8 стихотворения Блока «Венеция».
Мы прожили в Венеции 8-10 дней, не более, но нами было столько пережито, что, казалось, прошли долгие месяцы. Когда мы шли по земле узкого островка Лидо навстречу волнам Адриатики и чувствовали под собою эту землю, и слушали густой шум платанов (чинар), в котором уже слышался грохот прибоя, нам казалось, что мы высадились на сушу после долгого путешествия по стране, лежащей уже за пределами времени. (...)
И мне думалось о Венеции. Мы, русские девушки и русские юноши с нашим padre, мы caravano russo, внесли с собою в этот город, столь избалованный в десятилетиях восторгами форестье-ров, (...) что-то небывалое, неведомое даже ей, былой Царице Морей. Казалось, что не только многое, на всю жизнь ценное вынесли мы из нее, но и оставили в ней какой-то свой след. (...)
Итак, Венеция была для нас той триумфальной аркой, которой мы вступали в обетованную землю Италии15.
* * *
Из Венеции наш путь в Равенну лежал через Падую. В этом древнем университетском городе мы смогли сравнить по памяти памятник Гаттамелате работы Донателло с тем монументом Колеоне работы Вероккьо, которым восхищались на одной из площадей Венеции. Осмотрели здесь и строгие, сосредоточенные на главном в своей теме фрески Джотто, и фрески мужественного Мантенья, сравнивая треченто и кватроченто. В Равенну мы прибыли вечером и остановились во дворце Франчески да Римини. Потемневшие, мрачные своды, сумрачные комнаты не были удобны и привлекательны. Но древний палаццо был дорог нам тенями Паоло и Франчески, судьба которых повергла в скорбь Данте, который, выслушав их повесть:
Caddi come corpo morto cade!
(Упал, как падает мертвое тело)
Здесь мы приблизились к основной цели нашего путешествия. Из экскурсантов мы превращались в паломников. Теперь мы искали следов Данте в Италии. Мы пошли в его лес, в Пинетту. Это уже не была selva selvaggia (ed) aspra e forte¹. Пинетта сильно поредела. И все же она была полна для нас таинственного очарования. Мощные красноватые стволы пиний, их густые кроны, образовавшие над лесом своды, их шум, такой густой и глубокий, река Монтоне, медленно струившая свои воды — все это дышало «Божественной комедией». Здесь слагалась песнь 28-я Purgatorio, песнь о встрече с Мадленой. Наш padre раскрыл томик Данте и, когда мы уселись на берегу, медленно прочел нам:
¹ Конец ст. 5 пролога к «Аду» из «Божественной комедии». В переводе М. Л. Лозинского: «...дикий лес. дремучий и грозящий». (Публ.).
15 В черновом автографе этой главы далее следуют воспоминания Н. П. о посещении Венеции в конце свадебного путешествия 1914: «Я водил ее (Т. Н. Анциферову. — Публ.) по памятным местам, но эти места теперь были освещены новым светом. (...) Мы были в гостях у самого Джорджоне. Такая поездка вдвоем в один старый, опустевший дом, для того чтобы увидеть одну, только одну картину, имеет неизъяснимую прелесть. (...)
А там, в большом мире, — небо заволакивала грозовая туча. Там, за стенами,
разносились крики — толпы народа шумели на площади. Я сперва не обращал на них внимания. Это все выборы в городской совет. Но вот сквозь шум я услышал явственно: «Prancesco... Ferdinando... assasinato...» (Франц Фердинанд убит (итал.). — Публ.).
Молния прорезала тучу.
Это был конец старого мира.
Так в Венеции кончилась для нас одна жизнь и началась другая, с тихим светом и бесконечными, все сокрушающими грозами. Венеция стала навсегда памятным рубежом.
Мы жили в отеле, где было много немцев. Отель этот содержала норвежка. Я с жадностью на следующий день вслушивался в разговоры постояльцев. Они тогда еще были далеки от истины. Они вздыхали о «трагической судьбе бедного старца — Франца-Иосифа», семью которого «жестоко преследовал рок». Они думали, что убийца—анархист. Только один человек угрюмо молчал. Мне захотелось заговорить с ним...
Узнав, что мы русские, он с достоинством сказал: «Купец bin ich». Это русское слово удивило меня. «Купец» никогда не бывал в России, но знал немного по-русски. «Этот язык будет нам скоро необходим». И наш собеседник с полною откровенностью изложил нам свою точку зрения на Россию. «Ваша страна растет и крепнет неудержимо. Вы, русские интеллигенты,— во власти вашей оппозиционной прессы и не можете понять того, как быстро растет Россия. Еще лет двадцать, и вы будете непобедимы. А потому мы не должны зевать. Wir mufien Rutland zerschmettern» (Мы должны Россию разбить. — нем.}. Это зловещее карканье я не мог пропустить мимо ушей. Возглас «Francesco Ferdinando assasinato» звучал как тот выстрел, которым открывалась европейская война. Теперь я знаю, что в эту неизбежность войны тогда не верили просвещеннейшие умы, изощренные политики. Но знаю, что именно так пережил я тогда эту весть. Постепенно это восприятие как-то изгладилось, пока не появился австрийский ультиматум Сербии» (ОР ГПБ. Ф. 27. Ед. хр. [15]. Л. 10, 11, 12об. — 13об.).
Ма con piena letizia i'ore prime,
Cantando, ricevieno intra Ie foglie;
Che tenevan bordone alle sue rime;
Tal qual di ramo in ramo si raccoglie
Per la pineta in su'l lito di Chiassi,
Quand' Eolo Scirocco fuor discioglie¹.
Все тогда казалось чем-то сказочным: и этот густой ковер из золотистых игл, и этот сочный зеленый берег, и эти воды, и, в особенности, колонны пиний и темные своды их хвои — все это стало храмом Данте. Мы тронулись в путь, когда лучи склонившегося к закату солнца озолотили самый воздух Пинетты.
Тень Данте с профилем орлиным
О вечной жизни нам поет16.
Вероятно, не одному мне вспомнилась там та комната, где мы за длинным столом перелистывали труды Данте, где изображение флорентийского изгнанника украшало стену и где кукушка, выскакивая из деревянного домика, отсчитывала протекшие часы.
На возвратном пути к «тихой Равенне» мы задержались в Киассо, в старом равеннском порту. Море отступило так далеко, что его уже совсем не видно. Мы осмотрели арианский храм17 Сант-Аполинарио-ин-Киассо. Хотелось подняться на его башню, чтобы увидеть отошедшее море. Но ступени были местами разрушены. Однако одна из наших девушек, Елена Викторовна Ернштедт, твердо решила во что бы то ни стало взобраться на башню и посмотреть на «невозвратное море».
Это была очень строгая девушка. Вставала она раньше всех и читала нужных ей в пути авторов в подлиннике. Прозвали ее этрусскою вазой. Лицо Елены Викторовны походило на лики мастера Симоне Мартини: глаза карие «орехового» цвета были чуть-чуть раскосые, золотистые волосы собраны остроконечной косой, как у гречанки. И платье она носила не по моде, просторное, со свободными простыми линиями. Я ее очень уважал и... побаивался. Она была гордая и казалась мне столь ученой, что я боялся обнаружить перед ней свою несостоятельность.
И вот Елена Викторовна попросила меня остаться с ней и помочь подняться по лестнице. С большим трудом, карабкаясь местами на руках, мы достигли первой площадки, но увы — дальше подняться не было никакой возможности. Елена Викторов-
¹ Они, ликуя посреди дерев,
Встречали песнью веянье восток
В листве, гудевшей их стихам припев,
Тот самый, что в ветвях растет широко,
Над взморьем Кьясси наполняя бор,
Когда Эол освободит Сирокко.
Мне жаль, что в прекрасном переводе М. Л. Лозинского не сохранено слово Пинетта. Данте ведь назвал даже местность Кьясси, где Пинетта. (Прим Н. П. Анциферова.)
16 Искаженные заключительные строки из стихотворения Блока «Равенна».
Правильный текст: «Тень Данта с профилем орлиным//О Новой Жизни мне поет».
17 Арианство—течение в христианстве, названное по имени его основателя александрийского священника Ария (около 256—336), отрицавшего равенство трех ипостасей Св. Троицы. Осужденное ортодоксальной церковью как ересь, арианство тем не менее получило широкое распространение среди варварских племен в Западной Европе.
на должна била отступить. С неменьшим трудом мы спустились вниз. Когда подошли к Равенне, она уже было окутана ночной мглою. В темном коридоре встретила нас Лидия Сергеевна Миллер. Гнев ее обрушился на меня. «Как не стыдно заставлять волноваться Ивана Михайловича, а мне казалось, вы его очень любите! Вижу, что ошибалась!» Очень горько мне было выслушать эти слова! В особенности от Лидии Сергеевны, которая мне нравилась больше всех среди наших чудесных девушек.
Но padre встретил меня с улыбкой и потом, подозвав к себе, тихо сказал: «Ведь вы откололись от нас, чтобы не оставить одну Ернштедт?»
Паломничество в Пинетту было подготовкой к посещению могилы Данте. Прах изгнанника покоится в часовне в центре города. Часовня окружена лавровой рощицей. На каменной плите рельеф с профилем Данте и на латинском языке надпись: «1357 год».
Папа Лев Х Медичи из флорентийского патриотизма повелел перевести прах Данте во Флоренцию. Торжественно гробница была помещена в соборе Санта-Кроче. После смерти папы выяснилось, что равеннские монахи прибегли к «благочестивому обману»: прах Данте утаили для Равенны — того города, где великий флорентиец нашел последний приют.
Не только Данте интересовал нас в Равенне. Древняя столица византийского экзарха хранит в себе остатки культуры конца античного мира, погружавшегося в «мрак средневековья». В ее суровых и предельно простых снаружи базиликах — изумительные мозаики, полные тех особенных, неповторимых ритмов, которые уже нигде не могли найти своего продолжения. Эта крайняя сдержанность жеста придавала напряженную выразительность. Золотые фоны сияли, как вечерние зори. Красные и синие камешки мозаики горели рубинами и сапфирами. Но самое замечательное в мозаиках — это лики, изображенные на них, лики с широко раскрытыми глазами, взор которых бесконечно глубок. Эти глаза созерцают не жизнь, а видения.
Наиболее сильное впечатление произвел Мавзолей Галлы Плакиды. Небольшой храм с темно-синим куполом, на котором звезды напоминают кристаллы снежинок. Мраморные стены местами оранжевого оттенка зари. В трех нишах размещены гробницы. Одна из них — Галлы Плакиды...
Над входом — мозаика с юным Христом — добрым пастырем. Садится солнце. Легкие тучки снизу окрашены пурпуром. На зеленом лугу — ароматные цветы. Белые овцы теснятся вокруг своего пастыря. Одна из них касается Его руки. Широко раскрытые глаза Христа устремлены в бесконечность. Здесь Он похож на Орфея. И хотя нет ничего говорящего о музыке, вся мозаика звучит какой-то проникновенной мелодией. Свет проникает в Мавзолей через раскрытую дверь, над которой эта мозаика. В сумраке ее камешки сияют особым светом. Но разве на такое освещение были рассчитаны своими творцами эти мозаики? Не сотни ли
колеблющихся огоньков от восковых свечей должны были освещать их? Что, если прийти сюда ночью, подкупить сторожа, запастись десятками «черини» и озарить их огнями мавзолей? Я подал padre эту идею. Сперва он недоверчиво покачал головой, а потом улыбнулся и согласился.
Та ночь была звездной. Мы вошли в Мавзолей, прикрепили черини к трем саркофагам, зажгли, а вслед за тем засветили свечи в своих руках. Теперь нежным ровным светом озарились своды. Купол словно стал выше, и его снежные звезды как бы повисли в воздухе. Появилось много нежнейших оттенков на мозаике с добрым пастырем. Переливы всех тонов стали богаче. Мы стояли с этими легкими черини в руках и смотрели, смотрели. Быть может, в эти минуты и наши глаза стали похожи на глаза ликов мозаик... И все же... При этом свете, столь обогатившем наши впечатления, было что-то утрачено, что в полусумраке дневного храма выступало ярче. Так, перестали казаться рубинами и сапфирами камешки мозаики.
Когда мы вышли из Мавзолея, я остановился и смотрел на ночное небо с ярко сверкавшими звездами. Иван Михайлович подошел ко мне и положил мне на плечо свою руку. Он мне тихо сказал: «Это было хорошо». И с этой минуты padre для меня — в новом и уже полном смысле padre. Это его прикосновение я пережил, как отеческое благословение. И так на всю жизнь.
Много лет спустя, возвращаясь в его дом после пятилетней разлуки, с котомкой на спине, я шел к нему, как блудный сын, и все ждал, что он склонится надо мной и положит руки, как отец на картине Рембрандта возложил их на коленопреклоненного блудного сына¹.
* * *
Путь во Флоренцию. Подъем в нашем caravano russo все нарастал по мере приближения к главной цели поездки — ко Флоренции. От могилы Данте, который так тосковал на чужбине по своему родному городу и который умер, не имея возможности побывать в нем, — мы теперь с такой легкостью и с такой быстротой мчались под ужасающий грохот колес.
«Скоро Флоренция будет видна из окон вагона», — сказал, улыбаясь, Иван Михайлович. Все бросились к окнам. Горы и холмы загораживали дали. Еще поворот, — и перед нами Флоренция. Вот башни Palazzo Vecchio, Bargello², Кампанилла Джотто, вот купол Санта-Мария-дель-Фиоре. За собой я услышал голос: «От Данте! От Данте!» Я обернулся и увидел Лидию Сергеевну. Она протягивала руку с лавровой веточкой. Лицо ее потемнело
¹ Я рассказал об этом Ивану Михайловичу. Но он был недоволен этим сравнением. «Какой же ты блудный сын?». (Прим. Я. П. Анциферова.)
² Старый Дворец, Барджелло (итал.).
от копоти паровоза. Заметив, что я увидел ее, она нахмурилась.
Трудно теперь, спустя 35 лет, понять тот энтузиазм, с которым мы встретили Флоренцию. Мне тогда вспомнились первые крестоносцы перед Иерусалимом. Это было проявление той экзальтации, на которую так нападал Николай Петрович Оттокар, обвиняя нас, а особенно Ивана Михайловича, в «лунатизме».
Имя Н, П. Оттокара все чаще появлялось на устах наших девушек. Это был молодой ученый, специалист по истории Флоренции, ученик Ивана Михайловича, один из участников первого путешествия по Италии, организованного нашим padre.
Мне запомнилась тогда одна фраза, мало предвещавшая хорошего. «Как долго придется мыть руку бедному Николаю Петровичу после того, как он перездоровается со всеми нами». На вокзале нас встретил Оттокар. Я не ожидал таким увидеть ученика профессора Гревса. Он был одет «с иголочки». Великолепная панама, серый костюм со всеми складочками (словно его только что утюжили заботливые руки), галстук бабочкой, сверкающие туфли — могли заменить зеркало. На руках необыкновенного цвета перчатки (помнится, сиреневого). Гладко выбритый, крепкий подбородок, черные холеные усики, несколько оттопыренные губы (зубы слегка выдавались) и глубоко сидевшие, яркие, блестящие глаза.
«Какой же он чужой!» — подумал я, и мне было как-то не по себе из-за того интереса, который проявляли к нему девушки.
Говорил Н. П. Оттокар медленно, протяжно, сильно нажимая на отдельные слова, словно прислушиваясь к своему вескому слову. «Как француз», — думал я. Но Иван Михайлович встретился с ним сердечно. Что же, может быть, он не испортит нашего общего строя.
Согласно правилам Ивана Михайловича, «покорение города» нужно начинать с вышки18. Было решено в тот же вечер идти по ту сторону Арно на гору Сен-Миниато, на ту гору, с которой Флоренцией любовался Данте, о чем свидетельствует и мраморная доска. (Все те места во Флоренции, которые упомянуты Данте, отмечены мраморной доской с соответствующей цитатой и сопровождающей ее сноской).
Этот раз я изменил товарищам. Я уже был не раз на Сан-Миниато. Мне очень захотелось уединиться и написать обо всем пережитом своей Тане. (То письмо доставило ей большую радость и оно погибло вместе со всем нашим архивом19.)
Когда вечером мы все встретились за ужином и пили кьянти из круглых бутылок, переплетенных соломой, нам казалось, что мы наконец, после долгих странствий, достигли родного дома.
С каким нетерпением ждали мы наступления первого флорентийского утра. Мы шли вслед за нашим padre. В этот день он знакомил [нас] de visu с тем планом Флоренции, с которым в Петербурге он знакомил нас на бумаге. Теперь схема становилась жизнью. Мы прошли и по decumano maximo и по cardo
18 Методические представления Гревса об изучении города изложены в его работе «Город как предмет краеведения» (Краеведение. 1924. №3. С. 245—258^. Он писал: «Город есть (...) культурный организм, притом наглядно охватываемый». Идеи целостного подхода к изучению городской среды были позднее развиты самим Н. П. в его книгах «Город как выразитель сменяющихся культур: картины и характеристики», Л., 1926; «Пути изучения города как социального организма: Опыт комплексного подх6да»/2-е изд., испр. и доп. Л., 1926 и др.
19 Основная часть довоенного архива Анциферовых сгорела в Детском Селе в годы Великой Отечественной войны. Посетив это пепелище 24 июня 1944, Н. П. записал в дневнике: «Пушкин — Детское Село. Холм с белой руиной и редкими деревьями — это курчавое Пулково. Кузьмина нет. Не нашел и места, где оно было. (...) На Широкой улице уцелел только дом, где жили Сидоровы и где останавливались Гревсы. (...) Редко-редко виднеется деревянный полуобвалившийся дом. Исключение составляют дома Пушкина и Вл. Соловьева. Они почти не пострадали. Танина санатория — руина. (...) Вот и наша улица — обуглившиеся мощные стволы в два-три обхвата серебристых тополей лежат поперек нее. Угловой дом, где бывал Тютчев, сгорел. Дом, где умерла мама, разрушен, но стены его стоят, видно и окно ее комнаты. Нашего дома нет. Нет и соседних домов, и того, где жила няня. Семь участков подряд выгорели дотла. Я ходил по этому щебню, по этим железным листам, тщетно стараясь что-нибудь найти из наших вещей. Ничего! Лишь во дворе поломанная кровать Павлиньки (первого сына Н. П. — Публ.), в которой Танюша (вторая дочь.— Публ.) спала" всю свою жизнь. Но кровать унести с собою не мог. <...> Сад буйно разросся. Цветут сирень, жимолость, шиповник. (...) Людская пустыня и людское безмолвие. Этот холм на месте дома — тоже могильный холм. И здесь я хотел бы водрузить крест над своим былым. (...) Когда я бродил по этому пепелищу, мне казалось, что воздух полон духов нашего прошлого, полон его голосов. Здесь, в «Детском Селе», так радостно закипала жизнь наших детей, здесь так тихо сияло созревшее и устоявшееся наше счастье. И эти руины выражали собою и руины моей души» (ОР ГПБ. Ф. 27. Инв. № 1965. 34. Тетрадь 1-я. Л. 47—48 об.).
maximo. Мы видели этот Forum на их пересечении, где теперь Санта-Мария-дель-Фиоре, кампанилла Джотто, на одном из рельефов которой изображен крылатый Дедал, лоджии Ланци и... тот Баптистерий, с гениальными Порта Гиберти, где крестили Данте. Всюду с восхищением читали мы мраморные плиты с его именем, с его словами. Но не нашли мы любимого места Ивана Михайловича:
Fiorenza dentro dalla cerchia antica,
Ond' ella toglie ancora e terza e nona,
Si stava in pace, sobria e pudica (Par., XV)¹
Эту cerchia antica мы теперь обошли, всюду отмечая Торре (городские ворота) и башни феодалов, усеченные по требованию народа. И наконец, мы подошли к Casa Dante², похожему на башню, с его гербом, изображающим крыло: отсюда и имя Алигьери³.
У padre лицо было ясное, какое-то торжественное, а минутами — озаренное светлой улыбкой, когда он наблюдал нашу радостную взволнованность.
«В каждом городе самая примечательная вещь есть для меня... самый город» — писал Карамзин20. Несмотря на неисчислимые богатства храмов, монастырей и музеев — все же эти слова относятся и к Флоренции, к этому городу-цветку, как гласит его имя, о чем свидетельствует и его герб — красная лилия — и название его кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фиоре.
В тот вечер Н. П. Оттокар прочел нам свою первую лекцию по истории Флоренции, о жестокой борьбе с соседями, о бурной борьбе ее сословий. И Оттокар покорил меня. Среди учеников Ивана Михайловича ему принадлежит особое место. Это историк-реалист, и притом реалист, который не ищет в исторических фактах ничего для себя желанного, им любимого, для которого существенно одно — познать действительность, скрытую за покровом времени. Но может ли историк освободиться от всякой предвзятости? Не свободен от нее и Н. П. Оттокар. И ему любо то, что не похоже на принятое. Ему любо во что бы то ни стало опровергать научную традицию, которая возвеличивает, нравственно повышает уровень былой жизни. В этом его коренное отличие от своего учителя, который не навязывает действительности ему желанное, но который все же ищет в ней свои моральные ценности.
При всем том Н. П. Оттокар — историк-художник, с замечательным мастерством воссоздающий суровую картину средневековья, со всеми ее деталями, выписанными с тщательностью кватрочентиста.
¹ Флоренция, меж древних стен, бессменно
Ей подающих время терц и нон,
Жила спокойно, скромно и смиренно.
(Буквально: Жила в мире, трезвенная и целомудренная.) («Рай». Песнь 15-я.)
² Дом Данте (итал.).
³ А1а — крыло (итал.).
20 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. — 4-е письмо из Лондона, июля... 1790 г. В оригинале: «самая примечательнейшая вещь».
Меньшее для нас значение во Флоренции имел В. А. Головань. Он и сам признавался, что «чем южнее, тем для него холоднее». Более всего мне запомнился из его показов мастеров флорентийской школы показ картин Ботичелли: в их ритмах Владимир Александрович старался вскрыть нарастание того кризиса, который пережил художник в связи с движением Савонаролы. Но именно во Флоренции я смог оценить то многое, что уже дал нам Головань. Как-то утром с А. П. Смирновым мы осматривали в Santa-Croce фрески джотесков (Тадео Гадди, Аньоло Гади, Спинелло Аретино...) Пользуясь уроками Голованя, мы могли проследить, как последователи Джотто добивались (часто наивно) линейным путем углубления перспективы, как искали они смелых ракурсов, передачи резких движений, а также композиций массовых сцен. Мы отмечали, как нарастал интерес к рассказу, к случайному, к деталям, как всем этим подготовлялось кватроченто. А вместе с тем, несмотря на все эти формальные достижения, великое искусство Джотто мельчало: «единое на потребу» подменялось .«печением о многом».
В этом же храме — величественный, но холодный саркофаг Данте, пустой саркофаг! Вспоминались равеннские патриоты.
В Санта-Мария-Новелла я больше всего ценил не Гирландайо — этого бытописца Флоренции, столь же совершенно передававшего характер Флоренции, как Карпаччо — характер Венеции. Меня увлек тогда Андреа Оркания. Его Paradise поразил меня гаммой красок — их оттенков зари — и какой-то особой музыкой, органной музыкой. О «Божественной комедии» часто говорят, что в ней силен и убедителен ад и бесцветен рай <...>. Но во всяком случае в отношении живописи я могу сказать, что есть два художника, у которых именно рай очень убедителен и совершенно беспомощен ад. Это — Андреа Орканья и Фра Анжелико.
Монастырь святого Марка — музей Фра Анжелико. Этот художник в маленьких келейках запечатлел жизнь Христа с необычайной простотой и искренностью. Легко поверить свидетельству об этом художнике современников, что он переживал все, что писал, что его прозрачные фрески — записанные им видения. Это рассказ художника о пережитом им самим. Еще после первого посещения мне больше всего запомнилась фреска «Благовещение». Явление показано на фоне келейки Сан-Марко. Как это подтверждает мысль о записи художником своих видений? Ангел с нежностью смотрит на Марию. Богородица говорит: «Се раба твоя, да будет по слову твоему». Она похожа на зажженную Богу свечу, на жертву, обреченную на муку. Мария словно видит Сына своего на Кресте и уже слышит слова: «И меч пройдет через душу твою». И все же это видение озарено такой любовью, согрето такой лаской, что трагичное в нем разрешается в какой-то примиряющей гармонии. Фра Анжелико — Франциск Ассизский живописи.
Раз вечером мы посетили родной город Фра Анжелико — Фьезоле. Он расположен высоко, на склоне горы. Туда спасались жители Флоренции во время вражеских нашествий.
Во Фьезоле мы посетили монастырь. Молодой монах, похожий на того, что изображен Джорджоне играющим на инструменте, играл на органе. Девушки наши сидели на скамьях. А нас, трех студентов, пустили в монастырский сад. Мы шли по кипарисовой аллее, в глубине которой открывался вид на долину Арно.
В прошлые приезды я восхищался панорамой Флоренции с вершины Сан-Миниато; тогда благоухали липы. Вокруг их зеленоватых, пушистых цветов жужжали пчелы; вдоль всего горизонта окружающим долину венцом лежали горы, прозрачно-лиловые, словно аметистовые. Казалось, что они из кристаллов. Все ниже и ниже в долину Арно спускались они уступами. На одном из холмов — роща кипарисов. И на дне этой граненой чаши — Флоренция — серо-пурпурная, с ее куполами и башнями.
Отсюда, из Фьезоле, Флоренция кажется еще глубже погруженной на дно этой граненой чаши. Солнце уже скрылось за Апеннинами. Ложились густые тени. Сейчас мгла поднималась из долины Арно и окутывала город. А небо над линиями гор еще нежно сияло. Из монастыря лились звуки органа. Кипарисы темнели. На небе зажглись первые звезды. В саду проплыли, вспыхивая и угасая, первые светляки. По аллее шли два молодых монаха и о чем-то тихо беседовали. Мне думалось с грустью, что все пережитое во Флоренции и самый образ этого города вот так же в моем сознании покроется мглою времени. Было и хорошо, и по-хорошему грустно. Вспомнился и вечер в Равенне после Галлы Плакиды. Так захотелось, чтобы padre был здесь и так же положил мне на плечо свою руку!
* * *
Из Флоренции Иван Михайлович устроил выезд, по следам Франциска Ассизского в Апеннины, в Валамброзу, к Monte Alvemo¹.
Франциск Ассизский был одним из центров наших семинарских занятий. Его светлый аскетизм (beati qui rigent)², вытекающий из его восприятия мира, наполненного божеством, почти пантеистического, его visceroze amore³ («нутром и чревом хочется любить») ко всему тварному мире, его преображение всех страданий в радость — все это бесконечно привлекало меня. И, признаюсь, Серафический отец21 был мне тогда дороже «сурового Данта».
21 Серафический отец — одно из имен Франциска Ассизского.
Вечер в Валамброзе. Изабелла Васильевна Берман, одна из самых близких учениц Ивана Михайловича, с лицом, напоминавшим образы Ботичелли, рассказывала мне о личной связи нашего padre с этими местами. Здесь он провел последнее лето со всей своей семьей, здесь с ними еще была их любимая Шурочка. И мы чувствовали, что в этот вечер наш padre был особенный. Он не чуждался нас, не стремился, казалось, к уединению. Но он" был все время сдержанно взволнован и сосредоточен в своих мыслях на памятных ему светлых днях.
И все же он созвал нас. Сел на склоне горы, в густом лесу (мне почему-то запомнились вечнозеленые дубы, но, возможно, по ошибке), и сказал, что хочет прочесть нам что-нибудь из Fioretti22, нет ли у кого-нибудь из нас этой книги. Я передал свой экземпляр, купленный еще в прошлую поездку. Иван Михайлович прочел нам разговор Франциска с Prate Leone¹ о совершенной радости (perfecta laetitia). Радость эта заключается в преодолении в душе своей всего темного, в торжестве над всем, что тянет нас вниз, к унынию, к ропоту, к гневу. Читал он замечательно. Становилось ясным, что в слова Poveretto² он вкладывает свои чувства, свои думы. Ближайшие ученицы Ивана Михайловича, в особенности Лидия Иосифовна Новицкая, в этот вечер старались быть [еще более] чуткими и внимательными к своему padre.
Из Валамброзы наш путь лежал по склонам гор, по ущельям к скале Альверно. Местность была по-южному суровой. Обычно с югом сочетается представление о неге, но юг имеет, кроме этой прославленной неги, и свою суровость, и она особенно привлекательна. Медленно поднимались мы на гору Альверно. Вблизи вершины, под скалами — францисканский монастырь, где нас очень приветливо встретили минориты. Один из них, молодой монах Фра Руджиеро много рассказал нам о своем монастыре, передал нам и францисканские легенды, связанные с этим местом. Увы, никто из нас не записал его оживленных рассказов. Владимир Александрович на Альверно сделал замечательный снимок Ивана Михайловича. Padre сидит на ограде с книгой в руках, а за оградой виднеются дали. В этой позе запечатлен Иван Михайлович с такой живостью, с такой передачей его душевного состояния, что мы все полюбили этот снимок. Владимир Александрович сделал увеличение, и он появился на стене квартиры Гревсов, наряду с панорамой Флоренции, портретом Данте и Шурочкой.
Поднимались мы и на скалу Преображения. Здесь Иван Михайлович снова взял у меня Fioretti и прочел о стигматах. Франциск скрылся от учеников своих, но три из них следовали за ним и видели, как ночь озарилась светом, как в сиянии
22 Pioretti — сборник 53 рассказов о Франциске Ассизском. Предположительный автор — брат Уголино, монах конвента Св. Георгия в Анконской мархии, из рода Брунфорте. Время создания — 1320-е. Издание латинского оригинала осуществлено П. Сабатье: Floretum S. Francisci: Liberaureus qui dicitur itali I Fioretti. Париж, 1902. Русский перевод А. П. Печковского— М., 1913. Источниковедческий анализ см.: Геръе В. И. Франциск — апостол нищеты и любви. М., 1908. С. 278— 288.
возник крест с распятым Серафимом, и стигматы Распятого передались Серафическому отцу.
По существу этот чисто католический образ был нам чужд, и чтение не волновало так своим содержанием, как чтение о «совершенной радости». Эта материализация священных образов (праздник «Corpus Domini», «Sacre Coeur»¹) все это не для нас. Но францисканская легенда умела и этот образ окружить присущей ей поэзией. А сама скала Преображения, наше уединение, отрешенность от всего обычного и, главное, это «чувство места» в сочетании с народным языком Фьоретти волновали, вероятно, не меня одного. Перед уходом с Альверно я вспомнил прощание Франциска со скалами и коршуном, который прилетал его будить, и, заметив, что Франциск очень ослаб, заботясь о нем, стал будить его позднее.
Способность воспринимать место, индивидуализируя его, одухотворяя, это одна из привлекательных для меня особенностей ассизского святого.
На возвратном пути Е. В. Ернштедт не захотела ехать в коляске. Она проповедовала идею «хождения по стране». Я согласился сопровождать Елену Викторовну и в этот раз, хотя все еще побаивался ее. Мы шли не спеша, и я соглашался с ней: «хождение по стране» — лучший из всех способов передвижения по чужой земле; им достигается полнота вживания в новые миры, к которым приобщает путешествие.
Елена Викторовна сравнивала ущелья Валамброзы с Дельфийским ущельем. В 1910 году она была одной из участниц экскурсии, организованной в Элладу Ф. Ф. Зелинским. Этот раз наш сепаратизм не вызвал никаких волнений.
В отель «Скандинавия» мы вернулись, как в родной дом. Во Флоренции оставалась тихая Каменская, Татьяна Давыдовна. Чем-то она была больна. И то, что она встретила нас в «Скандинавии», усилило ощущение возврата домой. Татьяна Давыдовна по вечерам нам часто играла на пианино. Больше всего в ее исполнении запомнилась прелюдия Рахманинова. Особенно ее игру любил Головань. Он часто садился вблизи, ставил локти на колени и склонял голову на ладони. Слушал внимательно, иногда слегка покачиваясь. В те дни ему исполнилось 40 лет. Эту дату мы отметили и поднесли ему цветы. Он был тронут и говорил о mezzo del cammin di nostra vita².23 Теперь уже спуск с горы. Со всем этим можно мириться, если есть корешок, который глубоко вошел в почву. «Но вот, — говорит Владимир Александрович, — у меня-то и нет такого корешка». Несмотря на наши приветствия чувствовалось, что ему в этот день было очень грустно.
Во Флоренции у нас создался особый быт. По вечерам в столовой отеля мы слушали лекции. Читал нам сам Иван Михайлович,
23 Из первого стиха «Ада» «Божественной комедии» Данте. В переводе М. Л. Лозинского: «Земную жизнь пройдя до половины...»
а кроме него — Н. П. Оттокар и, кажется, раза два В. А. Головань. После мы расходились по комнатам. Окна выходили в «колодец». И еще долго слышались голоса наших девушек, сидевших на окнах и перекликавшихся друг с другом. Часто раздавались взрывы хохота. Головань, Оттокар и Анисимов уводили некоторых наших девушек «развратничать». Так назывались самые невинные походы в cafe «Гамбринус», где было вкусное мороженое (джелатти). Нравы у нас были очень строгие, или, если можно так выразиться, «застенчивые». Мы, три мальчика, считали даже неприличным сказать девушкам, что идем в баню. И, чтобы объяснить наше длительное отсутствие, сказали, что едем в Ареццо смотреть фрески Пьетро делла Франческа. Мокрые волосы выдали нашу тайну, и с тех пор девушки стали, смеясь, называть и между собой баню Ареццо. А. И. Анисимов не сочувствовал этим нравам Смольного института и не упускал случая чем-нибудь конфузить наших девушек, выходками во вкусе фламандской школы. Padre сочувствовал нашему поведению, раннему уходу к себе и раннему вставанию. Он ставил трех мальчиков в пример нашим девушкам. А мы казались им еще желторотыми, несмотря на то, что итальянцы называли нас с уважением dottore¹ (Анисимова, Голованя и Оттокара — professore². Я все ждал, как же они назовут Ивана Михайловича, и итальянцы нашлись: И. М. Гревс получил у них титул rettore³). А мы, три студента, называли друг друга тоже на итальянский лад: Alessio-senza-barba, Giorgio-barba-rossa и Nicolobarbuto⁴.
Не принимая участия в беседах через окна колодца, мы все же перед сном делились своими впечатлениями. Беседовали не только о том, что нового принес нам флорентийский день, столь изобильный впечатлениями, — беседовали мы и о наших профессорах, и о наших девушках.
Больше всех интересовала меня Лидия Сергеевна Миллер. Она обратила на себя мое внимание в Венеции. И, правду сказать, я тогда досадовал на нее. Стоишь в храме перед Тицианом или Пальмой, или Веронезе, а вот тут, где-нибудь у колонны, — Лидия Сергеевна, и лицо ее такое прекрасное, что мешает смотреть на великих итальянских художников. Мне лицо ее казалось лучше всего того, что я мог увидеть на картине или на фреске. Я и теперь не дерзаю описать его. Ближайшая подруга Лидии Сергеевны — Елена Николаевна Нечаева, с которой я и Алексей Петрович особенно подружились, мне много о ней рассказывала. И я все не мог решить, кто же она: героиня Тургенева, или Толстого, или Достоевского, — она напоминала и ту, и другую, и третью.
¹ Доктор (итал.).
² Профессор (итал.).
³ Ректор (итал).
⁴ Алексей Безбородый, Георгий Красная Борода, Николай Бородатый (итал.).
Но не только на меня произвела Лидия Сергеевна столь сильное впечатление. Вот что рассказала мне Леля Нечаева. Л. С. Миллер шла одна по длинной галерее, соединявшей галерею Уффици с галереей Питти через Ponte Vecchio¹. Эта галерея на всем протяжении украшена картинами старых мастеров; большей частью портретами. Лидия Сергеевна шла мечтательно, слушая шум Арно под мостом. Внезапно появился итальянец, который стал ее преследовать, все время восклицая: «О bella, о bellissima!»². Испуганная Миллер едва спаслась от него. Впрочем, этот пример не может еще служить доказательством ее успеха. Е. А. Лютер сидела в библиотеке, погруженная в работу. Какой-то итальянец, ее сосед, попросил ее, пересесть за другой стол. «Но почему?» — спросила удивленная Лютер. «Почему! Почему! А потому, что у нас в крови огонь».
Интересней другой случай с Лидией Сергеевной. Она, дочь луж-ского помещика, любила верховую езду. Никому не говоря ни слова, Лидия Сергеевна поехала под вечер в горы, во Фьезоле. Все уже сели за ужин, а ее все еще не было с нами. Увлеченная красотой вечера, феерией летающих светлячков, она не заметила, как прошло время и Флоренция погрузилась во мрак. С дороги она сбилась и дала волю коню. Конь, мечтавший о своей конюшне, понес ее с такой быстротой, что у бедной Лидии Сергеевны выскочили шпильки и распустились косы.
На площади Санта-Мария-дель-Фиоре, залитой луной, на коне появилась прекрасная signorina, словно видение. Толпы итальянцев окружили ее и сопровождали до конюшни. Быть может, не все детали верны в этой записи, но так мне запомнилось это приключение.
Как грустно было провожать каждый флорентийский день и как радостно встречать новый, а дней становилось все меньше и меньше. Каким на всю жизнь даром судьбы был такой флорентийский день! Палаццо д'Авансати с лоджиями наверху вместо зубчатых стен, где сохранились надписи о гибели прекрасного Джулиана Медичи, любившего Симонетту. Капелла Медичи с надгробными памятниками Микеланджело (Ночь и День, Вечер и Утро) и с фресками Беноццо Гоццоли, в которых все полно ликования. Санта-Мария-дель-Кармине с фресками Мазаччо, где Петр — не тот пылкий и слабый Петр, пристыженный криком петуха, а могучий Петр — повелитель мира, который призван вещать urbi et orbi³. Картинные галереи Уффици, Питти, Академии, Сады Кашине и Боболи, Палаццо Рикарди и Строцци, — все эти образы встают в памяти, вспыхивают, как летающие светлячки, и гаснут во мраке былого.
Настал последний вечер. На террасе «Скандинавии», что над
Арно, мы собрались чествовать нашего padre. Мы сложились, чтобы поднести ему чудесную книгу Cento vedute di Fiorenze¹.
Приветственное слово должна была сказать Лидия Иосифовна» самая близкая из близких. На столе стояли бутылки кьянти и бокалы. Иван Михайлович знал: что-то готовится. Он чувствовал себя стесненным и молчал. И все мы молчали. Все ждали слова Лидии Иосифовны. Но молчала и она. Тогда заговорил Головань. И смысл его речи поразил нас всех. Он напал на нашего padre за аскетический дух нашего caravano russo и вызывающе предложил тост «За вино!» Ивану Михайловичу было тяжело. Но он принял вызов, с улыбкой ответил Голованю: «Вино может быть и другом человека, может быть и врагом его. Я принимаю ваш тост, но только с оговоркой: пью за вино — друга человека!»
Мы наполнили бокалы и чокнулись с Иваном Михайловичем и друг с другом. Казалось, теперь печать молчания снята с наших уст. Но... молчание продолжалось, мучительное молчание. «Cum tacent — clamant»², — ласково сказал Александр Иванович. Все улыбнулись и... молчали. Почему мы молчали? Ведь все мы были счастливы той Италией, которой так щедро одарил нас Иван Михайлович. И вот потому все, что мог каждый из нас сказать, казалось таким ничтожным. И мы молчали. Бедная Лидия Иосифовна! Лицо ее покрывалось красными пятнами, и глаза лихорадочно горели. Я чувствовал, что должен был прийти ей на помощь, взять у нее книгу и что-то сказать за всех нас, поднеся ее Ивану Михайловичу. Но я не мог и со стыда готов был провалиться скозь землю. Все это сделал Георгий Эдуардович. Все облегченно вздохнули. Можно было расходиться. Но разошлись мы с очень тяжелым чувством. Так-то поблагодарили мы Ивана Михайловича, а тут еще выпад Голованя. Ох, нехорошо как! В этот вечер в колодце не было слышно смеха.
На другое утро мы покидали Флоренцию. Я шел к вокзалу мимо Mercato nuovo³. Там фонтан—Porcelli⁴—Медный кабан, описанный Андерсеном. Мальчик-художник совершал на этом Медном кабане свои поездки по флорентийским галереям в ночные часы. Сказку эту я знал с детства, но совсем забыл о ней. При виде Медного кабана мне сразу вспомнилась забытая сказка, как далекое эхо' на мое детство. И вдруг сказка стала как бы реальностью. Не вымысел Медный кабан, а быль. Стерлись грани между явью и сном. Это последний привет Флоренции.
День был пасмурный, и это было хорошо. На душе такая усталь после всего пережитого, и в особенности вчерашнего нашего провала.
«Что padre? — спросил я тихо, кажется, Лидию Иосифовну. —
¹ Сто видов Флоренции (итал.).
² «Когда молчат—вопиют» (лат.).
³ Новый базар (итал.).
⁴ Кабан (итал.).
Не сердится на нас?» — «Нет, что вы, ему было нас только очень жаль».
Хотелось к морю, как там, в Венеции, на Лидо. У Ливорно мы прошли на берег. Отчего постоянно взволнованное море несет мне с собою не тревогу, а покой?
Мне вспомнилась там, на берегу, небольшая картина Ботичелли: Блаженный Августин идет по морскому берегу. Море — бесконечное, с голубой дымкой, а на горизонте бледная заря. На берегу мальчик, ложкой зачерпнув морскую воду, переливает ее в маленькую ямочку среди камней в песке. Сюжет нам известен.
Блаженный Августин бродил по берегу, размышляя о происхождении зла в мире, созданном благим и всемогущим Отцом. Unde malum?¹ И не находил ответа. Внезапно увидел он мальчика, вот так, как это изобразил Ботичелли, самый задумчивый художник Кватроченто, поэт в живописи. Блаженный Августин спросил мальчика: «Что ты делаешь?» Тот отвечал: «Я хочу перелить море в эту ямочку», — сказал и исчез. Мудрец понял смысл видения. Разве не безумие пытаться вместить море божественной мудрости в наш ограниченный разум? <...)24
* * *
Мы направлялись в Сан-Джиминьяно.
Елена Викторовна предложила идти с ней по стране, следовательно, пешком. Кроме меня, к ней присоединились А. П. Смирнов, Е. Н. Нечаева, Е. А. Лютер, К. В. Гросман. Наши разместились в экипажах и быстро скрылись из вида.
Бодрым шагом вступили мы в горы. Дорога шла по склону, все время набирая высоту. Вскоре мы подняли чей-то паспорт. Оказалось, нашей Н. А. Сергиевской. Ну и недотепа же она! Пусть поволнуется и мы ее утешим. Перспектива приятная...25
Горы становились все круче. Сгущались сумерки. Внизу начинали вспыхивать огоньки светлячков своим переменным светом, как у маяков. Их становилось все больше. А над нами зажигались звезды. Внизу росло число огоньков, и вверху оно росло еще быстрее. Светящаяся бездна над нами, и внизу, под нами, словно опрокинутое небо — бездна мерцающих огоньков. Где-то послышался глухой грохот надвигающейся грозы. Все ближе и ближе. И вдруг рассыпался грохотом по ущелью такой гром, что мы, вздрогнув, остановились. Полились потоки дождя. Вот уж подлинно разверзлись хляби небесные. Тучи скрыли звездную бездну неба. Ливень погасил огоньки светляков в ущельях. Все погрузилось в полнейший мрак. Исчезла дорога.
Когда же мы доберемся до Сан-Джиминьяно в таком хаосе? Однако который час? Из нас никто не курил. Я поймал одного светлячка, все еще не хотевшего погасить свой фонарик, и по-
¹ Откуда зло? (лат.)
24 Опущено: пребывание в Пизе, фрески Амброджио Лоренцетти, размышления о «мертвящем дыхании рока» и грозной судьбе, ожидающей «таких счастливых в те дни сочленов нашего caravano russo». Город Черкальдо, вымерший от чумы.
25 В личном деле Н. А. Сергиевской за время ее обучения на Бестужевских курсах отложилось немало сведений о потере ею различных документов.
ложил его на стекло часов. Он еще раз вспыхнул и осветил циферблат. «Половина девятого! А какая темь!»
Шли мы ощупью, придерживаясь правой стороны, где мы могли прощупывать склон горы. А вдруг был поворот налево, и мы его не заметили и сбились с пути? Как проверить? Карты у нас не было, да и на что она была бы нужна в этой полнейшей мгле? Внезапно я увидал на склоне горы ниже дороги слева огонек. Я попробовал подойти к нему. Камень сорвался и как-то предостерегающе загрохотал, падая в бездну. Еще громовой удар. Я переставил ногу — тишина. Осторожно спускаясь по кривой, я достиг домика с огоньком и нащупал дверь. Она легко открылась. Но не успел я ступить через порог, как раздался вопль ужаса. Передо мной у своих реторт стояла старая ведьма и, подняв руку, тряслась. Мне самому стало страшно, и я отступил. Еще один камень прогрохотал в своем падении. И все же я благополучно добрался к своим спутникам, ходящим «по стране». Алексей Петрович насмешливо сказал, выслушав мой рассказ: «Ведьма-то ваша не зелье, друг мой, разливала, а парное молоко. Вот бы напиться!» Но никому не захотелось повторить мою прогулку к огоньку. Идти было все труднее, не потому что становилось темнее (темнее уже быть не могло), а потому, что одежды наши набухли от воды. В особенности девушкам мешали промокшие юбки, сковывавшие им ноги. А тут еще ослепительный блеск молнии, грохот грома и падение где-то поблизости расщепленного дерева. С криком мы сгрудились в одну кучу. Гроза словно все еще усиливалась. Постояли, постояли, и снова тронулись в путь. И вот мимо нас тихо, беззвучно пролетел сам дьявол, затронув меня и еще кого-то перепончатым крылом. «Ага! Это прошел кто-то встречный и задел нас своим зонтиком. Эх, надо бы спросить дорогу. Поздно догадались!» Но вот снова огонь слева. Этот раз мы пошли к нему все вместе. Постучались в дверь: открыл нам молодой изящный монах. Он радушно предложил нам остаться у него ночевать. Но остаться мы не могли, думая о нашем padre и товарищах. Какое же там волнение! Монах успокоил нас: мы на правильном пути, и Сан-Джиминьяно уже близко. Снова тронулись в путь, каждый оставив после себя лужу дождевой воды.
Сан-Джиминьяно
САН-ДЖИМИНЬЯНО
Как подойти к цели паломничества? С какой точки увидеть желанный город? В какое время года? В какой час дня? Все эти вопросы должны стоять перед каждым ходящим по стране.
Лучше, чем мы подошли к Сан-Джиминьяно, подойти было нельзя. В полном мраке как мгновенное видение средних веков, возник перед нами город одиннадцати башен, блеснул романтическим видением и исчез. Он предстал перед нами, как черный силуэт, вычерченный тушью на светлом небе, озаренном молнией
при страшном грохоте грома, подхваченного эхом ущелий. И, ^словно в ответ на этот удар, с другой стороны сверкнула молния. На этот раз Сан-Джиминьяно весь озарился фосфорическим блеском на фоне черного призрачного неба. Так все время возникал и исчезал он перед нами, поглощаемый мраком, пока мы не подошли к его воротам. Здесь поразила нас толпа итальянцев, вышедшая с фонарями встречать пропавших русских. Граждане Сан-Джиминьяно радовались, как дети, что мы не погибли в ущельях. Они довели нас до Albergo, где нас ждали наши товарищи.
Иван Михайлович покачивал головой: вот вам и хождение по стране. Они сочувствовали нашим испытаниям. А мы жалели их, что они не пережили встречи со средневековым городом так, как пережили ее мы!
Н. А. Сергиевскую встретили мы в полном неведении о ее потере. Ну! Ну! Нам даже обрадовать не пришлось эту растяпу!
Как вкусен был ужин! Какое чудесное было вино! Я, преисполненный радости, воскликнул: «У меня сегодня удивительное настроение: жить хочется чертовски! Эхма! Жизнь малиновая, где наша не пропадала!»26 — «Что с вами, Николай Павлович? Вы, я вижу, выпили лишнее?» — сказала мне соседка. «О, нет, Лидия Сергеевна! Выпил я очень мало, всего стакан. Но вы правы: я пьян! Но пьян не от вина. Я пьян Италией, пьян молодостью, пьян, наконец...» Я чокнулся. Продолжать мне не следовало. Ох, искушение!
Утром Н. П. Оттокар повел нас по городу. Здесь он был великолепен. С изумительным мастерством умел он выбрать место для показа так, чтобы характер средневекового города обнаружился с наибольшей полнотой. Заходили мы и в собор, расписанный фресками жизнерадостного Беноццо Гоццоли. Своими фресками он воздал хвалу житию святой Фины. Эта праведница была разбита параличом. Всю жизнь свою она провела прикованной к одру. Но душа ее была полна тихой радости, и страждущие приходили к ней за утешением. Это итальянская Лукерия - живые мощи. Предание сохранило память о ее любви к фиалкам. Когда старый сторож провожал нас, он сказал: «Io sono felice di essere il custode di Benozzo Gozzoli»¹.
На площади Синьории перед собором и ратушей Николай Петрович прочел нам лекцию о борьбе сословий в Сан-Джиминьяно. Горожане были гибеллины. У них не было одно время своего вечевого колокола, увезенного врагами. Созывать на собрания приходилось, ударяя в колокол собора. При обострении борьбы между гвельфами и гибеллинами клирики запрещали гражданам звонить в соборный колокол. В этих маленьких городах Италии крепко держатся традиции. И Оттокар показал нам большую мраморную доску, прикрепленную к башне ратуши.
¹ Я счастлив быть стражем Беноццо Гоццоли (итал.).
26 Последняя фраза — слова Маши из первого действия «Трех сестер» А. П. Чехова.
«В память мученика свободной мысли Франциска Феррера с верою, что настанет время, когда не будет ни жертв, ни палачей. S. P. Q. S. G».
Граждане Сан-Джиминьяно в расправе Альфонса XIII над свободным мыслителем увидели торжество духа нетерпимости папства и этой доской выразили свой протест клерикализму. Надпись эта мне так понравилась, что я решил переписать ее в свою записную книжку. Толпа итальянцев наблюдала за нами. Один из них подошел ко мне и спросил, понравилась ли мне доска.
— О да, очень!
— Кто вы?
— Русские.
Тогда итальянец обратился к своим согражданам с краткой речью по поводу нашего посещения Сан-Джиминьяно и кончил ее возгласом, подхваченным толпой:
«Evivo popolo russol
Evivo popolo (нет, не italiano, a popolo sangiminianese)!¹»
Ведь и надпись на доске была сделана согласно древней традиции: во времена Рима писали S. Р. Q. R. (Senatus Populus que Romanus)² здесь R заменено на S. G. (sangiminianese).
Чем же не народ? Прославленный город одиннадцати башен! Санджиминьянцы не разрушили их, не укоротили, как флорентийцы. Они сберегли их для потомства. Силуэт Сан-Джиминьяно странно напоминает на снимках силуэт Нью-Йорка с его небоскребами.
У них есть свой художник — Беноццо Гоццоли, своя святая — Фина, свои свободолюбивые традиции. Интересно знать, уцелела ли эта доска в годы диктатуры фашистов!27
Все это, конечно, в других масштабах. Я думаю, что Сан-Джиминьяно лучше всего раскрыл нам сущность вековой Италии. Понятным становится существование микрореспублики Сан-Марино.
¹ Да здравствует русский народ! Да здравствует народ (нет, не итальянский, а сан-джиминьянский)! (итал.)
² Сенат и римский народ (лат.)
27 В настоящее время этой доски нет, остался только след от нее. (Сообщено А. Брамбатти.)
Сьена
СЬЕНА
Вот мы в Сьене. И снова совсем особенный, неповторимый мир. Н. П. Оттокар в своей лекции упомянул нам о стихах одного флорентийского поэта, который назвал главную площадь Сьены печным горшком. Это сказано зло. Площадь делла Синьория здесь имеет действительно своеобразную форму. Ее плотно замыкают высокие здания красного цвета (Сьену окружают такие вот красные глины). А дно этой площади углубляется к центру. Высокая
тонкая башня с зубцами венчает площадь. Это башня Палаццо делла Синьория. Такие же красные стены и ныне окружают Сьену. Над воротами приветливая надпись: «Cor tibi Sena magis pandit» («Щедро отвешивает тебе Сьена свое сердце»).
Во фресках Треченто прекрасно в своих подробностях представлена городская жизнь Сьены, этого самого рыцарственного города из всех городов Италии. На одной из фресок фигура мира (расе). Фрески эти украшают стены Синьории.
В Сьене мы встретили еще одного ученика Ивана Михайловича — Крусмана, который путешествовал по Италии со своим племянником. В ответ на наши возгласы восхищения он сказал: «Это Павел Муратов создал светлый, мечтательный образ Сьены. Это его фантазия. Впрочем, облик ее мог создать такое представление. Нет, Сьена не светлый город. Жестокая Сьена — вот как ее нужно называть. Вся ее история кровавая. Этот красный цвет городских стен словно свидетельствует об этом. Правда, в основном ее живопись мечтательна и светла. Дуччио ди Буонисенья, Симоне Мартини, Сано ди Пьетро — все художники города Мадонны, отказавшиеся от мира сего ради мира тихой мечты. Они не отражение реальности Сьены, а противопоставление ей, полный контраст. Вот Матео ди Джованни — это подлинно сьенский художник. Он постоянно писал «избиение младенцев Иродом». И как писал, с каким увлечением он выписывал отвратительные детали этой гнуснейшей бойни. И заметьте — без всякого осуждения. Какое там осуждение! Он любовался этими сценами. Сколько музыки внес в них, какие ритмы! Какие утонченные краски!
Нет, Сьена — жестокий город!» Все это говорил Крусман своим густым, низким голосом, все
более воодушевляясь.
По городу водил нас Н. П. Оттокар. Этот раз он говорил мало, но выбранный им маршрут превосходно раскрыл нам ландшафт Сьены, столь сохранивший свой феодальный характер. Прогулку он закончил перед старым, словно покрытым вековой пылью небольшим домом, перед которым висел колоссальный золотой зуб (как крендель булочной!), а на зубе лежал покрытый густой пылью лавровый венок.
Здесь был зубоврачебный кабинет! Это очень по-итальянски <...>28.
* * *
Накануне отъезда [из Сьены] за столом вспыхнул небывало горячий спор.
Н. П. Оттокар, хотя и не собирался дальше сопровождать нас, резко обрушился на план Ивана Михайловича пешком идти из Перуджи в Ассизи. «Все это лунатизм, — говорил он, скандируя, растягивая слова. — Это вредный дух нашей группы, этот лунатизм. Он мешает видеть вещи такими, какие они есть. Совер-
28 Опущено: традиционалисте кий характер сиенской живописи, последняя речь Голованя о рыцарственности и готичности Сиены, «смелый размах сиенцев, полный романтики и безумного дерзания», осмотр Собора, прощание с Голованем. Встреча с датчанином Йоргенсеном, исследователем Франциска Ассизского, беседа с ним о смысле францисканства, торжественный ужин, встречные тосты о русской и скандинавской литературах.
шенно лишнее пешком тащиться усталым людям 25—30 километров. Нужно ехать прямо в Ассизи. А если есть тут такие любители — то им никто не помешает сесть на поезд, доехать обратно до Перуджи и оттуда пропутешествовать пешком в Ассизи. Я решительно осуждаю весь этот вредный лунатизм!»
Лицо нашего padre стало совсем печальным. Слегка подергивалось его плечо. Он замолчал, посматривая на нас. Неужели никто не поддержит его слова? Молчали ближайшие из близких. Первой заговорила Леля Нечаева, вслед за ней я. Так можно потерять всякое уважение к себе, неужели и этот раз промолчать! И вот заговорила Валаамова ослица. Я сказал, что нахожу план Ивана Михайловича вполне реальным и разумным. Что приближение к желанному месту пешком создает нечем не заменимую подготовку к встрече с ним. Город вырастает из земли, с которой в пути можно так'сродниться. Что сама Умбрийская долина — незаменимая рама и для портрета святого из Ассизи. Что она сама может объяснить многое в зарождении францисканства. Что же касается слабых, уставших в нашей группе, то если такие есть, они и могут доехать до Ассизи и встретить там паломников, идущих из Перуджи.
(Как видно, я стал горячим поклонником «хождения по стране».)
Как я был счастлив, когда план Ивана Михайловича одобрили единодушно. Впрочем, не помню, было ли голосование. Леля Нечаева, всегда подтрунивавшая надо мной, крепко пожала мне руку.
По возвращении домой, в Россию, Иван Михайлович получил письмо от Николая Петровича с резкой критикой его руководства нашей группой. Письмо это не только огорчило, но и оскорбило Ивана Михайловича. Впоследствии они объяснились, и тяжелый осадок, видимо, был изжит <...>29.
* * *
Перуджу мы покинули среди дня, с расчетом подойти к Ассизи вечером. Каким контрастом к ней является Умбрийская долина — родина «Фьоретти»! Ее голубые дали, ее голубые оливы, ее голубые цветы — все отблески лазурного неба. Когда мы шли, легкий и нежный ветер обвевал нас запахом скошенной травы. В вечерней тишине звенели цикады. Это был час Ангелюса. Ассизи был виден издалека, действительно похожий на ласточкино гнездо, прилепленное к скале.
Я шел рядом с Лелей Нечаевой. За нами брела Лидия Сергеевна. У нее сильно болела голова, и она распустила волосы. «Почему вы не сели с теми, кто ехал в тележке?» — «Я этот путь должна пройти пешком, как хочет padre». — «Что вы, Николай Павлович, не предложите ей руку? Вы не видите, как ей трудно идти?» — говорила Елена Николаевна. Я взял с большой робостью
29 Опущено: прощальная ночная прогулка по Сиене, беглое упоминание о посещении Перуджи, ее неприкрытая (в отличие от Сиены) суровость.
Лидию Сергеевну под руку и только тогда почувствовал, как она устала.
Солнце садилось. Отблески его были еще видны на домах и башнях Ассизи. Угасли и они. А вместо них вскоре начали загораться огни в домах, которые нас манили к себе. Прежде чем город спрятался в сумерки, уже ясно мы могли различать колокольню Сан-Франческо.
Как это замечательно хорошо — вот так подходить усталым к желанной цели. Эта усталость нужна, нужна, как пост перед разговлением. А это медленное нарастание ожидаемой встречи с любимым городом, как с любимым человеком, наконец, сознание, что мы идем по путям, где ходил Poveretto со своими frati minori¹, разве это не реальность, разве это не один из путей сближения с ним! Так Ренан, Грегоровиус, Буасье, Сабатье и, наконец, «наш» Йоргенсен ходили по следам тех, жизнь и душу которых они хотели постигнуть30. Наконец, от этого паломничества совершается какое-то очищение души от наседающей на ней пыли, неизбежной в суете сует. Неужели же это все «лунатизм»?!
Дни и часы, проведенные в Ассизи, были полны особой гармонии. Наша группа после всего пережитого созрела до единства. Здесь, в Ассизи, Иван Михайлович снова целиком владел всеми нами. Это были его дни.
Мы осмотрели Сан-Франческо с фресками Джотто и Симоне Мартини. Готика этого собора лишена всего дурного, всего мрачного. Красочная гамма внутри храма — цвета зари, тонущей в голубом. Джотто, записавший жизнь Франциска, здесь чем-то сходен с Рерихом. Одна из фресок Симоне Мартини своим смешением рыцарского, монашеского и римского напомнила мне фантастического монократора Отгона III. Есть это смешение и в самом Ассизи: и рыцарское, и аскетическое, и римское. Первые два начала особенно ощутимы в храме Сан-Франческо, смешение их было в равной степени присуще и самому святому из Ассизи. А на главной улице — античный храм Паллады!
Мы обошли все места, упомянутые Томазо Челоно, «Тремя спутниками», «Pioretti» и в «Specolo perfectionis»². Мы посетили Сан-Дамиано — убогий храм, куда скрылся Франциск от своего отца — купца, отдав ему все свое имущество, даже одежду. Мы побывали и в Careen³, и в монастыре Святой Клары, и в Порциункуле (Святая Мария Ангельская). По пути в Carceri мы встретили осла. Александр Иванович сказал с усмешкой, но доброй: «Вот он и брат осел!» (Франциск «братом ослом» называл свою плоть и каялся перед ней в излишней суровости).
Иван Михайлович замечательно хорошо говорил нам тогда об «оклеветанном осле». «Это терпеливое, кроткое и благородное
30 О встрече с И. Йоргенсеном в Сиене см. прим. 28. Его исследование о Франциске вышло в Париже в 1909. Французский историк П. Сабатье также писал о Франциске (рус. пер. 1923). Его соотечественник Г. Буасье занимался Виргилием и кругом Цицерона, его основной темой было падение язычества в Древнем Риме. Э. Ж. Ренан — автор известной книги «Жизнь Иисуса». Работы немецкого историка Ф. Грегоровиуса посвящены средневековым Афинам и Риму, им же создано жизнеописание Лукреции Борджиа (1480—1519).
животное. Вы всмотритесь, какие у него глаза, какие они одухотворенные!» Мне много лет спустя попались стихи французского поэта Ф. Мэйнара, посвященные ослам, которые достойны войти в рай.
В Careen мы встретили один из лучших вечеров. В тени этих вечнозеленых дубов, в этом ущелье мы сидели вокруг Ивана Михайловича, который читал нам снова, как тогда, в Валамброзе. Этот раз он прочел разговор с Prate Leone о чтении Бревиария.
Порциункула — Santa-Maria-degli-Angeli — любимый угол Франциска на земле, находится на расстоянии нескольких километров от Ассизи. Этот уголок уже ничем не напоминает былой приют Серафического отца. Отсюда смотрели мы на Ассизи. Сюда завещал Франциск принести себя перед смертью. Он снял с себя одежды. Лег на землю, лицом к родному Ассизи, и так встретил «сестру свою» — смерть. А жаворонки, его любимые птицы, взвились над умирающим и разлетелись в разные стороны, образовав над ним крест. (Жаворонка (allodola) Франциск называл миноритом. Серенький, с хохолком, незаметный на земле, бедный и смиренный, но когда устремляется к небу — поет торжественный гимн.)
В Ассизи мы отметили день рождения Александра Ивановича, который помог нам ознакомиться с древней иконописью и с мозаиками. Ему торжественно поднесли итало-критскую икону, купленную в Перудже. Поднесли ее по русскому обычаю с полотенцем, хлебом и солью.
* * *
После Ассизи — Рим. Казалось бы, кульминационный пункт кривой нашего путешествия. Но это было не так. Рим лежал вне нашей программы медиевистов. Не было в нем для нас и такого знатока и мастера показа, как Оттокар. В Риме нас должна была встретить чета Шаскольских. По древнему Риму нас должна была водить жена, по средневековому Риму, Риму Возрождения и барокко — муж. Но в нашей группе было к ним отношение насмешливое. И Шаскольского называли заочно просто «Петунчик».
Но для меня новая встреча с «вечным городом» значила очень много. Подъезжал я к нему уже в третий раз... (...)31.
Остановились мы в центре Рима, на старой, узкой и тесной улице della Camera oscura¹ в иезуитском подворье, перешедшем от поляков к России. Там было все мрачно, начиная с тяжелых чугунных ворот, о которые нужно было стучать молотком, кончая служителем, не говорившим по-русски, весьма молчаливым, которого мы прозвали Диаволино в память того чертенка, который, по рассказу Оттокара, был изгнан святым и превращен в бронзовую статуэтку, повисшую на углу старого палаццо. Две высокие
¹ Темных лавок (итал.).
31 Опущено: воспоминания q первых встречах с Римом в 1910—11, прогулках по нему с Г. А. Фортунатовым. «Форум повелевал миром (...), был горнилом страстей». Ночное посещение Колизея, крик совы над ним.
темные комнаты были отданы нам. Налево поместились многочисленные девушки, направо — малочисленные мужчины. На темных стенах висели потемневшие портреты ясновельможных панов и их нарядных горделивых жен. Здесь, казалось, жизнь застыла в XVIII веке. В этом подворье посетил нас Муратов со своей женой и своим другом Грифцовым. Он был молчалив, сдержан, как-то задумчив. Вероятно, стеснялся.
Наш padre устал. Ему хотелось отдохнуть перед трудностями обратного пути. Хотелось и побыть с собой. Он уже считал свою миссию оконченной. Группу нашу должны были возглавить Шаскольские. Жили они где-то в северной части Рима, близ Монте-Пинчио. Это была очень несходная между собой, любящая пара. Он — скромный, даже застенчивый, неуверенный в себе, весьма добропорядочный, идейный русский интеллигент. Она — горделивая блондинка с рыжеватыми волосами, смелая, утвержденная в себе. У них был сын 2—3 лет. С ним родители говорили почему-то по-немецки. «Mach Napoleon» — и малютка скрещивал руки и опускал голову. «Mach Rafael»¹ — и голова поднималась, одна ручонка опиралась на скамеечку, а другая подпирала курчавую головку — поза ангела на картине «Сикстинская Мадонна». В саду Шаскольских росли аканты, и они с гордостью показывали нам их декоративные листья.
Нехорошо получилось у нас с осмотром Рима под их руководством. Они не вызывали к себе ни того уважения, ни того доверия к своим знаниям и уменью показать, как Головань, Оттокар и Анисимов. А между тем они оба любили Рим, и от них можно было узнать многое. Меня очень огорчало, что с Шаскольскими ходила совсем небольшая группа, и мне приходилось уговаривать товарищей не уклоняться от осмотров с ними римских достопримечательностей (хотя я встречал и насмешки по поводу моей ретивости).
Иван Михайлович был с нами на Форуме, на Палатине и в катакомбах.
В катакомбах на Via Appia произошел случай, очень взволновавший нас. Мы шли в подземелье длинной вереницей с легкими горящими черини в руках. Целая процессия. По обеим сторонам — в 4—5 этажей надгробные плиты с надписями: «Requescit in pace». Эти узкие коридоры вливались в небольшие залы — подземные церкви; кое-где фрески. На них всюду — молодые, безбородые лица — и у «доброго пастыря», и у Моисея, и у пророка Ионы. Под землей — целый лабиринт, где легко заблудиться и погибнуть без нити Ариадны. Я где-то читал, что если сложить в одну линию все переходы всех катакомб, то расстояние получится 750 км, то есть то же, что от Москвы до Петербурга.
Внезапно подошла ко мне Нечаева в сильном волнении: «Исчезла Лидия Сергеевна. Нужно ее искать, пойдемте». Отде-
¹ Представь Наполеона; представь Рафаэля (нем.).
литься нам следовало так, чтобы Иван Михайлович не заметил. Мы быстро свернули в одну из боковых галерей. Искать решили так, чтобы не терять надолго из вида огней нашей группы, вместе с тем все время следить за огоньками наших свечей. Мы расстались, все время взывая к Лидии Сергеевне. Все молчало. Тишина могилы... Внезапно исчез свет Нечаевой, и вслед за этим раздался ее дикий вопль. Она уронила свечу, и та погасла. Леля мне потом говорила, что она почувствовала себя заживо погребенной. Но этот крик спас Лидию Сергеевну. Она его наконец услышала и откликнулась. Мы соединились. Теперь троим нужно было найти товарищей. К счастью, искали их недолго. Мы вскоре увидели свет и, боясь его вновь потерять, устремились к нему со всевозможной скоростью. Исчезновение уже было замечено, но от padre все было скрыто.
Мы ознакомились с музеями и галереями Рима. Побывали в Ватиканском музее. Осматривали дворцы и храмы эпохи барокко и великолепные фонтаны того же стиля. Один из вечеров провели дружной компанией в cafe Greco, где умилял нас портрет Гоголя работы А. Иванова. Показ Рима барокко наиболее удался Шаскольскому. Но у нас уже не было того подъема, переходившего в экстаз, в котором все время находилась наша группа. Ее жизнь клонилась к закату. Свеча, зажженная 20 мая в Петербурге, догорала. В качестве последней поездки, в которой должны были принять участие все, была дружно назначена поездка в Тиволи.
Надвигалась гроза. Было душно и как-то томительно. Мы бродили вразброд по склонам парка Виллы д'Эсте, между колоссальными кипарисами. Гроза набежала мгновенно с целыми пучками громогласных молний. Ливень пронесся потоками. Мы разбежались и попрятались, кто куда мог. Вихрь зашумел в высоких дубах, пиниях. И стих. Так же внезапно кончился ливень.
В Сабинских горах сгрудились тучи, точно со всех сторон сбежались сюда. Солнце очистилось, и все засияло.
Снова на склонах парка показались наши. Как мне стало дорого это слово — «наши»! А ведь это прощальная прогулка! И мы все разлетимся. И навсегда, навеки. Вероятно, кое-кто еще встретится друг с другом, но того единства уже не будет. Наша экскурсия была реальным существом, которое я горячо любил. Она имела свою юность. Теперь дни ее сочтены, она уже прошла отпущенный ей срок. Что составляло ее существо? Конечно, padre! Наша экскурсия жила им, и если в ней бывали враждебные, противоборствующие ему токи, то они лишь обогащали содержание нашей жизни, обогащали, не искажая его. Слишком крепка была закваска, заложенная Иваном Михайловичем.
Свеча нашей экскурсии догорела. Вот она скоро потухнет. Но то, что вложено в каждого из нас этой чудесной поездкой, — залегло крепко, на всю жизнь32.
Кипарисы Виллы д'Эсте... Между ними одинокие фигуры. Некоторые бродят попарно. Но все рассыпались, охваченные
32 В 1926 И. М. Гревс предпринял среди своих учеников, коллег и знакомых анкету на тему: «Что дало моей юности путешествие?» Отвечая на нее, Н. П. писал: «(...) Очень любил слушать рассказы о путешествиях, помню, что интересовался подробностями и каким-то радостно-чудесным казалось то, что мир велик и разнообразен. Что тянуло вдаль? Смутное чувство. То, что немцы называют Sehn-sucht. Вид дороги, уводящей вдаль, всегда волновал и звал (это описано у Жорж Занд, это очень мне родное). (...) Ни один вид путешествия не увлекал меня в такой мере, как хождение пешком, с палкой в руке, с котомкой за плечами. Ощущение пути наполняло душу какой-то особой песней, музыкой. Земля и ее запах, деревья, иногда встречающиеся постройки, ожидание чего-то нового, неведомого, ясное как никогда ощущение неба над головой, вслушивание во все звуки, все это делало минуты такого странствования минутами блаженными. (...) Больше всего любил идти все дальше и дальше, с тем чтобы не возвращаться, либо подходить к неведомому городу в вечерний час, когда чувствуешь усталость и огоньки домов так ласково сулят покой. (...) Приход в город в вечерний час очень запомнился в Ассизи и Сан-Джиминьяно. (..Л
Что меня привлекало? И природа, и культура, и быт, и искусство, и встречи с людьми. Всегда хотелось все ощутить как новую индивидуальность. Но больше всего привлекал, как выражается проф. И. М. Гревс, «дух путешественности». Для меня это есть вольная отдача созерцанию, действенному созерцанию. Это есть освобождение сил, скованных повседневной заботой. Радостное обновление своего существа. Путешествие для человека то же, что весна для природы. (...) Когда путешествуешь, выходишь за пределы своей индивидуальности. Радостно ощущаешь, что многие твои ценности, которыми ты пожертвовал, многообразно осуществляются другими. Жизнь благодаря путешествию ощущается как великое дело многих и многих, как многообразное дело и как единое. Соборность — вот чему учит путешествие. Общение с ландшафтами как с индивидуальностями развивает способность любить. Путешествие укрепляет дух и воспитывает веру в жизнь. После путешествия я ощущаю глубже связь с целым. (...)
Вот почему мне кажется, что в серьезном путешествии есть всегда нечто от паломничества и что паломничество— высшая форма путешествия. Но все это так при одном условии. Нельзя стать цыганом. Нужно иметь свое постоянное место, свой дом, свое дело, из которого делаешь вылеты, чтобы в него вернуться и жить для этих дома и дела. Если этого нет — путешествия вырождаются в бродяжничество.
Я думаю, что путешествия есть одна из форм стремления к бесконечному, что свойственно не только человеку, но и всему живому (преодоление пространства), как занятия историей есть стремление к вечному (преодоление времени). Поэтому я считаю, что в духе путешественности есть что-то сродное религии» (ЛО ААН СССР. Ф. 726. On. 1. Ед. хр. 181. Л. 73—74).
Sehnsucht¹. Всеми вместе, заодно, прожита большая жизнь. Жаль расстаться. И мне вспомнилась картина Дж. Беллини «Conversazione»². Такое же томление и светлая грусть. Одно кончается, начинается другое. Мы еще молоды, жизнь впереди! Я вижу голубоглазого, с темными волосами, Алексея Петровича, скрытного и страстного. Вот рядом гладко причесанная, в фартуках — темная Ксения Гросман, со строгим и ясным лицом, и женственная, златовласая Элли Лютер с разноцветными голубыми глазами — один с лиловатым оттенком, другой — с зеленоватым. Вот милая bambino³, совсем кисейная барышня, Кучина и тонкая, со шляпой размеров зонтика, чопорная, как английская мисс, Матафтина, а вот полный контраст ей — крепкая, с лицом русско-восточным Шурочка Знаменская, прозванная Иваном Михайловичем «справедливой». Какие все разные, а жили все одной жизнью Caravano russo.
В гроте я увидел Лидию Сергеевну [Миллер]. Она стояла, подняв руки к струе воды. Совсем наяда. Мне хотелось ей сказать, как радовало меня ее присутствие! Но... я молча удалился. И не один я молчал. В эти часы среди нас царило молчание33.
Куда разведут нас дороги жизни, и где и какие их концы? Кто чем сможет увенчать свою жизнь? Мрачные тени ложатся на милые мне лица, мрачные тени конца. Лишь закат нашего padre был тих и ясен. Смерть его была Успением.
Думая теперь о каждом, я утешаю себя мыслью, что прожитое тогда в Италии заодно со всеми нами и в тяжелые часы, дни, года поддерживало клонившуюся вниз голову. Я узнал это на своем опыте.
Прошло тридцать пять лет. И как мало нас дошло до этой вехи, стоящей на жизненном пути <...>34.
33 О восприятии экскурсии в Италию ее участниками свидетельствуют их письма к родным. «Впечатлений уже масса», — сообщала сестре из Венеции А. А. Знаменская. Спустя десять дней она писала: «Сейчас нахожусь во Фьезоле, видна вся Флоренция, здесь маленькая францисканская церковь, чудесно играл орган, мотивы такие нежные и мелодичные». В конце путешествия медиевистические интересы пробудились и у нее, поначалу далекой от круга гревсовских учеников: «Иван Михайлович как-то неожиданно для "меня пригласил заниматься у него по Августину. Не знаю, смогу ли я, но во всяком случае надо стараться. Падре (...) ко мне относится очень хорошо. Он такой хороший и славный, что сил никаких нет описать. За последнее время только он немножко изнервничался» (ОР ГПБ. Ф. 1088. Ед. хр. 116. Л. 55—58). Да и сам Гревс признавал свою усталость в письмах к жене и дочери: «Очень рад, что возвращаюсь, и решительно никуда не хочется. Устал духовно, но силы остаются»,—писал он из Рима 10(23) июля. Это не мешает ему через три дня вспомнить о путешествии с теплотой: «Берман мы проводили на север, а с Новицкой остались здесь <во Флоренции. — Публ.) на сегодня и завтра. Ей надо отдохнуть, а мне устроить все дела (книжные и иные). Нас встретили здесь Оттокары (брат и сестра) и Каменская, и мы дружески отдыхаем. Теперь в душе всплывают только хорошие воспоминания об экскурсии. (...) Все же компания очень сблизилась и много получила» (ОР ГПБ. Ф. 1148. Ед. хр. 89. Л. 12—13).
Годы спустя экскурсия в Италию оставалась одним из самых светлых воспоминаний для ее участников. В 1914 Н. П. писал своему учителю из Рима: «Теперь в Италии для меня incipit vita nova. Ее создают весна и уединение. Но образы старой жизни здесь, нашей совместной жизни, не покидают меня. Моя спутница сроднилась с Италией еще тогда, когда я ей рассказывал о днях, проведенных с Вами. Всегда Вам желаю скорее встретиться вновь с Италией. Всего светлого». (Эта открытка с видом Флоренции сопровождена просьбой Н. П. передать ее содержание «итальянским землячкам»—ОР ГПБ. Ф. 1148. Ед. хр. 92). Но, пожалуй, главным итогом экскурсии было то, что она развила способность участников caravano russo воспринимать местность как исторический источник, профессионализировала их обыденное сознание. Оказавшись в прифронтовой Варшаве, К. П. Матафтина писала оттуда Гревсу 28 декабря 1914: «Здесь много ярче, чем в Петербурге, хотя все течет гораздо нормальнее, нежели можно предположить издали <...> Но удивительно, как скоро жизнь восстанавливает разрушенное и все приводит в норму; насколько в истории такие события прочнее и грандиознее, чем в своих внешних, материальных проявлениях» (ОР ГПБ. Ф. 1148. Ед. хр. 98).
Накануне тридцатилетия научной и профессорской деятельности Гревса (весной 1914) участники итальянской экскурсии намеревались собрать и издать свои воспоминания о ней в виде юбилейного подарка учителю. Padre втайне решил ответить им тем же. Однако по каким-то причинам это намерение не было осуществлено ни с той, ни с другой стороны. Лишь в январе 1924 Гревс приступил к систематическому описанию «незабвенной поездки», доведя рассказ о путешествии до въезда во Флоренцию (ЛО ААН СССР. Ф. 726. On. 1. Ед. хр. 188). Значительное место в этих воспоминаниях занимают характеристики участников экскурсии, частично использованные нами в указателе имен. Сохранились и подготовительные материалы Гревса к экскурсии 1912 года, включающие подневные планы путешествия, библиографические списки едва ли не по каждому из его аспектов, подробные регламенты работы и т. п. (Там же. Ед. хр. 187).
34 Опущено завершающее эту главу стихотворение Блока «Успение» («Ее спеленутое тело...»). В следующей (опущенной нами) главе—описание свадьбы Н. П. и Т. Н. Анциферовых и их последующего путешествия по Швейцарии и Италии.
«То, о чем здесь я буду писать, — начинает Н. П., — требует молчания. Слова и фразы имеют свою емкость. А вложить в них то, что я хочу вложить, мне не под силу. Зачем же я отдаюсь этой борьбе с собой? Она мучительна, и ничего, кроме горечи, оставить не может. И все же я буду пробовать писать. Я хочу эти листочки приложить к дневнику моей жены. Пусть они помогут соединить первые тетради его с последней».
Далее: значение, придававшееся Т. Н. Оберучевой их венчанию — «таинству не только в церковном смысле», но и в «глубоко личном плане»; ее болезненное отношение к бытовой стороне свадьбы; решение венчаться в «кругу избранных друзей», в лицейской церкви Знамения в Царском Селе. Гости: В. Н. Белокопытов, М. И. Курбатов, Л. Н. Оберучева, А. В. Тищенко (шафер Н. П.), А. В. Шмидт (шафер Т. Н.). Ослепительное видение невесты во время венчания. Свадебный пир в доме Толпыго в Софии на Артиллерийской, 22. Поздравления, в т. ч. телеграмма от Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. Застольные речи: В. П. Красовской, Л. Е. Чикаленко, И. Б. Селихановича. Размышления Н. П. о счастье и страдании. «Наша любовь — наша общая молитва Богу».
Проводы новобрачных на Балтийском вокзале, прощание навсегда с мирным Петербургом. Пребывание в Зелисберге (Швейцария). Жизнь в уединении, чтение — подготовка к поездке в Италию, прогулки по окрестностям. Болезнь Н. П. (пневмония), приход весны и выздоровление. Путь в Италию, «свою страну» для Н. П. Милан, Болонья, Флоренция, Ареццо, Орвьето. Прибытие в Рим 25 марта — годовщину обручения. Прогулки по городу, посещение Форума, места «слияния руин культуры и ликования природы». Чтение Тацита и гроза над Форумом. Странствия по римским холмам, посещение музеев, раздумья на историко-топографические темы. «Рим в те дни казался нам мраморным саркофагом, обвитым розами».
Страстная неделя в Риме, посещение храмов, уличные процессии, кардинальские службы. «Меня, в особенности Таню, отталкивал католицизм, хотя и поражал воображение какой-то скрытою в нем силою и своей театральностью. Здесь нет ничего, что заставило бы углубиться внутрь себя».
Поездка на Капри, богатство южной природы, чтение «Одиссеи». Путешествие по югу страны: Амальфи, Салерно, Неаполь. Возвращение в Рим «как в родной дом», поездки по его окрестностям, день на вилле Адриана, «окружившего себя всем, что любил». «Вилла Адриана (...) — путь римской власти из латинского мира в земной <...>, полноценный памятник эпохи синкретизма», запечатление «мечты о всечеловеческом единстве». Поездка в Албанские горы, Джинцано, путь пешком из Альбано во Фраскатти. Посещение русского революционера-эмигранта Лебедева.
Пробуждение у путешественников «социального стыда»: «...Нам так хорошо», но «мы не вправе забыть о том, к чему готовились всю нашу юность». События политической жизни Италии: митинги, забастовки, баррикады на виа Кавур, выступления анархистов по всей стране, споры в поезде по дороге в Сиену. Пребывание во Флоренции, коммунальные выборы, невозможность целиком погрузиться в культуру и отрешиться от настоящего. Посещение «тихой Равенны» и прощание с Италией в Венеции. Возвращение домой с остановкой на вилле Шиллер, заездом в Лозанну.
Посещение Н. А. Герцен (Таты). «Я напомнил ей письмо, которое она писала мне в 1911 году о неизданной части «Былого и дум», где говорится об уходе ее матери. Наталия Александровна всплеснула руками: «Вот и вы говорите об уходе. Неужели в России все так думают? Ведь никакого ухода не было. Моя мать сумела победить свою страсть». <...> Говоря это, она сильно волновалась. Она решила опубликовать все, до последней строки, чтобы реабилитировать память матери». Восторг Н. П. при этом известии. «Теперь я знаю, — пишет далее Н. П., — что Наталия Александровна ошибалась, что книга, которую я писал с Таней (а она продолжала работать над ней до последних дней жизни) («Любовь в жизни Герцена» —Публ.), была построена на заблуждении. Уже после смерти Тани я прочел книгу Карра «Русские идеалисты в изгнании» и узнал о связи жены Герцена с Гервегом, о ее страсти, не погашенной до конца ее дней, до конца утаенной. Вместе с тем я узнал и о всем значении ее жертвы мужу и детям. Мне стало известно, что и Наталия Александровна получила книгу Карра и, узнав правду, закрыла ее, не стала читать дальше. «Лучше бы я умерла, не знав этой ужасной книги», — воскликнула она».
Посещение Н. А. Герцен вместе с Таней, восхищение Н. А. тем, что «русские все еще остаются такими идеалистами», ее теплый отзыв об И. М. Гревсе. Посещение в Кларане В. Н. Фигнер. Остановка на пути домой в Дрездене, знакомство с «Сикстинской Мадонной». Размышления о «паломничестве по священным камням Старого мира». «Здесь, за рубежом, нами был празднично завершен большой этап нашей жизни: пролог в небе. Но мы уже чувствовали, что не только мы, но что старый мир завершил какой-то свой этап исторического пути». Ощущение надвигающейся войны и невозможность в нее поверить.
Пребывание в Алферове после путешествия, известие о начале войны, рождение дочери. Мысли Т. Н. Оберучевой о детях: «В своих детях она искала, как и во мне, завершение самой себя». Ее борьба со своей смертельной болезнью в 1928 во имя детей. Совпадение мыслей Т. Н. с размышлениями в письмах Герцена, прочитанных Н. П. в 1947.
Часть седьмая. Туман рассеялся
Глава I.1919 год
[Глава I]
1919 ГОД1
Весной 1919 года после голодной и холодной зимы свирепствовала дизентерия, гибли дети, гибли и взрослые. 1 июля умер наш первенец Павлинька. Потрясенные его смертью, не веря в возможность такого несчастья, мы шли за его гробом, который я вез в мальпостике его сестренки. Похоронили рядом с могилой моей бабушки на Смоленском кладбище. Когда вернулись после траурного обряда, еще со звуками в душе «вечная память», нам было жутко войти в детскую, где еще недавно было столько счастья, которое не в силах были омрачить ни голод, ни холод. Ибо тут царила всепобеждающая любовь.
То, что встретило нас, потрясло душу до ее глубины: на кроватке сидела наша Таточка. Лицо ее горело, глаза стали шире и еще синее, на простыне виднелись пятна с кровью. Значит, смерть пришла и за нею.
Она посмотрела на меня и прошептала: «Папочка, Бог с тобой!» — «Что ты хочешь сказать, доченька?» — Она подняла ручку и сказала: «Ну Бог, что на небе. Он с тобой». И эти слова врезались в мою душу, и с ними в душе я прожил свою жизнь. С ними вышел победителем из всех испытаний. А их было немало.
После похорон Таточки к счастью всех нас и я свалился в той же болезни. Время было жаркое, и не было возможности уберечься от мух, разносителей заразы. Моя болезнь и страх за мою жизнь пробудили из оцепенения мою жену и мою мать. Я был при смерти. Мама с ужасом заметила зловещие признаки ее близости: я начал, по народному выражению, «обираться», беспокойно водить руками по телу. И вдруг — крутой поворот к выздоровлению, он вернул к жизни и Таню, и маму, и все же трудно было входить в нее. Мама ушла в хозяйство, а Таня? После рождения сына она оставила службу. К. А. Половцева (родственница Кропоткина, наша знакомая по кружку А. А. Мейера, о них подробно в другом месте) пригласила Таню к себе в Красную Славянку в помощницы заведованием интернатом.
Красная, бывшая Царская, Славянка находилась на холме за Павловском, в имении гр. Самойловой, известной красавицы екатерининских времен2, изображенной с девочкой-турчанкой на кар-
1 События 1914—19 почти не отражены в воспоминаниях Н. П. В объяснение этого и он, и жена его неоднократно приводили слова Герцена: «Счастливые народы не имеют истории». Анциферовы жили в то время в Петербурге на М. Посадской. Н П. преподавал историю в женской гимназии Н. Н. Яворской, реальном училище А. С. Черняева, Тенишевскому училище, начал работать в отделе Rossica Публичной библиотеки. Браку и появлению детей предшествовали нелегкие раздумья Т. Н., уже успевшей сформироваться как историк. «О Коля! — записывала она в дневнике 25 апреля 1913. — Я еще раз продумала, могу ли я, как сегодня сказала. «уступить ему дорогу». Принимаю ли я свой крест, принимаю ли возможный конец научной работе? Эту первую сдачу моего гордого вызова совмещать несовместимое. <...> И теперь желанная и лучшая отсрочка, во время которой надо было так много сделать, чтобы оставить за собой возможность победы, кажется досадной и ненужной, потому что ясно, что дело не в том, что я могу сделать до брака, а в том, что я смогу удержать после» (ОР ГПБ. Ф. 27. Дневник Т. Н. Анциферовой. Тетрадь 12-я. Л. 19—20). Решение, однако, было принято и принесло счастье обоим супругам: 5 марта 1915 родилась дочь Наталия (Таточка), 27 февраля 1918 — сын Павел (Павлинька). Семейная жизнь и многочисленные служебные обязанности не исключали и научных занятий Н. П. Летом 1916 он писал Гревсу из Алферова: «Мы живем совсем тихо. Кроме тетушки и прислуги, никого нет, и мы так хорошо втроем сжились <...>. Свободное время [Таня] занимается своей статистикой, дополнительно полукурсовой и читает наиболее интересное из моего чтения. Я довольно много занимаюсь. Первым делом написал в Энциклопедический словарь (Пацци, Палермо, Плантагенет и Паулии Ноланский). Очень боюсь за них. Ведь при моей неопытности пришлось еще так торопиться. И не пришлось даже представить их на Ваш суд. Падую и Павию я отослал еще в городе. Этот месяц занимался романтизмом и вопросом по русской истории; думаю озаглавить его: социальный мистицизм первой половины XIX века в связи с мессианизмом. Согласится ли профессор Рождественский дать мне его? (Речь идет о предстоящих осенью магистерских экзаменах. — Публ.) Особенно сильное впечатление произвели на меня Печерин и Иван Киреевский. Романтизмом буду заниматься немного. Очень заинтересовал Шлейермахер. Какой в его «Монологах» интересный материал для дружбы! Вот, например: «Конечно, я могу сказать, что друзья не умирают для меня; я вбираю в себя их жизнь, и их действие на меня никогда не прекращается; но меня самого убивает их смерть. Жизнь дружбы есть прекрасный ряд аккордов, основной тон которых смолкает, когда друг покидает мир...» Я только думаю, что смерть друга, убивая, вместе с тем дает и новую жизнь. Ведь друг завещает хранить и лелеять то, что он любил в жизни, а это ко многому обязывает, требует новых сил души.
Занятия мне принесли много мыслей и чувств. Особенно приятно было почувствовать образы таких людей, как Печерин, Одоевский, Станкевич, Грановский.
Через несколько дней принимаюсь за Данте и ему собираюсь посвятить остаток каникул.
Военные события опять приковали внимание к газетам. Какая-то бодрость на душе. Но многое омрачает эту радость. Все жертвы и свое безучастие давят. А когда слышишь радостное заявление Шингарева, что в Германии люди теряют в весе от истощения, что увеличилась смертность детей из-за отсутствия молока и после этого призывы вести войну до конца и слова «преступник тот, кто стремится к преждевременному миру!», то чувствуешь себя этим преступником. На меня ужасное впечатление произвела статья в «Речи», состоявшая из писем под Верденом убитых немцев, все какое-то беспросветное отчаяние. Приблизят ли наши успехи конец войны? Вот-то уже душа порадуется миру! Здесь, в деревнях, большой интерес к войне, но и большая жажда мира» (ЛО ААН СССР. Ф. 726. On. 2. Ед. хр. 10. Л. 3—5об).
Название части седьмой взято нами из чернового плана мемуаров, составленного
Н. П. при начале работы над основным их корпусом (ОР ГПБ. Ф. 27. Ед. хр. [I]. Л. 1об.).
2 Графиня Юлия Павловна Самойлова (урожд. фон дер Пален, 1803—1875) — красавица не «екатерининских», а более поздних времен. Художник К. П. Брюллов, в жизни которого она сыграла значительную роль, изобразил ее на ряде своих полотен. Вероятно, Н. П. имеет в виду картину «Графиня Ю. П. Самойлова, удаляющаяся с бала» (1839—1842), где она изображена со своей воспитанницей Амацилией Паччини. Загородный дом Самойловой на мызе Графская Славянка был построен по проекту А. П. Брюллова, брата живописца (строительство начато в 1831). В 1846 имение уехавшей в Италию Самойловой было куплено Николаем I и получило название Царская Славянка. О трагической судьбе усадьбы в наши дни см.: Ленинградская панорама. 1984. № 3 и 6; 1986. № 1.
тине К. Брюллова. В ее дворце классического стиля сохранился зал в помпеянском стиле, а в башне была масонская ложа.
В большом зале устраивались лекции для жителей колонии. На краю парка высилась церковь, шпиль которой был виден издалека. Колония состояла из ряда интернатов, помещавшихся в особых деревянных домиках. В центре ее — большое здание из красного кирпича.
Колония состояла из детей всех возрастов, кончая подростками лет семнадцати. Это были в большинстве дети беспризорные, сироты: мальчики и девочки. Их обучали по весьма вольным, «самодеятельным» программам средней школы 1-й ступени и различным ремеслам. Дисциплина была слабая, и Тане пришлось с трудом справляться с распущенными девочками лет 14—16. Во главе колонии стояла А. И. Вукотич — партийная женщина, властная, с инициативой, с выдумкой. Так, мне был поручен курс «мифы древности». Читались и отдельные лекции. Я пригласил моих товарищей по Тенишевскому училищу: очень талантливых молодых ученых Ю. А. Никольского и Ю. Н. Тынянова [читать] лекции для учителей.
Я приезжал в Славянку по субботам и в тот же вечер проводил занятия с ребятами. Уезжал рано утром в понедельник.
Осенью возобновилось наступление Юденича. Это наступление началось еще весной. Тревожные дни переживал город. Были установлены ночные дежурства. Помню одну ночь, когда я сидел на подъезде со свечой в бутылке и читал «Сверчок на печи»3. У меня тогда еще был дом. Я охранял своих детей. Тогда и у меня жил сверчок на печи. Дома было тепло сердцу, словно там пылал камин. Но градусник показывал еще низкую температуру¹. Теперь, осенью, он показывал нормальную температуру, комнатную, а дома мне стало холодно. Тогда наступление было быстро задержано. Теперь белые наступали неудержимо и приближались к Гатчине. Славянку могли отрезать от Петрограда. Что делать? Беспомощную старушку-мать я не должен был оставлять одну. Я решил поехать в Славянку, повидать Таню перед наступающими событиями и вернуться к маме. Духом крепкая Таня в хорошем коллективе легче переживет трудные дни. И я выехал с тоской.
Уже в Царском Селе на вокзале ощущалась тревога. Поезд до Павловска был почти пуст, с волнением я шел в Славянку. С холма спускались всадники. Кто? Я сошел с дороги: определить было трудно. С холма доносился благовест. Я зашел в церковь. Прослушал молитву: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою... Жертва вечерняя»4.
Таню застал с рожистым воспалением ноги. Стало еще тревожнее за нее. Еще мучительнее вопрос, как быть. Она, мужественная как всегда, твердо сказала мне: «Ты должен вернуться к
¹ Еще не отогрелись комнаты после зимней стужи. (Прим. Н. П. Анциферов)
3 См. прим. 21 к части второй.
4 Слова из молитвы «Господи, воззвах» чинопоследования Вечерни. По-русски: «Да направится молитва, как фимиам, пред лице Твое; воздеяние рук моих — как жертва вечерняя».
Екатерине Максимовне. Я здесь не одна». Пошел на занятия. Все время слышалась канонада. Таню вызвала заведующая: «Занятия должны состояться во что бы то ни стало. Ребят нужно занять. Вы сумеете их отвлечь». Моя аудитория была крайне возбуждена. Как же могло быть иначе? Я пытался их отвлечь «Нибелунгами» (по ходу занятий)¹. Пальба не стихала.
После занятий я вернулся к Тане. Она уже упаковала мой мешок (с пайком), чтобы я отвез его своей маме. В тяжкой тоске я простился с Таней, чтобы чуть свет отправиться домой. Меня окликнул грубый голос: «Кто идет?» Я объяснил, кто я и почему хочу вернуться в Петроград. «А ну давай назад!» — голос решительно обрезал меня. Я вернулся и прилег, не раздеваясь, однако уснул.
Нас разбудили какие-то звуки. Похоже было, что крысы бегают по комнате. Я вскочил и подбежал к окну. Утро было серое, сырое, холодное. По канаве, разделявшей поле с капустой от другого поля, бежали красноармейцы, все время припадая к земле. Некоторые из них выскакивали из канавы и хватали кочаны капусты. Вид у них был измученный. Видимо, они очень проголодались. Вслед за ними выскочил заяц, повел своими ушами и юркнул в капусту. Очевидно, скоро в нашей колонии будут белые. На ее территории возможен бой. Нужно было перевести детей в подвал красного здания. Я вышел из нашего домика.
Появилась кучка солдат (не помню — с чем-то белым на фуражках, у некоторых белые кокарды). С необычайной, на мой неопытный взгляд, быстротой на «бровке» холма были прорыты окопы и расставлены пулеметы. Начался обстрел снарядами колонии. В деревянном домике оставаться было невозможно. Таня уже закончила перевод детей, и я, поддерживая ее, помог ей также укрыться в красном здании. А сам наблюдал бой. Красные цепью шли на штурм холма. Их обстреливали из пулеметов. Их ряды редели, но они все шли...
Я был поражен контрастом тех красноармейцев, которых видел утром, и этих мужественных бойцов. Потом я узнал, что это были красные курсанты. На территории колонии между двумя деревянными домиками начался рукопашный бой. Артобстрел кончился. Штурм был отбит. На короткое время наступило затишье.
Работники колонии подбирали раненых, и красных, и белых; на крыльце дворца лежал курсант со спокойным мужественным лицом, словно из мрамора выточенным. Он был уже мертв. Ко мне подошли два белых офицера, совсем молодых, и стали допрашивать, где «большевики», где «жиды». Я ответил, что здесь нет ни тех, ни других. На меня стали кричать, угрожать. Подошли
¹ Я должен был бы написать: «Я провел беседу «О значении обороны Ленинграда»». Но пишу так, как было. Это было в духе времени. (Прим. Н. П. Анциферова.)
крестьяне и заступились за меня (хотя они тогда радовались приходу белых). «Ну что вы хотите от него? Факт, что нет». Меня отпустили. Я зашел в красный дом помочь собрать ребят (т. к. мальчики разбежались по колонии, с девочками было легче — наш интернат был девичий). Когда мы вернулись в свой домик, мы застали его уже занятым белыми. В каком-то недоумении расположились они на полу, оставив постели пустыми (видно, не понимали, где они).
Одна из девочек начала голосить: «Украли! Украли! Мой кошелек!» Солдаты начали переругиваться, требуя признания, кто взял. Но никто не признавался. В это время в домик вошел еще один солдат. Спросили и его. Он выругался, почесал в смущении затылок и протянул кошелек. «А я же не знал, чей он. Думал, все убежали, а тут вот какой срам!»
Все это знающим о «грабармии» покажется неправдоподобным. Не верится и в то, что усталые солдаты легли не на кровати, а на полу, и в то, что были так сконфужены кражей. Ведь даже такой матерый белогвардеец, как В. Шульгин, в своей замечательной книге «1920 год», восхваляя дисциплину Котовско-го, с отвращением описывал действия деникинцев. И тем не менее я записал то, чему был свидетелем.
Поведение белых в нашем домике нисколько не примирило с ними К. А. Половцеву. Она все повторяла «проклятые ландскнехты». А я испытывал ужас от сознания, что эти русские парнишки истребляют таких же русских парней с красной звездой. Да, я знаю, что здесь я свидетель классовой борьбы; Знаю! Но я помню, как Дж. Рид в своей книге о днях, потрясших мир, свидетельствовал, как тяжело было начать стрелять по «своим». Помню и то, как я доказывала 1908 году, что война между немцами, русскими, французами уже невозможна. <...> И вот теперь мне трудно восстановить в душе то чувство уверенности в невозможности такой войны. Если бы теперь я кому-нибудь из писателей, живущих со мною теперь в доме творчества5, рассказал об испытанном мною чувстве ужаса от того дня, когда вот эти русские парни стреляли по цепям наступавших красных курсантов, надо мною все бы посмеялись, и только. Ко всему привыкли! «Привычка, как некий диавол, познанье зла в душе уничтожает» (Шекспир, «Гамлет»)6.
Наши мальчуганы разбрелись по колонии. Скоро стало известно, что они где-то достали порох и устроили взрыв. Помню только, что к заведующей явился белый офицер и предупредил ее, что он будет вынужден принять самые строгие меры. Между тем возобновился обстрел нашего холма. Все снова собрались в красном здании. Помню психологический курьез. Я заметил в руках у одного мальчугана синицу. И я обеспокоился, что ее замучат и, отобрав ее, отпустил на волю. Рвалась шрапнель. И в эту минуту я почувствовал какое-то нравственное облегчение. Это уже не радость «малых добрых дел», а «микроскопических». Стемнело. Первый день кончился.
5 С 1943 Н. П. был членом Союза писателей и писал эту главу в 1955—56 в одном из подмосковных домов творчества.
6 Н. П. приводит слова Гамлета (IV сцена III действия) в переводе Кронеберга. Точный текст: «...Привычка — //Чудовище: она, как черный дьявол,//Познанье зла в душе уничтожает...»
Я смотрел в сторону любимого города, стараясь понять, что означало зарево, что оно сулило Петрограду. Ведь решалась его судьба.
После отъезда Тани7, оставшись один, я стал писать об этом городе, о его трагической судьбе. И назвал его городом «трагического империализма», как А. Ахматова — «Город славы и беды». Это было время, когда я работал над книгой, которую позднее решился назвать «Душа Петербурга».
На следующее утро выяснилось, что в нашем лазарете нет необходимого для помощи раненым. Меня из-за моего «интеллигентского вида» послали добывать все нужное для перевязки, за всеми медикаментами. «Вас, вероятно, белые не тронут, и вы сумеете получить все необходимое». Вез меня наш возчик, человек, заросший бородой, очень замкнутый и мрачный. Он указал кнутовищем на убитую ворону, висевшую на проволоке. «Вот она, ох, не к добру она тут, черная, висит, быть большой беде».
К аптеке удалось подъехать не сразу. Улица была запружена народом. Очень высокий (таким он мне показался) полковник говорил речь зычным голосом. Он обещал «завтра освободить» Петроград. В толпе вертелся интеллигентного вида гражданин, похожий на присяжного поверенного. Оратор обратил на него внимание и спросил: «А вы кто?» — «Я, ваше высокоблагородие, местный буржуй». — «А, буржуй! Ну так повесить! Хэ! Хэ!» — засмеялся полковник. Это был Родзянко — племянник председателя Думы.
В аптеке мне дали очень мало из того, что требовалось по списку. Я объяснил, что раненых много. «Так что же вы — и на красных просите, ну нет, этого вы не получите!» Я сказал, что по законам войны (знал я их!) помощь оказывается и раненому врагу. Но это не помогло. Возмущенный, я вернулся к своему вознице и сказал, чтоб он ехал в Софию (Царское Село), где, я помнил, была хорошая аптека. Возница заупрямился: «Да там, сказывают, еще идет бой!»¹ Но я настаивал не свойственным мне повелительным тоном. Поворчав, возница повез меня в Софию. Аптекарь был еврей, он охотно отпустил все, что требовалось. «Приезжайте через полчаса, я все упакую». И я отправился в Екатерининский парк. Улицы были пусты, и парк был пуст. И город, и парк, такие родные, казались чужими, словно выражение их лица под влиянием событий изменилось.
У Большого озера я увидел (по другую его сторону, у дворца) отряд конницы с развевающимся трехцветным флагом. Проходившая старушка вскрикнула и начала креститься.
Получив все заказанное, мы отправились в обратный путь.
Вечером я собрал девочек в нашем домике и рассказал им все, что видел и слышал. Мой рассказ был прерван пулеметной стрельбой, где-то очень близко. Видимо, красноармейцы возобно-
¹ Бой шел под Пулковом. (Прим. Н. П. Анциферова.)
7 Имеется в виду отъезд Т. Н. Анциферовой на работу в Красную Славянку.
вили наступление. Небо было в тучах. Темнело быстро. Что делать с детьми, если бой возобновится на земле колонии? Надо выяснить положение на фронте. Послали меня. Я отправился на Гатчинскую дорогу. Было так темно, что можно было идти с закрытыми глазами с таким же успехом. По дороге топот копыт. Я обратился к невидимым всадникам: «Что означает эта стрельба пулеметов?» Грубый голос: «Твое счастье, что мне некогда, а то ты повис бы на суку!»
Разгоравшееся зарево пожара рассеяло мрак. Я подошел к дворцу. Далекая канонада не стихала. Прудик перед дворцом походил на чашу, наполненную кровью. Зарево покрыло румянцем мраморно-белое лицо курсанта, все еще лежавшего на ступеньках дворца. И лицо казалось ожившим...
На следующий день был созван педагогический совет. Поведение мальчиков внушало тревогу. Муж К. А. Половцевой — хорист Мариинской оперы П. Д. Васильев — произнес страстную речь о необходимости положить конец расхлябанности коммуны. Много неприятного пришлось выслушать А. И. Вукотич. Вдруг лицо ее радостно оживилось. Она вскочила и быстро исчезла. Мы ее не видели больше вплоть до возвращения красноармейцев. Все подошли к окну. Белые отступали. Впереди тянулись обозы с беженцами. Многие ушли пешком. Среди них был и «местный буржуй». Я спросил у беженцев, кто он. Оказалось, «новый городской голова» Павловска, только что избранный.
К беженцам примкнули старшие мальчики, и вскоре наши ребята столпились с узелками, чтобы идти в Гатчину. Минута была решительная. С психозом дело иметь трудно. Чем остановить, как удержать? И вот Таня подбежала к всаднику в форме пожарника и спросила его, можно ли отсидеться в красном здании, когда начнется бой за холм. Полковник (помню, это был грузин, но фамилию не запомнил) посмотрел на здание и коротко ответил: «Отсидятся». Тогда Таня обратилась к нему с просьбой, чтобы он скомандовал ребятам всем отправиться в дом. Авторитет военного подействовал, и ребята хлынули в кирпичное здание и поспешили занять места в подвале. Только несколько старших мальчиков, которые первыми присоединились к беженцам, не вернулись.
Полковник-грузин понял, что с этой ватагой ребят придется повозиться, пусть уж лучше останутся.
Среди наших педагогов не было Макаренко с его авторитетом, и в этой суматохе педагоги потеряли власть над воспитанниками. А мы (я с Таней, Ксения Анатольевна с мужем) пока сидели в нашем домике и обсуждали события. На холме как-то сразу сделалось тихо. И вот внезапно домик вздрогнул и словно зашатался. Раздался грохот, взорвавший эту тишину. Сейчас же последовал новый взрыв. Нужно было спасаться. Ксения Анатольевна и Павел Дмитриевич побежали в красный дом. Мы из-за рожистого воспаления ноги Тани бежать не могли. Я бережно вел жену
через поле. Падали, взрывая землю и рассыпаясь осколками, снаряды, и мы падали на землю. Помню ясно одно: то мгновенье, когда мы лежали на земле, голова к голове. Над нами — небо, усеянное звездами. «На них мы взирали как боги с тобой» и необычайное чувство свободы от жизни. И наша чудесная жизнь до смерти детей сливалась в один миг, полный блаженства, очищающего душу от всякой житейской пыли. Вот она смерть — она близка, и мы умрем вместе:
И мы вместе придем,
Нас нельзя разлучить!8
Больше ни мне, ни Тане не пришлось испытать такого очищающего блаженства, подлинного катарсиса.
Мы вновь и вновь падали на землю, прижимаясь к матери-земле сырой, так лежали и вновь поднимались медленно, осторожно продолжая свой недалекий прерывистый путь.
И вот снова возвратились к текущему дню, оторвались от этого ощущения вечности и погрузились в жизни суету.
Как и все, укрывшиеся в красном доме, спустились и мы в подвал, где было хранилище овощей. Среди кочанов капусты разместились колонисты. Раздавался странный звук: это младшие ребята, голодные, ели капусту, как зайчата. В набитом укрывшимися подвале было очень душно. Обстрел продолжался. Мы с Таней все же решились подняться в верхний этаж. И, утомленные всем пережитым, уснули. Нас разбудили крики и какой-то непонятный шум. Мы открыли глаза. Стены комнаты отражали зарево пожара. Мы оба выглянули в окно. Горел наш домик, зажженный снарядами.
Спустились вниз. Там собрались учителя, воспитатели, администраторы... Оказывается, что рядом с нашим домиком — сарай с запасами керосина. Ветер дует в сторону сарая, если и он загорится, то при ветре пожар может распространиться на все деревянные здания колонии. Не мне судить теперь, насколько опасность была велика. Но вот беда: из-за событий этих дней никто не подумал о необходимости снабдить колонию водой. Чем же тушить пожары? Нужно было кому-нибудь, двоим-троим из нас, пойти в водокачку и накачать необходимое количество воды. К сожалению, мужчин оставалось мало здесь, в красном домике. Часть ушла в Гатчину, часть укрывалась неведомо где.
Вызвались идти я и инженер колонии Плинер. Идти было опасно, т. к. обстрел продолжался, а водокачка была довольно далеко. Ко мне подошла Таня и тихо сказала: «Где ты, Кай, там и я, твоя Кайя»9. По выражению ее лица я понял, что она не откажется от своего решения. Вызвалась еще одна учительница, Мария Митрофановна Хренникова. И мы вчетвером отправились. Шли мы мимо нашего домика, превращенного в пылающий костер, ярко озарявший всю местность. Наша группа резко выделялась на фоне освещенной земли. Но снаряды уже не падали
8 С.т. 8 из стихотворения А. Фета «Alter ego». В оригинале: «Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить».
9 Формула древнеримского свадебного обряда, произносившаяся невестой, вступающей в брак. В оригинале: «Где ты, Гай, там и я— Гайя». См. подробнее, напр.: Сергеенко М. Е. Жизнь древнего Рима. М.; Л. 1964. С. 199, 321.
в таком количестве, как в те минуты, когда мы покинули наш домик, пожираемый теперь жадным пламенем. Грустно было думать, что там горели наши книги, и особенно грустно, что там осталось подвенечное платье Тани. Но приблизиться к зданию было невозможно, да и поздно.
Пройдя гатчинскую дорогу, мы начали спускаться вниз по склону холма, покрытому деревьями. Водокачка находилась внизу, в домике между нашим холмом и кряжем, на котором была расположена деревня Антропшино. Красноармейцам удалось ее удержать. Когда мы затопили печь, Плинер сказал, что нужно завесить окна, т. к. освещенное окно может вызвать обстрел водокачки. Мы сняли наши пальто и кое-как затемнили помещение. Через некоторое время Плинер начал волноваться: «Когда водокачка заработает, раздастся звук, который могут принять за танк белых, и нашу водокачку сейчас же разнесут из Антропшина». Слух, что у белых танки (первые танки!) разнесся по колонии. Малочисленность отряда, идущего мимо нас брать Петроград, объяснялась тем, что сзади идут страшные неведомые танки. Мы все четверо сидели в нерешительности. Наконец Плинер встал и сказал: надо гасить, ничего путного из этого не будет, колонию снабдить водой не удастся, водокачку разнесут. Мы загасили печь и, обескураженные, двинулись в обратный путь.
Пожар еще не кончился, и мы были освещены его пламенем. Плинер опять заметил: «Ведь нас могут принять за разведчиков красных, поскольку мы пробираемся со стороны Антропшина». И действительно, из-за кустов белые открыли огонь. Мы прижались к земле; пальба приостановилась. Через несколько минут мы поползли. Когда приблизились к Гатчинской дороге, Плинер прошептал: «Может быть, потому не стреляют, что решили подождать, когда мы встанем, тогда попросту дадут залп, и с нами покончат». Ну вот, пора вставать. Мы поднялись. Все было тихо. И мы вновь пошли по ярко освещенному полю. Я отлично понимаю, до чего наивен мой рассказ о всем, касающемся военных действий. Я пишу о том, что я очень слабо понимал. И пишу, как мне запомнилось. Все это, конечно, было лучше записано в моем дневнике 1917—1927 годов. Но, как я уже писал, он сгорел в другом нашем «деревянном домике» в Детском Селе в дни нашествия нацистов.
В ту ночь хотелось отдохнуть, забыться от всех впечатлений дня, кроме одного—того, что пережито нами при переходе из деревянного домика в красное здание. Тем чувством, с тем сознанием хотелось бы жить до конца моих дней.
Разбудили меня рано. Одна учительница сказала мне: «В эту ночь многие не выдержали духоты и сырости подвала. Но перевести в лазарет даже самых маленьких ребят невозможно. С утра усилился обстрел колонии. Мы решили просить вас, кроме вас, никто не может выполнить такого поручения. Нужно ехать в штаб белых и уговорить начальника принять меры, чтобы дать возмож-
ность перевести ребят в другое место, менее опасное. Только с вами там станут разговаривать».
Таня снова решила ехать со мной. Вез нас этот раз не тот бородач, что боялся повешенной вороны. Я даже запомнил его фамилию: Куприн. Куприн поехал неохотно: гатчинская дорога, по ней отступали белые, была под усиленным обстрелом. Едва мы выехали из нашей деревни, как поняли новую опасность. Из Антропшина, где держались красноармейцы, дорогу обстреливали из пулеметов. Лошадь наша шарахнулась: тонкая березка, как подкошенная косой, упала на дорогу...
В штабе нас привели к полковнику — это был тот самый грузин, который ответил Тане: «Отсидятся». Он холодно спросил меня, что нам надо. Я объяснил ему, в каком тяжелом положении дети. Нельзя ли договориться, чтобы устроить перерыв для эвакуации детей в более безопасное место. «Хорошо, допустим, что мы перестанем отстреливаться, но ведь наступление ведут красные. Как же мы можем их уговорить?» — «Я не военный, никогда не был даже на военной службе, но я не понимаю, как можно оставить детей в таком положении! Детский дом должен быть приравнен к лазарету под красным крестом». —«Ну, успокойтесь, я ручаюсь, что к вечеру ваша колония будет уже вне обстрела». — «Как вас понять, господин полковник, кто же отступит?» Грузин вспылил, ударил кулаком по столу и закричал: «Молчать! Да вы, я вижу, большевик». («Вы», еще «вы»!). Я, видя, что его оскорбил, извинился и еще раз напомнил ему, что я совершенно не военный человек. «Оно и видно»,—сказал грузин презрительно. Но успокоился. «Вот дурак, что с него взять!» — верно, подумал, он и, успокоившись, сказал: «А вашим ребятам к вечеру мы пришлем муки, сахара, масла. Ведь колония ваша без подвоза уже несколько дней».
На этом мы расстались и отправились в обратный путь с обрадованным Куприным.
Полковник сказал правду: к вечеру обстрел кончился. Белые ушли. Бой за холм кончился. Они поняли, что удержать его не в силах. Радостной толпой выбежали ребята из душного заключения. Для них красный дом был тюрьмой. Колония ждала возвращения Красной Армии. Первыми пришли курсанты. В этот момент я сидел в комнате В. К. Станюковича. Кто-то постучал в окно. Меня вызвали. Несколько курсантов повели меня во дворец: «Не залегли ли где-нибудь белые?» Курсанты просили меня показать могилу убитых товарищей в парке. «Много ли полегло наших?» — спросили меня. Я мог только коротко ответить: «Много». — «А белых?» — «Их меньше». Ведь курсанты шли на штурм, а белые окопались и встретили их пулеметами. Я говорил о жертвах наступления на территории колонии. Вероятно, на гатчинской дороге белых легло больше. Обстрел был сильный. Я спросил, -можно ли пройти в город проведать мать. Мне ответили, что можно. Однако товарищи-учителя меня не соглашались
отпустить: «Вы интеллигент, возвращаетесь из колонии, оккупированной белыми. Вы подозрительны. Вас сейчас могут задержать. А здесь, в колонии, все знают, как вы себя вели, и сумеют вас защитить». Решено было отпустить Таню. С ней послали продукты маме и из какого-то фонда выдали плитку шоколада: «Это мы вас премируем за услуги, оказанные колонии», — сказали шутя.
Таня надела мешок на спину и тронулась в путь. Я пошел проводить ее. Она спустилась с холма. Ее тонкая фигурка становилась все меньше. Но вот я увидел вдалеке конный отряд, ехавший ей навстречу, и до моего слуха донеслась какая-то заунывная дикая песня. Ко мне приближался отряд башкирской конницы. Темнело, и мгла поглотила удаляющуюся Таню. Падал снег большими хлопьями и белым саваном покрыл землю, напоенную русской кровью.
Пришла зима. Мы жили теперь в другом деревянном домике в длинной узкой комнате. Света не было, кроме коптилок с их хрупким огоньком. Было голодно. В долгие вечера девочки собирались в одной комнате, чтобы теплее стало, и пели заунывные песни. В сумерки в окно нашей комнаты глядела синяя зима. В этот час все становилось синим. И лес перед окном, и снега. В печке пекли брюкву — до чего же она была вкусна! Я раньше не замечал.
Таня была выбрана в местком. Она ходила в наватченной¹ куртке и в красном платке. Сосредоточенная, с какой-то новой складкой между бровей. С ней работали два коммуниста, вступившие в партию после того, как отражено было наступление Юденича. Один из них — крепкий, упитанный малый с хитринкой — был вскоре отправлен на юг для борьбы с Добровольческой армией. Другой, Громов — короткий, мрачного вида человек, прямой, честный, страстный. Он до вступления в партию был очень религиозен. Но, вчитываясь в Библию, утратил веру в Бога и изрубил Библию топором: он проникся ненавистью к Иегове. О Громове, смеясь, говорили: «Его фамилия в духе литературных имен эпохи классицизма (Милон, Скотинин, Стародум и т. п.). Он, Громов, постоянно и всюду гремит и мечет молнии».
В колонии кружок самодеятельности поставил одну из пьес Островского. Из сундуков извлекли «бабушкины» платки. Играли с увлечением, и даже строгий в своих суждениях В. К. Станюкович был увлечен. Сколько в народе у нас нераспустившихся талантов!
Кончался день, и мы возвращались в нашу комнатку, похожую на гроб. Сидели на кровати, прижавшись друг к другу. Тускло светит коптилка. Ее пламя вздрагивает, стоит только пройти мимо. За стеной поют так тоскливо. А наши думы все возвращаются к двум опустелым кроваткам и к двум могильным
¹ Прочтение этого слова — предположительное. Так в автографе Н. П. (Прим.публ.)
холмикам. И голова кружится, словно мы стоим над пропастью и вот-вот упадем в нее.
На Страстной неделе Таня по просьбе девочек читала им о Страстях Христовых. Об этом узнали в Наробразе, и ее допрашивала посланная в колонию Щетинская: «А готовы вы за такие дела отправиться в Сибирь?» — «Да, готова».
И весна все-таки наступила.
Весну ты будешь звать.
Весна обманет.
(А. Блок)10.
Но весна не обманула.
А с ней пришла и вера в обновление нашей жизни. Обновления мы ждали от младенца. И мы верили, что он придет и постучится в нашу жизнь, двери которой, казалось, так плотно закрылись.
10 Ст. 20—21 из стихотворения Блока «Голос из хора». В оригинале: «Весны, дитя, ты будешь ждать — //Весна обманет».
Глава II. Воскресение
[Глава II.]
«ВОСКРЕСЕНЬЕ»
События Октября, по удачному выражению Дж. Рида, «потрясли мир». История сошла с рельс, или перешла на новые рельсы. Будущее покажет, было ли то началом новой эры.
Когда рушится- дом, грохот падения оглушает. Пыль, поднявшаяся из обломков, слепит. Кто понял тогда смысл происшедшего? По словам О. Ю. Шмидта, Владимир Ильич полагал:
это — новая репетиция, более значительная, чем Парижская коммуна, но это еще не окончательная победа. Новая власть не удержится, пока существуют страны высокой могучей индустриализации, Англия и США. Революция вернется и к нам оттуда, когда созреет исторический процесс. Не знаю, правильно ли переданы слова Ленина. В чем ошибка его диагноза? Герцен утверждал, что страны, достигшие в данных условиях исторических, при данных производительных силах и соответствующих производственных отношениях наивысшего уровня, теряют способность быстрого и легкого перехода на более высокую стадию. Груз истории тормозит ход развития. Как будто так:
Англия, скандинавские страны, Бельгия, Голландия сохранили монархию, Китай, Румыния, Болгария строят социализм.
В дни Октября против переворота были все, даже некоторые вожди большевиков—Каменев, Зиновьев <...> в прессе выступили против восстания и заслужили упрек в предательстве, и тем не менее они вскоре заняли ведущие посты после победы Октября.
Конечно, и мы, рядовые интеллигенты, не могли разобраться в смысле происшедшего. Все чувствовали себя растерянными, одинокими, тянулись друг к другу.
Я служил в эти дни в отделе Rossica в Публичной библиотеке. Ко мне обратился А. А. Мейер с предложением встретиться и вместе подумать. Встреча была назначена у Ксении Анатолиевны Половцевой в ее квартире на Пушкарской. Так возник кружок А. А. Майера11. Александр Александрович был очень красив, статен, высок, с тонкими правильными чертами лица, окаймленного густыми длинными волосами. Лицо нервное, одухотворенное, речь, сперва медленная, становилась все более страстной. Ксения Анатолиевна была также красива, с синими глазами и темными, просто причесанными волосами. Ее внутренняя жизнь была всегда напряженной.
В кружке Мейера должны были раздаваться свободные голоса, свободные от всяких трафаретов партийных уз. Нас всех объединяло одно имя — «Христос». И Мейер, и Половцева были членами Религиозно-философского общества. Петербургское общество резко отличалось от Московского. Оно было «левее». Его члены Д. Мережковский и 3. Гиппиус призывали к революции. Они резко выступили в свое время против сборника «Вехи», вдохновленного членами московских религиозно-философских обществ12 (Булгаков, Бердяев, Гершензон, Франк). Петербургское общество исключило В. В. Розанова за его статьи о евреях13, оно выступало против шовинистических статей в дни первой мировой войны (напр., В. Ф. Эрна «От Канта к Круппу»)14. Зинаида Гиппиус протестовала против переименования Петербурга в Петроград. Чему обрадовались поэты, что к Петрограду льнет рифма «стадо», и поэтесса нашла рифму для Петербурга: «Революционных пург Прекрасно-страшный Петербург»15.
В кружке Мейера было решено воздерживаться от споров. Кто-нибудь выдвигал какой-нибудь вопрос, и начиналось обсуждение по кругу. В моем дневнике, сгоревшем в нашем домике в дни ленинградской блокады, я записывал все прения, и теперь по памяти мне трудно восстановить даже наши темы. Все же кое-что запомнилось. «Патриотизм и интернационализм» (правда того и другого), «Взаимосвязь понятий свобода, равенство и братство». Еще юношей в 1907 году я писал о свободе и равенстве как о ценностях отрицательных, не имеющих своего положительного содержания. Человек может переживать рабство, неравенство как болезнь общества. Но здоровье переживать нельзя. Переживание — это освобождение от рабства, от гнета неравенства. Так переживается не здоровье, а выздоровление. Братство — реальное переживание, оно имеет свое содержание в любви друг к другу и к чему-то высшему, стоящему над нами (Бог, родина). Еще обсуждалась тема «Товарищество и дружба». Это разные понятия (их теперь путают). Товарищей объединяет какое-нибудь дело (учение, борьба, труд). Друзей объединяет внутренняя жизнь человека. Дружба — глубоко индивидуальное понятие. Оно не исключает дела, но не сводится к нему. Что дает смысл жизни, ее наполнение: любовь, творчество, искусство, труд. Запомнилось
11 В ядро возникшего в конце 1917 кружка Мейера, помимо его самого и К. А. Половцевой, входили философ Г. П. Федотов, ученые Г. В. и Н. В. Пигулевские, художник П. Ф. Смотрицкий. Хотя собрания кружка не были многолюдными (10—12, изредка—20 человек), всего за 1918—28 их посетило не менее 150 участников. Не все они были верующими, а среди последних — не все православными. Первоначально кружок был идеологическим преемником «левого» крыла С.-Петербургского религиозно-философского общества (1907—17). Большинство его участников в это время скептически относилось к Православной церкви, считая, что в ней невозможно свободное развитие христианских идей. Они искали истину на путях объединения христианства и социализма. «Социализм, который вел к царству Божию на земле, а привел к бездне, должен найти в себе силы для возрождения», — формулировал смысл деятельности кружка Г. П. Федотов. Такое представление привело к мысли о необходимости расширить сферу деятельности, работать среди молодежи, отстаивая в ее глазах христианские ценности. Последовательное осуществление этой программы потребовало бы активных действий, которые были обречены на провал в историческом контексте 1920-х и были чужды психическому складу большинства участников мейеровских собраний. «Христианство, — говорил Мейер, — обязывает начать жить с себя, а если из нас составится сила, она сделает, что нужно, не захватывая власти». Поиски путей религиозного возрождения, мысль о собственном бессилии, ожидание эволюции власти (особенно при начале нэпа), которая дала бы им возможность применить на практике духовный опыт, накопленный в кружке, заставляли его участников пересматривать свое отношение к Церкви, искать с нею сближения. Этот процесс завершился возвращением в Церковь в 1925—26 большинства участников кружка. Почти все они в 1928—29 были арестованы и заключены на разные сроки в лагеря или сосланы.
12 По общественным вопросам Петербургское религиозно-философское общество (далее Пб РФО) занимало позиции, близкие левым политическим партиям. В центр своего внимания оно ставило проблему преодоления духовного разрыва между интеллигенцией и народом. Московское религиозно-философское общество имени Вл. Соловьева (1907—17) не было так тесно связано с современным ему общественным движением.
13 Поводом к исключению в 1913 В. В. Розанова из Пб РФО послужили его статьи «Андрюша Ющинский» и «Наша кошерная печать».
14 В упомянутой статье В. Ф. Эрна говорилось о присущем немцам духе милитаризма и о связи этого духа с идеями немецкой классической философии. «Левое» крыло Пб РФО во главе с Мережковскими и Мейером относилось к войне сложно: «На войну нужно идти, ее нужно «принять» (...), но принять, корень ее отрицая, не затемняя, не опьяняясь, не обманывая ни себя, ни других» (Из доклада 3. Н. Гиппиус в Пб РФО в ноябре 1914 г.).
Эта позиция, судя по письмам 1916, была близка и Н. П. (см. прим. 1 к этой части).
15 Точная цитата: «В влажном визге ветренных раздолий//И в белоперистости вешних пург//Созданье революционной воли//Прекрасно-страшный Петербург» (Из стихотворения «Петроград» в кн. «Последние стихи. 1914—1918». Пб., 1918. С. б).
мне своеобразное выступление Марии Константиновны Неслуховской (теперь жена Н. Тихонова). Она говорила о смысле грехопадения: «Адам и Ева вздумали приобрести самое ценное — познание добра и зла— без всякого труда, просто вкусив запретное яблоко». Труд для нас был основой нравственной жизни.
Собирались мы первоначально по вторникам, а потом решили встречаться в воскресные дни, чтобы иметь более свежие головы. Наши вечера напоминали собрания кружка Н. В. Станкевича строго трезвенным характером: только чай. Встречались самые разнообразные люди. Приходили и уходили. Бывали биолог Л. А. Орбели, художники К. С. Петров-Водкин и Л. А. Бруни, литературовед Л. В. Пумпянский, музыкант М. В. Юдина, бывал рабочий Иван Андреевич. Скромный и обаятельный человек, но фамилию его забыл. Постепенно кружок срастался и начинал менять свой характер: становился более религиозным. По инициативе Мейера и Половцевой собрания начинались молитвой. В нее были включены слова о «свободе духа». А беседа начиналась с пожатия рук всех собравшихся. Получался круг вроде хоровода. Мейер и Половцева всячески стремились придать собраниям характер ритуала. Отмечая годовщину 1-го собрания кружка, испекли хлеб и перед началом роздали его всем присутствующим. Это были дни голода. Меня, и в особенности мою жену, смущали эти тенденции.
Переменили и адрес собраний, но не в конспиративных целях. Мы подчеркивали, что у нас нет ничего тайного. К нам может прийти каждый желающий. Не помню, с какого времени мы стали собираться на Малом проспекте близ Б. Спасской в одноэтажном домике, двери которого не запирались. Приходившие приносили несколько поленьев, и, когда трещал огонь в печках, становилось уютно и создавалось особое чувство близости. Бывало, прежде чем разойтись, просили мужа Ксении Анатолиевны Павла Дмитриевича Васильева спеть нам что-нибудь. Голос у него был очень приятный, и пел он с большим чувством. В особенности хорошо выходила ария князя Игоря.
Не помню, у кого возникла идея издавать свой журнал. Не помню, кто дал средства. Это был 1918 год (начало). Свой орган мы назвали «Свободные голоса». Вышло всего два номера. Журнал вызвал резкую оппозицию Д. Мережковского и 3. Гиппиус. Они обвинили нас в том же грехе, что и А. Блока за его «Двенадцать»16.
Было решено встретиться с нашими противниками. Мейер пригласил меня с женой к ним. Жили они где-то за Литейным. Мережковскому нездоровилось. Помню его невысокую фигуру, темные горящие глаза и темную бороду, подстриженную, как бороды на византийских мозаиках. Но разговор не носил политического характера. Он быстро перешел на тему любви, излюбленную тему наших хозяев. Мережковский развивал теорию брака трех (menage en troi). Он говорил, очень волнуясь, что брак
16 Первый номер «Свободных голосов» датирован 22 апреля (5 мая), второй — 23 июня (6 июля) 1918. Редактором-издателем был Георгий Петрович Федотов (1886—1951). Помимо него и Н. П. в журнале участвовали Мейер, Г. В. Пигулевский и 3. Н. Гиппиус. С позицией последней редакция выражала свое несогласие. С интересом отнесся к выходу журнала Гревс, который 8 июня 1918 писал сотруднику «Биржевых ведомостей» А. Л. Волынскому: «Затем еще мне очень бы хотелось, как можно скорее, поместить статью (если нельзя статью, то рецензию) на недавно вышедший первый выпуск журнальчика «Свободные голоса», который мне было бы дорого критически поддержать. Его замыслила очень талантливая, хорошо известная мне группа, с которою я во многом не согласен, но из них, по-моему, составляется положительное явление» (ЦГАЛИ СССР. Ф. 95. On. 1. Ед. хр. 447. Л. 1—1об.).
вдвоем отжил. Это ветхозаветный брак. Он отменен Новым заветом. Его взгляды разделялись, насколько я понимал, и Мейером, и Половцевой.
Моя жена ответила: «Ветхий завет — это «да будет плоть едина». Новый завет дал новую заповедь: «Да будет и дух един. Возлюбим друг друга да единомыслием исповемы»». Жена моя спорила горячо и отличалась страстностью и логической последовательностью. Дмитрий Сергеевич очень волновался, вертелся, не находя возражений, а Зинаида Николаевна наслаждалась спором и насмешливо поглядывала на мужа, который суетился и шаркал туфлями, а халатик жены, который он почему-то надел, ходуном ходил на нем.
Когда спор погас и мы собрались уходить, Мережковский поднялся и сказал глухим голосом: «Мы живем в эпоху, когда мир вновь превратился в хаос. Но теперь... — Он сделал паузу, а потом с большой силой воскликнул: — Но не дух Божий парит над ним, а дух Дьявола!»
Я их больше не видал. То, что они эмигрировали, меня не удивило. Об их поведении в эмиграции ходят противоречивые слухи.
Итак, пути наши с левым течением религиозной мысли разошлись. Мы и для петроградской школы оказались слишком левыми.
Мы мечтали, что в домике с открытыми дверями, у печки, обогревшей очень холодную комнату, у нас в сдержанных беседах родятся новые мысли и мы явимся ядром нового сенсимонизма, продолжателями Пьера Леру, Ламенне, Жорж Санд. Я и написал тогда книжечку о Ламенне, которая была позднее издана Гржебиным.
В «Свободных голосах» я привел текст из Герцена о царевиче, заключенном в бочку, носимую по волнам, который хотел поднатужиться и выбить дно: пусть погибну или обрету волю. Царевич — народ, которого все уговариватели стремились удержать от рискованных действий17.
* * *
Мало-помалу я отходил от кружка Мейера, не порывая с ним. Я ушел в ту работу на культурном фронте, которая так молодо бурлила в первые годы советской власти. А позднее — в конце 20-х годов — в краеведение, которое меня теснее связывало с родиной, уводя из круга научных интересов, удерживавших меня в средних веках западного мира.
Но, встречаясь с вторничанами на различных тропинках, проложенных человеческими судьбами в лесу нашей эпохи, я всегда был рад вспомнить наши встречи, наши беседы, наши вечера. Нас очень мало.
В декабре 1928 г. я узнал, что арестованы Александр Алек-
17 Статья Н. П. в «Свободных голосах» называлась «Россия и будущее».
сандрович, Ксения Анатолиевна и Л. В. Пумпянский. «Тучи снова надо мною». Вскоре в «Доме книги» на лестнице я встретил Пумпянского. Он шарахнулся от меня, как от заразного. А месяц спустя там же сам подошел ко мне и тихо сказал: «Прошло у же время, и я могу говорить, не волнуя вас. Следователь, ведущий дело Мейера, просил меня передать вам и М. В. Юдиной, чтобы вас не беспокоил арест Мейера. Вас к этому делу не привлекут». Видя мое удивление, Пумпянский поспешно добавил: «Вы, может быть, не знаете, что я был тоже арестован, а теперь на воле. Я молчал месяц, чтобы вы поверили моим словам. Месяц прошел, а ни вас, ни М. В. Юдину не трогают. Теперь вы можете положиться на обещание следователя».
В течение следующих месяцев я побывал в Москве на Всероссийском съезде краеведов и был избран членом Центрального бюро краеведения (ЦБК)18.
Время шло. Настал день годовщины нашей свадьбы — 19.2.1929.
Утром я зашел навестить Таню. Она уже 2 месяца находилась в санатории. Встреча наша было очень печальна. Ее беспокоило, что уже 2 месяца я не имел средств вносить деньги за ее лечение. «Я и пришел, чтобы тебе сказать, что за месяц могу уплатить». Она оставалась печальной. «Знаешь, мне приснилось, что ты арестован». — «Перестань тревожиться, родная, уже прошло около трех месяцев, а я, как видишь, на воле». И пошел в бухгалтерию платить за путевку. На меня с удивлением посмотрели: «За вами долгов нет. Сегодня все уплачено». — «Кем же?» — «Какой-то молодой человек уплатил за два месяца». Я был поражен и взволнован, а за Таню обрадован.
Мы гадали: кто же это сделал? В тот же вечер на дом принесли прекрасную корзину с фруктами и запиской: «Поздравляем. Друзья». Я отправился опять в санаторий с этой корзиной. Так был отмечен день нашей бронзовой свадьбы. Золотой век вначале, серебряный вслед за ним. А потом бронзовый. Свадьбу отмечают в обратном порядке. Почему же не отмечать бронзовую? В этом праздновании участвовали и друзья из Детскосельского семинария, и сослуживцы по ЦБК.
Приближалась Пасха. К этому дню мы ждали маму-Таню домой. На душе было радостно и тревожно.
Незадолго до этого в ЦБК был доклад В. А. Федорова, в котором он обрушился на мою «Душу Петербурга» и сказал, что я должен отмежеваться от этого труда как антимарксистского. В ЦБК его требование никто не поддержал. Да и я сам, хотя и считал, что кое в чем книгу нужно переделать, категорически отказался осудить свою работу, своего первенца.
На Вербной неделе я получил приглашение явиться в ГПУ на Гороховую.
Перед явкой, простясь с семьей, я заехал к И. М. Гревсу. И, прощаясь, сказал:
18 Центральное бюро краеведения (ЦБК) — организация, возглавлявшая в 1921—37 краеведческую работу в стране. В 1921—24 — в ведении Академии наук, затем — Наркомпроса. С 1927 постепенно переводилась из Ленинграда в Москву. В конце 1920-х ЦБК объединяло около двух тысяч местных организаций с общим числом членов около 50 тысяч человек. Н. П. был научным сотрудником экскурсионно-справочной секции ЦБК.
Всюду беда и утраты.
Что меня ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы
Знаком креста на груди19.
(Один ленинградский художник, встретивший Светика за несколько дней перед его кончиной — в дни блокады,— слыхал от него эти слова. «Это девиз моего папочки», — сказал Светик.)
Следователь Стромин недолго допрашивал меня. Он спросил, давно ли я был на собрании у Мейера. Я ответил, что начиная с 21-го года я бывал все реже и реже, а последний раз был в 25-м году.
— Почему же вы бывали все реже и реже? Вы разошлись с Мейером и его друзьями на идейной почве?
— Нет, идейно я с ними не порвал. Меня отвлекла занимавшая меня работа в области культурно-просветительной, я писал книги, а потом работал в ЦБК.
— Значит, идейно вы не порывали с «Воскресеньем»?
— Нет, не порывал.
Тогда я не понял, какое значение вкладывалось в слово «воскресенье». Оказывается, Мейеру были предъявлены обвинения в организации контрреволюционного общества «Воскресение», названного так потому, что оно ставило своей целью воскресение старого режима.
После допроса я был арестован и отправлен в Дом предварительного заключения (ДПЗ), где был заключен по 3-му разряду в камеру № 22.
Упал нож гильотины и надвое разрубил мою жизнь. То, что оставалось позади, было полно смысла, а что впереди, да и будет ли это «впереди»? Или скоро кончится? Совсем кончится. Исход дела лицеистов и дела Таганцева нам был известен20. Можно было ожидать всего, надо быть ко всему готовым.
* * *
До чего же камера была переполнена заключенными! Все койки заняты, заняты места и между койками. Ложиться спать приходится и на столах. От этой тесноты особая напряженность. Ж. Ромен писал в «Силах Парижа» о «душе» трамвая, «душе» библиотеки, «душе» кинозала. И у каждой камеры есть своя «душа». Ее жизнь напряженная, колышащаяся, как трава в поле. Вот все устремлены к решетке у входа — там показался тюремщик. Кого-то вызывают. Вот камера рассыпалась по углам. Еще момент, и все сгрудились у окна. Стараются заглянуть под «намордник» (металлический щит на окне). Камера отхлынула в угол, образовался новый водоворот: пришел новичок или привели обратно кого-то после допроса. Камера живёт трепетной жизнью.
19 Из драмы Блока «Роза и крест». Второй стих: «Что тебя ждет впереди».
20 В. Н. Таганцев и 60 его однодельцев были расстреляны в ночь с 24 на 25 августа 1921 по обвинению в «подготовке к террористической деятельности, переговорах с кронштадтскими мятежниками и др.». Еще 26 человек были казнены по этому делу позже, а свыше 100 получили различные сроки заключения. Весной 1925 ОГПУ арестовало почти все проживавших в СССР бывших учащихся Александровского лицея и многих их знакомых. Часть из них была также расстреляна по обвинению в контрреволюционном заговоре.
Она жадна до новостей. Вот она рассыпалась по углам — образовались группки. Щепот. Обсуждается приватно новая «параша»¹, но «параша» «второстепенного» значения. Крупная — родит круговорот. Головы вытягиваются, вытягиваются и тела (на цыпочках). Вытянулись бы и уши, если бы могли. Иногда раздается тоскливый возглас. «Счастлив, кто спит, кому в осень холодную грезятся ласки весны!»
В камерах находятся и шуты-добровольцы. Им нравится создавать вокруг себя теснение, становиться маленькими центрами вращения. Тогда в 22-й камере таким шутом был заключенный, привлеченный по новому делу из Соловков. Ему было мало собирать слушателей, шедших на его рассказы о Соловках. Ему хотелось вызывать смех дурацкими выходками скомороха. Когда приелись и они, он давал спектакли с музыкой. Еврейская свадьба в лицах. И был действительно комичен.
Столь же интересным номером для камеры оказался студент Грушевский. Этот председатель Общества борьбы с проституцией обвинялся в принуждении к сожительству с ним проституток. Его похождения напоминали мне рассказы Эвколпия из «Сатирикона» Петрония. Бурный сочувственный смех вызвал его рассказ о проститутке, прозванной Аэроплан, которая, отбиваясь от милиционеров, пытавшихся схватить ее, так ловко ударяла носком своей туфельки между ног «мильтонов», что те с воем падали на пол и корчились на полу ресторана. Показаний свидетельницы Аэроплан очень опасался Эвколпий—Грушевский. Но на суде она вела себя неожиданно. Одетая во все черное, молчаливая, и показания дала в пользу обвиняемого.
Всех заинтересовал прокурор Зальманов Александр Михайлович. Он явился в камеру при галстуке, в подтяжках, которые обычно отбирались при аресте. Он аккуратно, по складочке, на ночь подвешивал свои брюки. Он все пытался сохранить свое достоинство. Тюремщик у решетки вызывает Зальманова на допрос. Александр Михайлович не торопится. Он спокойно заканчивает партию в шахматы, надевает медленно пиджак, поправляет галстук. Тюремщик за решеткой выходит из себя, кричит, бранится. Но Зальманов, презрительно растягивая слова, говорит: «Пусть сле-до-ва-тель подождет... Он мне не ну-жен. Нужен ему я. Пусть ждет!» И Зальманов казался изумительным героем, а главное — загадочным исключением. При галстуке и в подтяжках. Таинственными были его вызовы к директору тюрьмы. Зальманов со скучающим видом рассказывал: «Начальник говорит мне: „Что ж, Александр Михайлович, не хотите ли ночью прокатиться по Невскому? Я вам это устрою, но только ночью". — „Нет, товарищ начальник (он смел говорить «товарищ», а не «гражданин», как полагалось заключенным). Я уж подожду,
¹ Параша — первоначально ночной сосуд, впоследствии — слух. (Прим. Н. П. Анциферова.)
чтоб вскоре покататься на свободе»». Так он был уверен в своем освобождении. «Поеду в Мексику, там моя жена. Правда, я ее бросил. Она у-то-ми-ла меня своей красотой, не выдержал. Но для такого случая я готов». Вот один из его афоризмов: «Все женщины, ду-ры. Но есть две категории дур. Одна — это те женщины, которые понимают, что они дуры; другие — те, что этого не понимают. Эти уже безнадежные дуры».
Ко мне он обращался как к своему «коллеге», вспоминал наших профессоров. По моему делу этот экс-прокурор высказался так: «Вы — идеологический преступник. Преступления такого рода не предусмотрены нашим кодексом. Но вы не волнуйтесь: наши специалисты сумеют вам подыскать и статейку, и пунктик».
Свои речи он сопровождал коротким сардоническим смехом. Но однажды я увидел его потерявшим свое хладнокровие. В камеру ввели мрачную фигуру уголовника. Фамилия — Хомяков. У него с Зальмановым начались длинные беседы шепотком. К беседам присоединился Воронин, весьма беспутный и циничный молодой человек. От него я узнал, что Зальманов обвиняется в принадлежности к шайке бандитов «Черные вороны», что он теперь обрабатывает Хомякова, как тому держаться на суде. Каков либерализм — посадить их в одну камеру! Потом я узнал о деле прокурора Томашевского — «кровавого мальчика». Во время допроса Хомяков все упирался в один таинственный пункт и умолкал. Судья потребовал категорическим тоном дать показания. Хомяков побледнел и отвечал: «Я молчу... не смею... Преступник, которого я не решаюсь назвать, в этот момент в камере суда выступает с обвинительной речью. Это прокурор Томашевский». Записываю то, что слышал. Так ли, не ведаю. Зальманов внезапно исчез из нашей камеры, и о нем больше ни слуху ни духу. В Соловках я встретился с Ворониным, и он мне сказал, что Зальманов исчез бесследно и он ничего о нем не знает21.
Запомнился мне еще китаец Ван Джен-Сун, едва говоривший по-русски. Когда его спрашивали, в чем его обвиняют, он встряхивал головой и коротко отвечал: «Мило! Мило!» Ему кричали: «Ходя! Ходя!» Он сердился. «Как по-вашему лошадь?» — «Но, но!» — «А кошка?» — «Мяю». — «Корова?» — «Мю». В камере из него делали шута. Он поддавался. Однажды Ван Джен-Сун изумил меня. Он несколько дней наблюдал меня, прислушивался ко мне и вдруг под хохот камеры заявил, указывая на меня: «Вот эта... такая человека... такая человека... даже убить человека... не может», — и покачивал головой с удивлением. Не знаю, чем объяснить его вывод, но грустно то, что это свойство — неспособность к убийству — вызывает такое удивление.
В камеру ввели долговязого юношу с рассеянным видом. Он часами сидел, не двигаясь. Его считали помешанным. Думая, что он в таком отчаянии от своего ареста, я хотел его чем-нибудь утешить. Но он с удивлением взглянул на меня: «Я занимаюсь гимнастикой». — «Как гимнастикой? Да вы ведь совершенно не
21 По сообщениям печати, Александр Михайлович Зальманов (Зелиманов) работал инструктором в Ленгубсуде и брал деньги у уголовников, выдавая себя за прокурора и обещая им покровительство. К шайке бандитов «Черные вороны» Зальманов прямого отношения не имел — продал пистолет одному из ее членов. Зальманов и Воронин были осуждены еще в сентябре 1928. Судья (а не прокурор) Ленокрсуда Анатолий Васильевич Томашевский действительно председательствовал на одном из процессов в день суда над «Черными воронами», однако о его аресте или процессе над ним газеты не сообщали.
подвижны?!»— «У меня духовная гимнастика». И он мне объяснил, что хочет добиться такого овладения своим вниманием, чтобы научиться выключать себя из тюрьмы. Юноша оказался кузеном моей Тани Навашиной, Андреем. Он был погружен в индийскую мистику, верил в переселение душ и стремился вспомнить себя в другом воплощении. Ему удалось восстановить свою судьбу. При императоре Адриане он был замешан в какой-то заговор и был вынужден вскрыть себе жилы. В следующем воплощении он был гугенот и погиб в Варфоломеевскую ночь. Свое воспоминание Андрей превращал в поэму и тихонько читал мне вслух.
Во время прогулок я встретился со своим товарищем по университету — лидером реакционеров Шенкеном. Некрасивый, хромой, обросший бородой....
Показали мне на прогулке и Митю Казанского, одного из предшественников Распутина, который был вхож к царице.
Среди нас был белый офицер, худой, замкнутый... Он мне сказал, что ждет вызова на расстрел. Присутствие «смертника» действовало на меня удручающе. В особенности в сумерки, пока не зажигали огонь. Вот он среди нас. Живой человек. Со своим, никому не доступным миром, прислушивается к возгласу: «Собирайся с вещами!» И он пойдет, потупя голову, куда-то в подвалы, и ему выстрелят в затылок, и все будет кончено.
Непонятно! Непостижимо! Вскоре мы узнали о выводе на расстрел нескольких человек. Жутко было, что один из них попросил денег, чтобы доехать домой на трамвае. Слух о том, что он расстрелян, особенно взволновал камеру. Значит, можно ничего не подозревать и получить пулю в затылок. Каждый подумал: ведь это может ожидать и меня. Такая же неожиданность.
В камере вспыхивали и религиозные споры между евангелистами и чуриковцами22. Чуриковец — красивый русский мужик с окладистой черной бородой с золотистым отливом и в лиловой шелковой рубахе — рассказывал о братце Чурикове с большой нежностью. Секта эта возникла в Вырице. «Какой-то безбожник, — рассказывал чуриковец, — говорил братцу: вот я буду поносить Бога, и мне ничего не будет. Бога ведь нет. И Чуриков ответил: неужели Господь Бог взглянет на такую гниду, как ты! Тьфу!»
Евангелисты твердо верили, что они на том свете будут в раю. Один из них — крепкий и плотью, и духом, — протягивал руки, сжимая кулаки, потом разжимал и говорил: «Вот на ладони — грехи мира. Христос их принял на себя. — Он клал одну ладонь на Другую и добавлял: — Теперь все они приняты Христом. И душа чиста от грехов», — и торжественно показывал пустую ладонь. «Правая вера очищает от всего». Споры разных сектантов, очень страстные, напоминали мне XVI век, борьбу с католической церковью Лютера, Цвингли, Кальвина. Церковь должна очиститься и вернуться к первым векам христианства. Как же это возможно?
22 Чуриковцы—члены религиозной секты, основанной в 1894 Иваном Алексеевичем Чуриковым (1862—не ранее 1930). Аресты чуриковцев начались с середины 1920-х, в 1929 ликвидирована их сельхозкоммуна в Вырице. Отдельные группы последователей Чурикова сохранились в Ленинградской области до настоящего времени.
Куда же вы денете тысячелетний религиозный опыт, носителем которого является Церковь?
Был в камере священник, отец Всеволод. Я смутно помню студента моего курса Ковригина, но он был естественник, биолог. Теперь он священник Ковригин. Всегда спокойный, всегда ясный. Он говорил нам, улыбаясь по утрам: «Хорошо можно жить и в ДПЗ!» В спорах он не принимал участия. Только раз я увидел его помутившегося духом. На прогулках по кругу в центре тюремного двора мы встретились со странным человеком. Высокий, бедно одетый, с рыжей лохматой головой и рыжей, столь же мохнатой бородой, с голубыми блуждающими рассеянно добрыми глазами. Это был лучший друг А. Блока Женя Иванов, о котором поэт так любовно писал. Мысли его, туманные, блуждающие, могли изумить своей неожиданностью. Так, он потряс своим вопросом отца Всеволода. «Скажите, батюшка, — спросил он неуверенным голосом. — Бог, какого он пола, мужского или, может быть, женского?»
Так мы жили, колеблясь между свободой, концлагерем и смертью.
Нас всех подстерегает случай,
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего лица...
* * *
Мне снится сон. Я дома, в своей комнате. Меня окружает семья. Сон волнующе яркий. Я рассказал о нем отцу Всеволоду. «Вы все думаете о доме. Вот Господь и послал вам утешение во сне, душой побывать дома». И вновь приснился тот же сон, но с продолжением. Я говорю родным: «Ведь это только сон. Проснусь, и снова замки, решетки...»
Наконец вызвали меня к следователю. Допрос был короток. Стромин старался уверить меня, что я принадлежал к организации, которая считает советскую власть властью Антихриста. Я ему сказал, что он совершенно не понял направления кружка Мейера и Половцевой. Ксения Анатолиевна разделяет всю экономическую и социальную программу большевиков, но она, как и другие, считает ее недостаточной для обновления человечества и построения коммунизма. Нужная религия. Ее мечта: сочетание того и другого. Это произойдет тогда, когда 1 мая встретится с Пасхальным воскресеньем.23
Больше Стромин меня не вызывал.
При ДПЗ была библиотека, и тюремщик, заведовавший ею, решил привести в порядок ее и организовал библиотечную комнату, куда перевели нескольких научных работников, в том числе и меня. Итак, я в новой камере. Здесь у каждого была койка. До обеда мы работали в библиотеке. Какое облегчение нашей жизни! Здесь встретился я с однодельцами: В. В. Бахтиным, А. П. Аляв-
23 Н. П. сформулировал здесь позицию К. А. Половцевой в первые годы существования кружка. Со временем она, как и остальные участники мейеровских собраний, все дальше уходила от проблем насущной политики к чисто религиозным.
диным (оба—ученики И. М. Гревса). Здесь были и В. Н. Бенешевич (историк Византии), и С. С. Абрамович-Барановский, юрист, выступавший в годы 1-й мировой войны защитником на процессе толстовцев, отказавшихся от мобилизации. Был еще один очень симпатичный паренек, сбежавший из Эстонии на родину (без нужных документов), и очень неприятный субъект, троцкист Жигачев. До встречи с ним я, дожив до 40 лет, всегда говорил: «Я знаю подлые поступки, но я не знал подлецов». Теперь я встретился с подлецом. Это был широкоплечий малый с выгнутой грудью и руками столь длинными, что, казалось, он мог бы почесать свою пятку, не нагибаясь. Лба почти не было. Совсем питекантроп! На груди его была татуировка — 4 картины: на одной человек с широкой бородой, на другой — с короткой, на третьей — без бороды, но с усами, на четвертой — без усов и без бороды. Он пояснял: это — Маркс, Ленин, Либкнехт и Роза Люксембург.
Дышать с ним одним воздухом было очень тяжело. Интеллигенцию он ненавидел до боли в зубах. Он размахивал руками, словно хотел кого-то схватить и задушить. Так и говорил: «Их всех нужно расстрелять». Нам он говорил, что надеется — мы получим «на полную катушку», т. е. по 10 лет (тогда это был максимальный срок). Доминирующим объектом его ненависти был Сталин. Однажды в библиотеке в нашем присутствии он разразился проклятиями на голову Сталина и грохотал: «Он своим жирным задом раздавил революцию, ввел машину голосования» (это выражение я помню точно). Жигачев за одно только был благодарен Сталин', что он, Жигачев, униженный до общества контрреволюционеров, все же не смешан с нами: ему почет, он как «политический» пользуется дополнительным питанием. Жигачев говорил, говорил без умолку, его пулемет трещал беспрерывно. И в библиотеке Жигачев нашел, как проявить свою преданность революции. Он поднял крик, что мы не изъяли мистическую книгу «Ад» Данте. Но не нас освободили от его общества, а его от нашего. Однажды в библиотеке, в присутствии гепеушника-библиотекаря (в форме!), он разразился такими проклятиями Сталину, что библиотекарь оторопел, съежился. Видимо, сообразил, что допустил нечто совсем уже недозволительное, и ушел. После нашего увода он имел продолжительную беседу с Жигачевым.
Выход был найден. Жигачев напишет на нас донос, и нас переведут в другую камеру, на другой этаж, чтобы ему больше не сталкиваться с нами. Так и случилось: Бенешевич, Бахтин, Алявдин, Абрамович-Барановский и я были переведены в так называемый Таиров переулок. Однако до этого перевода со мной произошло совершенно невероятное событие.
После работы и обеда мы легли поспать. И снится мне опять сон. Вновь я дома. На этот, третий раз все стало ярче, еще конкретнее. И я говорю своим близким: «Ведь я же знаю, что это только сон», делаю усилия, чтобы проснуться, просыпаюсь, и снова моя комната и лица близких, и все еще ярче, бесспорнее.
«Ну вот, дорогой, — говорит мне жена, — веришь теперь? Все прошло, и ты опять дома, с нами». — «Нет, — говорю я, — ущипните меня, я проснусь, и снова — замки, решетки». Смотрю на часы — мне нужно торопиться к поверке. Я просыпаюсь, и снова комната, моя кровать, диван, письменный стол, книжные шкафы. Никогда наяву я не воспринимал их так физически остро, и все же я проснулся. Опять камера, решетка, намордник на окне. Какое-то странное чувство удивления этому трижды повторявшемуся сну и этим последним трем пробуждениям. Я рассказал об этом своим однокамерникам. Слушал меня и Жигачев. Лицо его выражало безграничное презрение: «Вот они, интеллигенты гнилые, даже снам верят, как старые бабы». Только он кончил, подошел тюремщик и вызвал меня. «С вещами?» — спросил я, обрадованный. «Нет, всех вещей не надо. Взять шляпу и пальто». Еще загадочней. Оделся, пошел за тюремщиком. Привели в кабинет директора тюрьмы. «Ваша жена в Детском Селе? Вам разрешено свидание на дому. С вами поедет спутник. Во всем слушайтесь его».
Мы вышли на Литейный. Звонки трамваев! Как их ненавидел на воле. Мне ведь пришлось работать в разных местах, чтобы содержать семью в б человек, и я метался по городу, постоянно опасаясь опоздать, и вот эта зависимость от трамваев питала мою ненависть к ним. А в этот день звонок трамвая показался мне голосом моей милой трудовой жизни на воле. Мы у Царскосельского вокзала. Смотрю на часы и бегу к кассе (я еще помнил расписание). Мой спутник бежит за мной. Я оборачиваюсь. «Не бойтесь, не убегу». — «Да я знаю, что вы не убежите». Вагон павловского поезда. Напротив меня — художник В. Конашевич (делавший обложку для наших книг «О городе»). Он понимает, что означает моя поездка со спутником, и опускает веки. Детское Село. Путь пешком домой. Встречаю знакомых, все улыбаются мне, но не здороваются. А у меня одна мысль: оставит ли меня спутник наедине с женой? Мы у дома. Спутник: «Я вас оставлю часа на полтора, а сам пока пойду погулять в парк». «Какой же ты милый!» — хотелось воскликнуть. Сердце-то как стучит! Вхожу в нашу комнату. Таня лежит в кровати. Процесс опять обострился, и все же мы в этот момент счастливы с болью в душе, но боль не могла победить счастья свидания. Детей не было. Мама была в городе. Ну что ж. Мы в эти мгновения всецело и полностью принадлежали друг другу. Я рассказал суть моего «дела». И мы оба верили, что следствие разберется и я скоро вернусь домой, совсем вернусь. Таня рассказывала о болезни детей — коклюш. Кашель порой прерывал ее речь. «Это были последние мгновения навеки умолкнувшей музыки». Нехорошо, что я привожу слова Герцена. Но эти слова из «Oceano nox» давно уже стали нашими. Мы оба работали над книгой «Любовь Герцена»24. Теперь она работала над ней без меня, до последних дней своей жизни. Прибежали дети. Бросились ко мне радостные, словно чуть-чуть смущенные. И вот я с женой и
24 Книга «Любовь в жизни Герцена» осталась неопубликованной. «Осеапо пох» (Ночь на океане») — глава из «Былого и дум».
детьми. Времени я не сознавал. Время исчезло. Так отступает волна, добежав до берега, чтобы снова нахлынуть. И время вернулось. Пришли друзья. Принесли букет сирени. Детское Село ^встречало меня празднично. Всюду благоухала сирень. Да, время вернулось, и я вспомнил свой сон и, как тогда во сне, взглянул на часы. Не опоздаю ли к поверке, не подведу ли спутника, который даровал мне такое благо свидания с семьей без свидетелей. «Прощайте, пора домой. Я могу опоздать на поезд». Я встал. Все окружили меня. Встала и Таня и, пошатываясь, вышла на балкон, села в свой шезлонг. «До свидания»,—сказала она глухим голосом. В интонации звучало: верь — до свидания. Друзья высыпали на улицу. Кто-то, кажется «моя Киса» (К. В. Ползикова-Рубец), сунул мне «на всякий случай» перочинный нож. Меня уже догонял спутник. В Ленинграде на вокзале меня поджидала мама. Мы простились. Я еще раз встретился с нею. Это было через год в камере следователя. С Таней в этой жизни я больше не повидался.
Когда трамвай вез нас к Шпалерной, я с тоской вспомнил свои неосторожные слова: «Мне уже пора домой». И Таня, с грустью, кольнувшей меня, беззвучно повторила: «Домой».
Где же мой дом? Теперь бездомна жизнь, как бывает безвоздушно пространство.
Меня не обыскали, ничего не отняли, провели в нашу библиотечную камеру. Жигачев с тупым изумлением и злобой смотрел на меня. «Сон! Сон наяву! И эти цветы». Мне хотелось встряхнуть его, разбудить. Сны становятся явью.
Я до сих пор не знаю, кто выхлопотал мне этот дар жизни: свидание на дому. Но оказалось, что это была уже подготовка к ссылке. Ссылаемым тогда давали свидания в тюрьме «без решетки». Тяжело больная жена не могла приехать, и мужу разрешили поехать к ней. Милость необычайная, неслыханная.
Это был все же 1929 год, за следующие 8 лет многое изменилось! На другой день заключенные, кто шел на прогулку, с удивлением сквозь решетку заглядывали в нашу камеру на великолепный букет сирени. На несколько дней я превратился в ДПЗ в легенду.
Возвращаюсь к Жигачеву, как он отомстил нам за все. Я уже писал, как нас перевели в Таиров переулок. Отрадой для меня была встреча в новой камере с профессором А. И. Заозерским, учителем моей жены. Обаятельным, чистым, талантливым человеком, с которым я очень сблизился.
Теперь вместо библиотеки мы работали во дворе ДПЗ. Чистили картошку. А позднее сделались дворниками и подметали двор. Наблюдая нас во время прогулки, наш Н. А. Александров с горькой усмешкой сказал: «Жрецы ль у вас метлу берут?»
Встречался я на прогулке и с моряком Назаровым — средних лет. Лицо у него спокойное, ясное, русая борода. Что-то патриархально русское, не патриархально, а исконно. Это — князь
древней Руси. О Назарове я слышал от Зальманова еще в 22-й камере. Он с негодованием говорил: «Ну и комиссия — совершенно сумасшедший. Вообразите, говорит, что русская живопись кончается Рублевым, все остальное уже спад. А на Репина и прочих смотреть после новгородской школы не хочется. То же и о музыке. Вершина музыкального искусства — церковная музыка. Чайковский — уже декадентство. Бред! Дикарь!» Я все же сказал Зальманову: «Я разделяю оценку Назарова древней русской иконописи и Андрея Рублева, его «Троицу» считаю. вершиной мирового искусства, но не согласен с его оценками нового времени».
Я узнал до того как познакомился с Назаровым, что он перед окончанием следствия подал заявление, в котором благодарил следственные органы за то, что его изъяли из мира лжи, насилия и политики и перенесли в то место, где еще можно встретить настоящих людей. Это заявление тяжело отразилось не только на судьбе самого Назарова, но и на многих, с ним связанных. «Группа Назарова» была выделена из дела организации «Воскресение». Сам Назаров был оценен как глава какой-то несуществующей организации и, как и Мейер (с которым он резко расходился), получил 10 лет заключения, а его однодельцам дали по 5 лет.
Для объявления приговора нас собрали в кабинете директора ДПЗ, там, где я недавно услышал радостную весть о разрешении съездить в Детское Село.
Мне и А. П. Смирнову оказали снисхождение — наш срок три года. Этот срок назывался «детским». Н. В. Пигулевская получила 5 лет, как и А. П. Алявдин. Они были в отчаянии и объясняли все заявлением Назарова, хотя Пигулевская проходила по делу «Воскресения».
И все же, как ни трагично для нас прозвучал приговор, мы встретились радостно. Крепко пожимали друг другу руки.
Наступил день последнего свидания с родными.
Решетки с окон были убраны. От криков пришедших на свидание было трудно слышать говоривших. Ко мне пришла одна Танюша, без Светика. Почему, не могу вспомнить. Она все кричала: «Папуля! Папуля!» — и что-то протягивала мне. Тюремщик, заметивший ее незаконные попытки, отошел и отвернулся.
Много мне пришлось сидеть по тюрьмам. И я пришел к выводу, что несправедливо судить о человеке лишь по его службе, его профессии. Как много могут сделать добра тюремщики! Маленького добра, но приобретающего особый смысл в тюремной обстановке.
Танюша протянула мне конвертик, в который был вложен цветок олеандра. Еще в библиотечной камере я получил письмо со словами: «Олеандр еще расцветет». Я понял это тогда как обетование возврата к нашей старой жизни. Этот олеандр стал уже давно символом нашего счастья.
В 1914 году на Палатине Таня нашла обломок мрамора. На Капри она сорвала веточку олеандра, положила ее на мра-
мор и зарисовала все это в своем итальянском альбоме в оливковом переплете. Олеандры благоухали нам среди статуй весталок на Форуме. Благоухали они и в развалинах виллы Адриана, и в Никитском саду, саду моего детства, когда мы посещали его в 1917 и 1927 годах. В 1928 г. Таня ко дню моего рождения подарила мне цветок олеандра, когда я простился с ней, чтобы ехать в И. М. Гревсом и Т. Б. Лозинской в командировку от ЦБК на юг. Таня вышла на балкон и что-то крикнула мне на прощание. Но я не расслышал. В письме к ней спросил. Она ответила: «Я крикнула, что к твоему возвращению олеандр расцветет». Тогда он не расцвел. И вот теперь, в дни разлуки, он зацвел. Таня сорвала цветок и с Танюшей послала мне его как прощальный дар на дорогу. Свой последний дар. Дочурка так волновалась, что ей не удастся передать мне его. И все же передала. Впоследствии я узнал, что наш куст олеандра стоял в изголовье гроба Тани. И вскоре засох. (...)
Глава III. СЛОН
[Глава III.]
СЛОН (Соловецкие лагеря особого назначения)
В белом море
Красный слон...
Из песни заключенных
Всех нас заперли в столыпинский вагон. В купе высоко — маленькие окна. Купе отделено от коридора тяжелой решеткой. Несколько друзей издали наблюдали посадку. К нашему удивлению и радости, мы все вместе. Поезд тронулся. Прощай, Петербург.
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.
Мы молчали. Первым заговорил А. А. Мейер: «Кончилась жизнь. Теперь начинается житие». Ехали, кажется, двое суток. Привезли нас утром, туманным, холодным. Алексей Петрович Смирнов мрачно сказал:
Пустынный и мрачный гранит.
На острове том есть могила,
И в ней император зарыт.
Это были вещие слова. Через несколько месяцев Алексей Петрович и был зарыт, освобожденный сыпным тифом. Его опередил Павел Дмитриевич Васильев.
Часть вещей нагрузили в телегу, часть мы несли сами. Путь показался долгим. Идти не хотелось. И куда идти! В конце ост-
рова мачта. Нас встретил короткий субъект, напоминавший антисемитскую карикатуру из черносотенного журнала. Мелко курчавый, рыжий, с оттопыренными ушами, вывороченными губами, над которыми нависал мясистый нос. Это был Абраша Шрейдер. В руках его список этапа и палка-«дрын». Он начал командовать. «По вызову брать вещи и бежать к мачте. Живо!» Первый заключенный со своим мешком поплелся к мачте. Абраша наскочил на него с матерной бранью и ударил дрыном. У последующих прибавилось прыти. Я едва плелся. Но охота пускать в дело дрын у него скоро прошла. Вслед за перекличкой нас отвели на ровное место, и Шрейдер произнес «приветственное слово». Речь его начиналась потоком изощренной матерщины. Был упомянут рот, печень, пупок, гортань, сердце. Кто-то из «урок» улыбнулся. Как коршун, налетел на него Абраша и начал избивать своим скипетром, как Одиссей Терсита.
После паузы он закричал во всю силу своей жидкой глотки: «Вы думаете — это тюрьма, где у вас там разные фигли-мигли?» Эффектная пауза, и вслед: «Это не тюрьма. Это, — еще тоном выше, — концлагерь!» Абрашу сменил верзила со скобелевской бородой, «гроза урок» Курилко — унтер царской армии. Он построил нас в шеренгу и зычно закричал: «По порядку номеров рассчитайся!» И посыпалось: первый, второй и т. д. В этапе было человек сорок. Последовало приветствие: «Здравствуй, 8-я рота. Отвечайте коротко: „Здра!"» Мы крикнули: «Здра!».
«Не слышу, мать вашу! Чтобы в Соловках было слышно!» — И мы кричали «здра» до хрипоты. Вслед за этим мы не легли, а упали на наши вещи, брошенные на камни.
Начался опрос нового этапа. Меня посадили писать анкеты: фамилия, имя, отчество, статья, срок, специальность. Среди вновь прибывших был красивый рослый парень — летчик по фамилии Круг; он имел 58-ю ст. пункт 6-й — шпионаж. Мне было жаль молодого человека, в особенности, когда я узнал, что он партийный, и я сказал: «Вам как партийному особенно тяжело получить такой пункт». Он иронически усмехнулся. Вскоре я узнал, что десятилетников отправляют на Соловки. Но Круга почему-то не отправили. Пишу об этом, так как встреча эта имела для меня тяжелые последствия.
В конце концов нас покормили «баландой» (тюремный суп) и оставили в покое спать на камнях. Хоть было еще только начало августа (10-е), но было холодно, дул студеный ветер. Мне долго не спалось. Вот она, «cita dolente», но неужели будут и «etemo dolore» для нас, «perduta gente»?¹ И все же я заснул. Но спать
¹ «Отверженные селенья», «вековечный стон», «погибшие поколенья» (итал.) — цитаты из Песни третьей «Ада» «Божественной комедии» Данте приведены в переводе М. Л. Лозинского. (Прим. публ.)
пришлось недолго: я не сразу понял, в чем дело. Оказывается, по наряду собирали из числа вновь прибывших команду идти таскать из воды баланы (бревна). Вдруг раздался крик ужаса: «Убий, товарищ дорогой, убий!» И в ответ: «Ты, мать твою, саморуб». Какого-то несчастного нарядчик Архангельский топтал ногами: тот распорол себе живот, чтобы освободиться от принудительных работ. Такие и назывались саморубами.
Так заканчивался наш первый день в СЛОНе.
На другой день были мои именины.
Меня послали работать в библиотеку.
Моя одноделица Маргарита Константиновна Гринберг¹ угостила меня чашкой какао. Как ей это удалось, понять не могу. Но это не сон. Я твердо помню.
Вечером вызвали и меня на работу. Наша группа прошла через весь Попов остров и подошла к железнодорожной линии. К составу товарного поезда. Нужно было подходить к вагону и принимать куль с зерном. Меня нагрузили, но я не вынес веса и упал. На меня набросились с криком: «Отказчик! Филон!» Хотели бить. Но подошел бригадир, посмотрел на меня внимательно и сказал: «Нет, не филон!» — и перевел на другую работу.
А я думал: «Ну, вот как удачно. Значит, прожил ровно сорок лет».
Меня посадили зашивать большой кривой иглой уже наполненные зерном мешки. Но и этому нехитрому делу пришлось учиться. Не разгибая спины, я шил, а на небе всю ночь тлела заря. Мне было тяжело. И от усталости, и от зависти грузчиков, т. к. моя работа считалась блатной.
* * *
Вскоре я был переброшен в Кемь. Провожавшие меня поздравляли с удачей: Кемь — столица СЛОНа. На главной улице, против церкви, двухэтажное серое здание — управление. Первоначально меня поместили в барак у реки Кемь (но это уже не река, а залив, фьорд). Вечером, ложась спать, я отдал свою пайку хлеба помору с широкой темно-русой бородой и ясными, спокойно-живыми глазами. Утром меня что-то разбудило, какое-то щекотанье лица: это помор склонился надо мной и шептал:
«Спасибо тебе, голубчик, за хлебушко, меня берут на этап. Не забуду тебя. Когда у меня будет семужка, пришлю. Запомни». Семужки я не получил, но не по вине помора. Он не знал, что весь его улов будет принадлежать СЛОНу.
Едва я поел баланды, напился чаю, как меня повели в управление, в кабинет нач. эк. о. (экономического отдела) Мисюревича. Гордый, красивый поляк, ознакомившись с анкетой, сказал мне:
«Будете секретарем Дорстройотдела». — «Справлюсь ли?» — Он
¹ Имеется в виду М. К. Грюнвалъд. (Прим. публ.)
холодно улыбнулся: «Вы же с высшим образованием». Увы, я не имел никакого представления, что значит «секретарь отдела». Я полагал, что секретарь — это лицо, ведающее протоколами, и боялся, что не сумею толково записывать заседания, посвященные строительству, и речи инженеров. Дорстройотдел возглавлял тогда Балмашов (его прозвали Балдашов из Вздорстройотдела). На меня было возложено все, что угодно, кроме ведения протоколов: 1) Регистрация входящих и выходящих бумаг; 2) Писание служебных записок и телефонограмм; 3) Хранение всех деловых бумаг и быстрая выдача их начальнику; 4) Хранение всех чертежей; 5) Хранение всех чертежных инструментов; 6) Получение и выдача продовольственных карточек и т. д. Я барахтался в этих делах, как щенок, брошенный в воду. Насколько я был невежествен, можно судить по тому, что я полагал: бухгалтер — это лицо, ведающее книгами входящих и выходящих.
Писать деловые бумаги я не мог, и мой начальник выходил из себя от моей неграмотности. «Ну как же можно писать «согласно вашему распоряжению»! Надо же, черт возьми, согласно вашего, вашего, запомните, вашего распоряжения». Однажды произошел скандал из-за моей беспомощности. Я послал бумагу в отдел лесозаготовок: «Предлагаю вам сообщить в Дорстройотдел» и т. д. От начальства отдела лесозаготовок последовал протест. Я ничего не понимал. «Зарубите у себя на носу, — сказал Балмашов. — Предлагать можно только подчиненным. Я могу предложить моему помощнику Тележинскому (начальнику подотдела дорожного строительства) сделать то-то и то-то. Но не начальникам самостоятельных отделов». Много нужно было иметь терпения Балмашову с таким секретарем!
Основная трудность работы заключалась в том, что держать все дела в порядке было невозможно. С одного дела беспрерывно перебрасывали на другое, сосредоточить внимание не смог бы и менее рассеянный работник, чем я. Только и слышно было: «Пожар в библиотеке!»
Я очень страдал. В особенности донимал меня инженер Тележинский. Он всегда задерживался на работе. Написать какое-либо требование он полагал ниже своего достоинства. И вот в час или два ночи он начинал мне диктовать, медленно, нудным голосом, вяло шагая по комнате и все время переделывая продиктованное. Сотрудники отдела называли это «тележинить». В этой обстановке трудно было сблизиться с товарищами по несчастью. Все походили на заведенные волчки: вертелись и жужжали.
* * *
СЛОН — своего рода государство в государстве. У него были свои денежные знаки, на которые мы должны были обменивать деньги. Свой герб (неофициальный) — белый слон на красном фоне, и свой гимн, сочиненный заключенными. Запомнилось не-
сколько строк: «Чуден вид от Секирной горы¹. Хороши по весне комары². И от разных ударных работ Здоровеет веселый народ». И припев:
Тех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами.
Проживете здесь годочка три-четыре-пять,
Будете с восторгом вспоминать!
(Мотив бравурный.)
Был и свой орган, журнал «Соловецкие острова»25 с силуэтом чайки на фоне белой обложки. Журнал был беспартийный. В нем заключенные отражали тоску по воле, по дому, по близким. Писали элегии и романтические легенды на темы средних веков, сказки... Много чудес было в концлагере в конце 20-х годов!
Одним из чудес этих был ресторан вблизи управления. В нем бывали и приезжающие в Кемь из-за границы. Играл хороший оркестр из заключенных. В 1929 г. им управлял наш одноделец музыкант Дружкин.
Но самое удивительное, что этот ресторан могли (нелегально) посещать и заключенные. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь был наказан за такую смелость. Официанты (тоже заключенные), подавали заключенным боржом или нарзан, но в этих невинных бутылках содержалась водка. Я даже мог заказывать Дружкину мои любимые вещи, например, попурри из «Пиковой дамы». Вспоминаю главы из «Былого и дум» о дворовых крепостных, посещавших трактир: «Пить чай в трактире имеет другое значение для слуг (заключенных). Дома (в бараке) ему чай не в чай; дома (в бараке) ему все напоминает, что он слуга (заключенный); дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар; дома у него чашка с отбитой ручкой и всякую минуту барин может позвонить. В трактире он вольный человек».
Большим преимуществом той лагерной эпохи была легкость получения права жить на частной квартире. Друзья присылали мне посылки и деньги. И я был рад воспользоваться этим правом. Я поселился вблизи Дорстроя в комнате с нашим бухгалтером Ефремовым Алексеем Павловичем и Николаем Ивановичем Дицманом (бывший городской голова какого-то кавказского города). Бухгалтер, упитанный, как Чичиков, бонвиван, вместе с тем был дельный работник. Ефремов осужден был по обвинению очень странному. Этот житель Минска обвинялся как агент Чан Кайши. Дицман частенько спрашивал его: «Алеша, не пойму, за что ты себя так любишь?» Его день начинался особой, как выражался Дицман, «молитвой»: «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» и кончался: «Про жизнь пустынную как сладко ни пиши, а в
¹ Гора на Соловках, где расстреливали.
² Провинившихся ставили голыми на комаров. (Оба прим. — Н. 77.)
25 «Соловецкие острова» — журнал — орган Управления СЛОН, выходил в 1924—30. На его страницах помещались художественные произведения заключенных, их статьи по краеведению, криминологии, медицине и др., а также материалы представителей администрации на воспитательные темы.
одиночестве способен жить не всякий». По вечерам к нему приходили гости, и компания до поздней ночи играла в преферанс, не опасаясь возвращения по главной улице в запретное время. От их разговоров о женщинах меня тошнило. Этих людей уже нельзя называть донжуанами. Это не служители Эроса и Приапа. Все соловецкие женщины, по их убеждению, б... Они не говорили «женщина отдается», а — «она дает». В женском теле их интересовали только три точки. Поцелуи были исключены из их любовной практики. Даже слово «любовник» исчезло из их словаря и заменено очень гнусным словом под стать всему остальному. Они в качестве административно-технического персонала требовали присылки к ним поломоек, но не для мытья полов. У них была охота за женами, приезжающими на свидание, и они хвастали своими молниеносными победами.
Ма guarda e passa. Но мимо! мимо! (Данте, «Ад»). Очень волновала меня судьба моих одноделиц. И не напрасно. Вскоре я понял, что женщина, заключенная в лагерь, оторванная от своих близких, попав в меняющуюся толпу, чувствует себя лишенной точки опоры, она гнется и хочет плющом обвиться вокруг какого-нибудь дерева. Так, обаятельная, сильная, умная Вера Герман вскоре вышла замуж, и прочно, за заключенного Ф.¹, который всем нам казался недостойным ее. Другая, Лишкина, увлеклась тем юношей Кругом, которого я пожалел, когда составлял его анкету. Третья беззаветно увлеклась инженером Дорстроя Малиновским.
Романы строго преследовались. Помню, как Балмашов диктовал мне служебную записку с целью разлучить влюбленных, перевести его в другой лагпункт, подальше от нее.
* * *
В лагере вспыхнула эпидемия сыпняка. Многие из сослуживцев сделались ее жертвами. Эпидемия коснулась и однодельцев. В Кемь перебросили нашего Павла Дмитриевича. Он ночевал в том бараке, где я провел первую ночь. Ему нездоровилось. Своему переводу он был очень рад, но радость длилась недолго. Болел всего три дня. Его смерть, смерть этого прекрасного русского человека, глубоко опечалила меня. Словно в утешение мне, в Кемь прибыл мой друг А. П. Смирнов, товарищ по семинарию И. М Гревса, участник нашей экскурсии в Италию... Сколько воспоминаний! Вместе с ним мы ездили этапом в Ново-Николаевск в 1925 году. Вместе с ним мы были, освобождены по пересмотру дела. Вместе путешествовали в 1922 году по северной Фиваиде. Вместе были в Херсонесе на съезде археологов в дни землетрясения. Сблизились и наши семьи. Я крестил его первенца, он — моего. Последний день безоблачного счастья
¹ Речь идет о Н. А. Фурсее. (Прим. публ.)
нашей жизни — 27/VI 1919 г. Алексей Петрович с женой были у нас, и мы сидели в беседке в нашем садике. Утром следующего дня началась смертельная болезнь Павлика. Вскоре умер и первенец Алексея Петровича. Смерть! смерть! смерть!
Вечер приезда Смирнова мы провели у Бахтина, который жил в рыбачьей слободе за мостом над рекой Кемью. Бахтин читал гимны смерти Баратынского:
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса...
...Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.
В тот вечер мысли о смерти не смущали трех друзей, полных сил и волнующих надежд. Смерть не казалась страшной. Гимны Баратынского были нам по душе. А у дверей уже одного из нас ждала избавительница от всех цепей...
Я предложил Смирнову как знатоку старого русского искусства (до ареста он был хранителем отдела иконописи Русского музея) пройтись со мною по тому месту, где на мысу стояла старая деревянная церковь. Мы медленно обошли ее кругом, вспоминая много нас связывающего и радуясь тому, что мы опять вместе. Алексей Петрович был восхищен архитектурой церкви. Мы расстались, не подозревая, что это были последние часы нашей испытанной дружбы. На другое утро я с ужасом узнал, что А. П. экстренно отправлен в больницу .на Попов остров. Через 2 дня его не стало.
На острове том есть могила.
Бахтин, услышав о трагической смерти Смирнова, с какой-то странной улыбкой воскликнул: «Vive la mort!»
Дружба наша все углублялась. Началась она еще в библиотечной камере дома предварительного заключения. Не все сразу у нас ладилось. Он принадлежал к более молодому поколению, чем я и А. П. Ученик Ольги Антоновны Добиаш-Рождественской, он высоко ценил ее, не разделяя моего пиетета к ней. В нем своеобразно сочетались нежность и светлый взгляд на людей, cum grano salis¹. Он был чужд либерализма моих сверстников. Ему был чужд Тургенев (как и поколению постарше нашего— Карсавин, Оттокар, Головань). Я очень любил рассказ Гл. Успенского «Выпрямила» (о Венере Милосской). Всеволод Владимирович не мог без возмущения говорить о нем. Но эти углы постепенно сглаживались. И дружба наша все крепла. Его близости я обязан лучшими часами жизни в Кеми. Это был дар судьбы. И наши отношения, столь непривычные в этой cita dolente, были истолкованы в стиле лагерников. Здесь обратили внимание на то, что мы чуждались лагерных женщин и разговоров о них,
¹ С крупинкой соли (лат.), т.е. с умом. (Прим. публ.)
и наша дружба была гнусно истолкована: нас приняли за гомосексуалистов. Так и В. В. Розанов истолковал дружбу Давида с Ионафаном и дружбу Ореста с Пиладом.
Жизнь наша проходила однообразно, дни походили один на другой, как овцы в стаде. Помню ходячее утешительное выражение «срок идет!». Вспоминая Всеволода, я вижу его спокойное лицо и слышу голос:
Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, — и тебе, и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.
Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!
Так бы и жили мы, довольствуясь «самой малой новизной», выполняя завет того же поэта: «Будьте ж довольны жизнью своей, ниже воды, тише травы». Пришли другие дни, и я мучительно, с тоской вспоминал время, когда я был с Всеволодом Владимировичем.
* * *
В первую ночь на камнях я сказал своему соседу: «Ну, теперь мы на дне». — «Ошибаетесь, - здесь еще есть скрытое дно, и не одно».
В Кеми в бараке был обыск, после чего несколько заключенных было уведено. Создавалось и тут новое дело.
В Кемь приехала из Москвы специальная комиссия для обследования порядков в лагерях. Начались вызовы, опросы. Поговаривали, что будет положен конец жестокостям.
Был вечер. У меня жар. Я попросил Бахтина вызвать врача, а сам лег в постель. Боялся, что дошла моя очередь заболеть тифом. Слышу шаги, но не одного человека, а двух (вероятно, Бахтин с Врачом). Хотел Бахтину передать обручальное кольцо, чтобы оно было сохранено как реликвия для детей. Но вошли незнакомые люди и, не производя обыска, арестовали меня. Жар был сильный. В полусознательном состоянии я оказался в лагерной тюрьме.
Тиф обошел меня. Через несколько дней меня повели через Кемь. Со мной вели Курилко. Открывались окна домов, и вслед нам кричали: «Здра!» Итак, я сообщник Курилко. Следователь предъявил мне обвинение: я участник организации каэров, поставившей себе задачу сорвать политическое перевоспитание заключенных". Там (на воле) — власть советская, здесь — «соловецкая», и вот каэры установили такую «соловецкую власть», которая
противоречила всей политике советской власти. Эта формула приписывалась мне. Что же, думалось мне, у меня все-таки тиф, и я в жестоком бреду!
Оказывается, что тот молодой человек, Круг, анкету которого я заполнял, донес московской комиссии, что я издевался над ним и сказал ему угрожающую фразу о «соловецкой власти». Чем вызван донос? Впоследствии я узнал, что с Кругом сошлась наша одноделица Лишкина, красивая девушка, которая, бывая в командировках из Попова острова в Кеми, заходила ко мне. По лагерным понятиям это означало, что у меня с ней роман. Меня нужно устранить. Все это очень просто, вполне естественно. Следователь Трофимов предложил мне сознаться в участии в каэровской организации и тем облегчить свою участь. «Вы же понимаете, что вам грозит. Что же ГПУ с вами делать еще остается? Понятно?»
Итак, мне осталось несколько дней жизни. Что мне с ними делать? В маленькой камере было несколько уголовников, один из них — совершивший недавно убийство. Он был так отвратителен, что мне было душно от него. Мне казалось, что я сброшен в помойную яму. Сосредоточиться, взглянуть на небо я не мог. Я только молил небо, чтобы конец пришел поскорее. Ну что ж, говорил я себе, в Индии после смерти магараджи жена его должна была следовать за ним. Таня умерла, а я остался жив. Значит, мне не должно больше жить, я не имею права пережить ее. В этом есть свой смысл, своя логика.
С уголовниками я скоро расстался. Меня перевели в камеру лагерников, где сидели торговцы универмага, обвиненные в краже продуктов. Один из них — отец баса Мариинской оперы Фрейдкова. На другой день ввели двух работников ИСО27 (это ГПУ в лагере¹), торговцы встретили их пением:
Тех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами.
Смех, обмен грубыми шутками.
Вновь прибывшие были: работник ИСО Иваницкий и староста лагеря Попова острова Брайнин. От них мы узнали, что арестованы Мисюревич, Левит и мой новый начальник Дорстройотдела Мариенгоф. В соседней камере с Курилко сидел и Абраша Шрейдер и еще один командир роты, бывший гвардейский офицер Белозеров. А с ними сидел еще один ротный командир — грузин Майсурадзе. Арестованные имели жалкий вид, в особенности Абраша, лишенный своего дрына, превратившийся в подобие общипанного цыпленка. На лице его застыли недоумение и страх. Арестованные начальники утешали себя тем, что они только грабили новые этапы и били только дрынами. Они рассказывали друг другу страшные вещи об истязаниях на Соловках: о «жердочках» (за-
¹ Позднее переименованный в «3-й отдел» (отдел, не отделение). (Прим. Н. П. Анциферова)
27 ИСО — информационно-следственный отдел.
ключенных за провинности сажали в карцер на тонкие доски — жердочки, и когда те в изнеможении от долгого сидения падали, их били и заставляли вновь влезать на жердочки). Рассказывали о «боронах» — заключенных бросали в карцеры на опрокинутые «бороны» — доски с зубьями, и т. д. Рассказывали о работах на лесозаготовках, где провинившихся летом ставили «на комаров» голыми. Все эти рассказы кончались высказыванием надежды на свое будущее: «Что же перед этими преступлениями наши проделки? Если нас расстреливать, так что же делать с теми?!» Так пытались они себя подбадривать. Вызвали Брайнина на допрос. Он мотался, хватаясь за голову, и бормотал: «Ведь я же расстрелял людей больше, чем у меня волос на голове...» А шевелюра у него была роскошная.
Во время прогулок по тюремному дворику Брайнин шептал мне: «Товарищ, будьте осторожны с Иваницким: этот человек по колена в крови». Приблизительно то же говорил мне о Брайнине Иваницкий. Но, вернувшись в камеру, оба они дружелюбно барахтались на нарах, как старые друзья.
Иваницкий рассказал о «соловецком деле», закончившемся осенью расстрелами. Он сам расстрелял Сиверса — коменданта Соловков, очень популярного среди заключенных. Сам Иваницкий говорил о нем с большим уважением, о его мужественной смерти. С отцом Сиверса я встречался впоследствии в Москве, он служил в Историческом музее. Чудесный был старик! Я рассказал ему о мужественной смерти сына и о том уважении, с которым говорил о нем его палач (...).
Опять допрос. Трофимов совершенно иначе вел его на этот раз, и я понял, что первый допрос должен был меня ошарашить, чтобы я «заговорил». Теперь я обвинялся в том, что, являясь секретарем Дорстройотдела, помогал вредительству своего начальника Мариенгофа. Я категорически отрицал вредительскую деятельность своего начальника, прекрасного организатора, умного, деятельного человека.
— Вы же признаете, что рассеянны, а Мариенгоф не согласился вас заменить кем-нибудь. Это же во вредительских целях ему нужен был «рассеянный» секретарь.
(Я мечтал работать в криминологическом кабинете, где собирали рисунки, письма, стихи заключенных уголовников. Так, думалось мне, я лучше пойму психологию людей «Мертвого дома».)
Я настаивал на своей оценке Мариенгофа. Вспомнились его слова в ответ на мою просьбу взять на мое место другого секретаря: «Конечно, я предпочел бы иметь более толкового, менее рассеянного, но вы порядочный человек, а на вашем месте какой-нибудь негодяй черт знает что может натворить».
Мучительно тянулись дни. С жадностью ловились «параши» (слухи). Они становились все страшнее и страшнее.
Сидевшие со мной в камере по вечерам, когда становилось
как-то особенно жутко, просили что-нибудь рассказать или прочесть лекцию на историческую тему. Помню один вечер, особенно жуткий. Закат пылал, как пламя грозного пожара. В камере царила мертвая тишина. Казалось, этот закат — предвестник крови, которая скоро будет пролита.
Еще поздний вечер. Начались вызовы на расстрелы. Из соседней камеры увели Курилко и Белозерова. Рядом со мной на нарах в ужасе лежал Брайнин, а с другого бока бился в лихорадке Иваницкий. Когда настала тишина, он сказал: «Я весь покрыт потом». Не утаю, что и меня трясла лихорадка.
На другой день всех заключенных под большим конвоем повели на Вегеракшу, где строились новые бараки. Мы облегченно вздохнули. Решили, что опасность расстрела миновала. Но это была иллюзия. Нас поместили в большом бараке с нарами в два этажа, набитом людьми, и мы увидели, что выводы на расстрел не кончены.
Этот барак был гротом Полифема. Поздним вечером протягивалась рука, и из нашей толпы вырывались новые жертвы. Уже стало известно, что Курилко и Белозеров расстреляны на Секирной горе (Соловки). Говорили, что Курилко кричал: «За что? Я же только следовал директивам!» И что Белозеров сказал театрально: «Не завязывать глаз. Хочу умереть как гвардейский офицер и как чекист».
Как-то в час ночи увели Левита и Мисюревича. Они содержались в особом бараке. Их тоже увезли на Соловки. И, как вскоре мы узнали, расстреляли.
Мое непосредственное чувство протестовало против смертных казней. Убийство человека человеком представлялось мне противоестественным. Нарушением основного закона жизни.
Еще дни томления и тоски. Увели и Мариенгофа. Это был красивый, молодой еще человек с большими синими глазами и черной бородкой мушкетера. Я увидел его, когда меня вели по двору. Он мне делал какие-то знаки, проводя рукой под глазами. И я подумал — это слезы, знак нашей обреченности. И вот пришли с объявлением приговоров по всему делу. Иваницкому — изолятор. Брайнину и Абраше Шрейдеру увеличили срок наказания. В приговоре я не упомянут. А список был очень длинный. Что же это значит? Почему меня обошли?
Нас повели в баню. Баня была на сваях. Когда я мылил руку, с пальца соскользнуло обручальное кольцо и скатилось в щель. Исчезло. Я заметил это, когда вернулся в камеру. Мне казалось, что меня покинула моя жизнь. Я был в таком отчаянии, что все сидевшие со мной потребовали, чтобы стражники провели меня опять в баню. Я разделся и полез под пол. В темноте начал шарить в липкой тине. Как же здесь найти! А стражники кричат: «Давай скорей! Эй, пошевеливайся! Ну, хватит!» И — о чудо! — я ощутил кольцо в руке. И вся душа перевернулась, посветлела. Теперь я готов ко всему. Подведена черта, и с заветным кольцом на паль-
це я могу выйти из жизни. Я так живо и сейчас помню тот покой, который опустился мне на душу.
Сколько еще прошло дней — не знаю. Время потеряло свой вес.
В барак заглянула белая ночь. Вошли двое и вызвали меня. Я вышел из барака и, глядя на небо, радовался. Значит, я увижу в последнее мгновение небо. Мысль о смерти где-нибудь в подвале очень страшила мистическим ужасом. Но меня перевели в барак, где находился Тележинский.
Вскоре нас отвезли на Попов остров и посадили в трюм пароходика. Значит, на Соловки, а дальше куда? На Секирную гору вслед Курилке, Мисюревичу? Едем по морю. Тлеет заря. Огромные чайки (бакланы) крутятся над нами, как стая воронов, а крик такой тревожный, жалобный...
Грозные стены монастыря из гигантских валунов. Нас высадили. Минуты, и решится все.
И решилось: нас передали обычной охране и повели в барак. Словно с рук и ног упали оковы. Итак, еще жить.
Утром выстроили торжественно, особо торжественно всех заключенных и громогласно прочли приказ о расстрелах. Читали очень долго. Сообщение о казни Курилко было встречено возгласами одобрения. Вот что значит — молва. Имени Мариенгофа и Тележинского не было. Мне говорили впоследствии, что Мариенгофа спас инженер Сосницкий, зам. нач. СЛОНа, присланный из Москвы организовать трест апатитов.
Мариенгофа я встретил позднее, через 10—15 лет, на Гоголевском бульваре. Я спросил его, что означал его жест на Вегерак-ше — слезы? — «Нет! Я хотел напомнить вам щеки Тележинского, изъеденные оспой. Хотел сказать, что его показаниям мы обязаны всем перенесенным нами».
Сосницкий дал такой отзыв о работе Мариенгофа в Дорстройотделе: «Дешево, быстро, прочно». Понятно, что и я потерял всякий интерес для следствия. Но все же что-то надо было придумать. Меня перебросили на Соловки заканчивать мои университеты и прибавили на всякий случай еще годик к моим 3 годам (о прибавке я узнал много позднее).
И вот я увидел Святое озеро с кристальной водой. Циклопические стены и мощные башни монастыря-тюрьмы, страж Руси на Севере, в далеком прошлом место опалы, место кары. Молитвы стихли. Умолк колокольный звон. Исчезли монахи. Но стены не пусты.
Меня ввели в какой-то каменный мешок и заперли. Стены были в пятнах крови. «Это от клопов», — объяснили мне. Их здесь тьмы тем. Невесело. Среди заключенных были «чубаровцы», осужденные по громкому делу в Чубаровом переулке (групповое изнасилование). Невесело.
Двое заключенные ссорились.
Один кричал: «Ты, б..., контрреволюционер».
Второй пылко отвечал: «Это ты контрреволюционер. А я муссават» (тюркская партия в Азербайджане, уничтоженная ГПУ).
В клоповнике я просидел недолго.
Снова: «Собирайся с вещами». Что же это значит? Оказывается, собирают этап. Куда? В Кемь. Неужели свобода! Но эта мысль так волнует, и становится от нее страшно. «Коварство надежды».
На прощанье встретился с соузниками из ДПЗ (Назаров и Воронин) Меня сейчас же снабдили деньгами и угостили «соловецкими селедками», прекрасными селедками, похожими на скумбрию крымскую. Их изготовляли каким-то способом несколько монахов, последних могикан монастыря Соловецкого. Изготовленную ими селедку отправляли в Кремль.
Снова пароходик. Соловецкие чайки. Попов остров. Кемь. Меня отпустили на все четыре стороны. Зашел в домик, где жил с Дицманом и Ефремовым. Часть вещей, в том числе сапоги, подарок ленинградцев, исчезли. Пропали и книги. Своих соседей я уже не застал и не знал, куда их перебросили. Я надел зимнее пальто, собрал в узелок остатки моей одежды и отправился в назначенный мне ночлег. День был жаркий. Встреченные с удивлением смотрели на странную фигуру, обливающуюся потом, в зимнем пальто. Меня снова поместили на Вегеракше, но уже не в том бараке — Полифемовом гроте. К радости, я встретил своих знакомых И. М. Андреевского и А. П. Обновленского. «Нас, видимо, отправляют в Ленинград?» — «Зачем?» — «Вероятно, по делу академиков».
Сижу на камнях у залива. Белая ночь. Сна нет. Куда ушла жизнь, когда можно было что-то знать о завтрашнем дне, когда новый день ложился камнем в воздвигаемое здание жизни, казавшееся таким прочным. Ко мне приблизился священник. Я узнал его. Это был тот отец Иоанн, который мне, бывало, улыбался при встрече. Его лицо, похожее на Христа художников Ренессанса, я хорошо запомнил. Он молча, не здороваясь, подсел ко мне. И началась беседа, затянувшаяся до поздней ночи. Ему хотелось рассказать кому-то свою жизнь. У людей, вырванных из жизни, бывает мучительная потребность рассказать о себе кому-то, кто может слушать и услышать.
Но я не запомнил его рассказа. Он был сбивчив, и что-то отец Иоанн недоговаривал. Я помню только, что он скрывался в Кавказских горах, что он принадлежал к тому направлению православной церкви, которое хотело оставаться в стороне от политики, вплоть до отказа поминать в ектений власти предержащие. Это направление получило название «иосифлян» по имени митрополита Иосифа28. Кончая свой сбивчивый рассказ, отец Иоанн сообщил мне, что у него в семье трагедия. Его жена увлеклась антропософией, и теперь она ему чужда. И говорил он мне, глядя мимо, не избегая моего взгляда, а уходя своим взором в иную жизнь. Но взор его не был светел.
На другой день он подошел к нам и познакомился с Андреев-
28 «Иосифлянство» — церковное движение, возникшее в Ленинграде осенью 1926 после того как был арестован и выслан из города только что назначенный на Ленинградскую кафедру митрополит Иосиф (Петровых). В 1927 оформилось в церковный раскол. Его сторонники протестовали против фактического подчинения Церкви государству. Аресты активных иосифлян начались в 1928.
ским и Обновленским. Разговор у них не налаживался. Было очень тоскливо. Словно люди сидели в каком-то непроницаемом тумане. Помню, Андреевский сорвал верхушку маленькой елочки и показал нам: «Смотрите, совсем куриная лапка». Почему-то эта «лапка» очень испугала священника. На следующий день он подошел ко мне, взгляд его был беспокоен. От него пахло табаком. Глухим голосом он сказал мне: «Это не к добру мне показали куриную лапку».
Уже на Медвежьей горе я узнал, что отец Иоанн душевно заболел и в припадке безумия повесился. Он не был для меня светлым лучом в тюрьме, как отец Всеволод Ковригин.
Глава IV. “Шахтинское дело” научной интеллигенции
[Глава IV.]
«ШАХТИНСКОЕ ДЕЛО»
НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Поезд мчал нас на юг. Меня, И. М. Андреевского и А. П. Обновленского. Нас окружали вольные пассажиры. Они могли выбегать на станции и возвращаться с ягодами в кулечках из газетной бумаги — «кусочка воли». Но мы не могли. Нас сторожил спутник особого назначения. Он должен был вернуть нас на Шпалерную в ДПЗ (дом предварительного заключения, для нас — следовательного заключения). При посадке в «черный ворон»¹ вдали в глубине Невского мелькнула Адмиралтейская игла.
Зачем нас везли — никто не знал и не догадывался.
Судьба привела меня в ту же камеру № 22, в которой я сидел по делу «Воскресения». Я был поражен возросшей теснотой в камере. Надеяться получить койку было невозможно. Меня окружили, как новичка в школе. Когда узнали, что я привезен из Соловков — ко мне прониклись уважением. Среди сокамерников был старый еврей с широкой, как у Маркса, бородой, с живыми глазами. «Вы не узнаете меня, Николай Павлович? Я ваш издатель Вольфсон». От него я узнал, что подготавливается «большое дело» академиков. В тюрьме С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле29 <...>. Так вот оно, то «шахтинское дело» научной интеллигенции, о котором намекал год назад следователь Стромин. Тут же Вольфсон рассказал, что он отказался дать требуемые показания и в наказание был посажен в особую камеру к «шпане», но со шпаной он сумел поладить и ожидаемый эффект не получился.
Дня через три меня вызвали на допрос. В комнате следователя сидел тот же Стромин. Его круглая плоская физиономия вежливо улыбалась. Он начал: «Прежде всего я должен выразить свое глубокое сочувствие постигшему вас горю. Надеюсь, что вы не вините нас в смерти жены». Он помолчал. «Поверьте, я вызвал вас из Соловков не для того, чтобы усугубить ваше тяжелое по-
¹ Автобус ГПУ. (Прим, Н. Л. Анциферова).
29 Формирование дела Академии наук» («дела историков» или «дела Платонова — Тарле») прошло несколько этапов. Первый был связан с провалом на выборах в январе 1929 трех кандидатов-коммунистов, избиравшихся в числе 42 новых академиков. Немедленно в газетах появились требования «реорганизовать Академию наук», «провести там тщательную политическую проверку», а вскоре и грозные политические характеристики академиков, указания на «контрреволюционное прошлое» многих из них. Однако после благополучного переизбрания в феврале А. М. Деборина, Н. М. Лукина и В. М. Фриче эта кампания мгновенно прекратилась. Следующий газетный штурм Академии наук начался через 4 месяца. В августе 1929 появились сообщения о работе комиссии по чистке АН: из 259 проверенных к 23 августа было «вычищено» 71. Вычищали преимущественно гуманитариев, а основной удар был направлен на учреждения, возглавлявшиеся С. Ф. Платоновым: БАН и Пушкинский Дом. К тому же выяснилось, что в этих учреждениях хранятся документы, «имеющие важное политическое значение». Газеты писали, что их хранение там должно «караться военным судом». В конце 1929 начинаются аресты сотрудников Академии наук, в основном историков-архивистов. Однако в первые же недели следствия выяснилось, что большинство документов, о которых шла речь, попало в учреждения АН до 1917. Обвинение в незаконном хранении документов отошло на второй план, но поскольку в Москве в это время шла активная подготовка к будущим показательным процессам «вредителей» («Промпартии» и др.), ЛенОГПУ, желая, по-видимому, не отстать от столицы, начинает «создавать» из арестованных ученых «монархическую контрреволюционную организацию». Были арестованы С. Ф. Платонов и почти все его ближайшие сотрудники, а также Е. В. Тарле, которого следствие прочило в министры иностранных дел едва ли не всех несостоявшихся «контрреволюционных правительств»: сначала «Промпартии», затем «Трудовой крестьянской партии», а затем — «правительства Платонова». Для придания большего веса «организации» в нее «включают» в качестве «филиалов» провинциальные отделения ЦБК, поэтому производят в феврале—марте 1930 дополнительные аресты краеведов по всей стране, привозят в ЛенДПЗ из ссылок и лагерей осужденных ранее гуманитариев. Известно, что на следствии Платонов вел себя твердо и ложных показаний не давал; 2 февраля 1931 он, как и другие арестованные академики, был исключен из Академии наук, и осенью сослан в Самару, где и умер. Е. В. Тарле был сослан в Алма-Ату, откуда в 1933 был возвращен в Ленинград. Дальнейшая его судьба сложилась благополучно: в сентябре 1938 ему было возвращено звание академика. Подробнее см.: Память:
Исторический сборник. Вып. 4. Париж., 1981. С. 130—135, 469—495; Брачев В. С. «Дело» академика С. Ф. Платонова//В опросы истории. 1989. № 5; Перченок Ф. Ф. Академия наук на «великом переломе»//Звенья: Исторический альманах. Вып. 1. М.. 1991. С. 163—235.
ложение, а для того, чтобы облегчить. А это будет зависеть всецело от вас». — «Что же вы хотите от меня?» — «Вы должны помочь нам разобраться в деятельности ЦБК (Центральное бюро краеведения). Нами раскрыта подпольная контрреволюционная организация. ЦБК сделалось одним из орудий ее деятельности. Я окажу вам полное доверие и ознакомлю с интересными для вас документами». Он достал объемистую рукопись. «Вот показания академика Тарле». Едва владея собой, я начал перелистывать эти «показания». Они походили на научную работу о деятельности различных журналов, организаций, издательств. В частности, мне запомнилась характеристика журнала «Экономист» как весьма вредного для линии ВКП(б)30. Меня поразил стиль этих показаний — спокойный, объективный. Затем Стромин достал показания Н. В. Измайлова и сказал: «Очень интересный человек. Посмотрите, каких показаний мы ждем от вас». Мне было трудно собрать свои мысли. Я был так потрясен. Читать? К чему? Стромин продолжал: «Раскрытая нами организация ставила себе целью свержение советской власти и образования временного правительства во главе с С. Ф. Платоновым (премьер-министр). Е. В. Тарле должен был получить портфель министра иностранных дел. В. Н. Бенешевич — министра исповеданий. (Я вспомнил рассказ В. Н. Бенешевича в камере библиотекарей о том, как ему было предъявлено обвинение в сношениях с Ватиканом на основании перехваченного письма к одному итальянскому ученому, которому он писал, вспоминая belle cosa (прекрасные вещи, которые он видел в Риме). «Cosa» было заменено на «Casa»¹ и Belle Casa был истолкован как Ватикан. Отсюда вывод — Бенешевич — агент Ватикана. Вслед за этим Стромин сообщил мне, что подпольную организацию Платонова—Тарле субсидировал Папа Римский. Деньги, которые друзья переводили мне в Соловки и передавали моей семье, — из того же источника. Я улыбнулся. Стромин нахмурился и строго сказал: «Теперь решается ваша судьба. Подумайте хорошенько. Будущее ваше и вашей семьи в ваших руках. Допрос окончен». Я почувствовал, что какой-то вихрь закрутил меня. Передо мной встал вопрос, какую роль в этом деле следствие отвело мне.
Много интересного наблюдал я в камере. Но пройду мимо всего, уводящего в сторону от дела Платонова—Тарле. Пройду мимо «дела спекулянтов серебром», вскоре расстрелянных. Среди них нищий хромоногий еврей, которого я утешал тем, что ему не грозят в лагере тяжелые работы. И священник Фиников, который утром в камере прочел о своем расстреле и вскоре был уведен «с вещами» (это было в конце лета 1930 года). Пройду и мимо споров трех священников, примыкавших к трем разным направлениям православной церкви. Один из них, епископ Александр, — к обновленческой церкви31, другой, депутат III Думы Митроцкий (вызванный, как и я, из Соловков) — сторонник примиренческой
¹ Дом (итал.).
30 Вероятно, речь идет о журнале «Экономическое обозрение», обвинявшемся в «правом уклоне». По первоначальным замыслам следствия должна была быть обнаружена связь между «вредителями» и «правыми, уклонистами».
31 Обновленцы—участники реформаторского движения в русской церкви;в первой половине 1920-х активно сотрудничали с государственными органами, требовали отмены патриаршества. После прекращения конфронтации власти с Патриаршей церковью утратили свое влияние и уже с конца 1920-х подвергались репрессиям.
линии конкордата — примирения с советским правительством — патриарха Сергия (сергиянец). Третий — иосифлянец — последователь митрополита Иосифа, занявшего непримиримую позицию. Это течение, сурово подавленное, я думаю, можно сопоставить с тем движением католической церкви в эпоху Великой революции 1789 г., которое отказалось присягнуть на верность революционным властям.
В камере было очень душно. Я заболел, не помню чем. Вероятно, сердцем (в те годы я страдал сердечными припадками), и попал в тюремный лазарет. Помню, когда в камеру к нам привели новую партию арестованных, кто-то со своей койки бросил вопрос: «А что, на воле еще остались люди?» — «Да, иногда попадаются». Такой же обмен репликами услышал я, и с большим основанием, осенью 1937 года.
Наконец Стромин решил, что дал мне достаточно времени для обдумывания своего положения, и вызвал меня для продолжения допроса. Он попросил меня рассказать о заседаниях президиума ЦБК. Едва я начал, как он прервал меня: «Неужели вы думаете, что нас могут интересовать эти ваши легальные заседания в Мраморном дворце? Вы должны рассказать мне о тайных совещаниях на частных квартирах». — «О таких собраниях я ничего не знаю». — «Так ли? А вот, припомните», — и он показал мне протокол, составленный по всем правилам секретарского искусства. Дата. Имена присутствующих. Речи выступавших. Среди имен были С. Ф. Ольденбург, А. Е. Ферсман, Н. Я. Марр, И. М. Гревс, Семенов-Тян-Шанский, Анциферов32. Ольденбург сообщал о восстаниях на Дону, в Новгородской области и где-то еще. И ставил вопрос, что делать краеведческим организациям в случае свержения на местах советской власти. Затем Стромин прочел мою речь. В «протоколе» было записано, что я предложил, чтобы во избежание анархии краеведческие организации брали власть в свои руки. «Что же, вспомнили?» — спросил Стромин. Я возмутился: «Не мог же я предлагать такую нелепость. Краеведы обычно люди пожилые, совершенно непрактичные, разве они способны справиться с анархией?!» — «Значит, этот протокол вас не убеждает?» — «Вам лучше известно происхождение подобного протокола!» Стромин мрачно молчал. Потом изрек: «Я вынужден применить к вам другие меры. Вам придется изменить тактику».
В тот же вечер меня перевели в так называемый «двойник» — одиночку на двоих заключенных. Я оказался в одной камере с почтенного вида старичком. Это был директор завода «Электросила» Стырикович (в фамилии я уверен, но завод мог перепутать). Переменой я был доволен. У меня была койка. Здесь было во всех отношениях спокойнее. Запомнился мне интересный разговор со Стыриковичем. «Что ж, вы решили отказываться от показаний, которых требует от вас следователь?» — спросил он. «Конечно, ведь я отвечаю не только за себя, но и за всех привлеченных по этому делу. Мои ложные показания могут повредить другим». —
32 Все четверо входили в Президиум ЦБК. По воспоминаниям В. П. Семенова-Тян-Шанского, фамилии Ольденбурга, Ферсмана и его самого значились в списке лиц, подлежащих аресту по «делу Академии наук», но были вычеркнуты оттуда «жирным красным карандашом».
«Вот что я вам посоветую. Поймите, им нужно одно — сломить вашу волю. На их языке это значит «разоружиться». Если ваша воля сломлена, вы уже не опасны, и приговор будет мягче. Запомните это. А рано или поздно они сумеют заставить вас разоружиться».
Я усмехнулся. «Ну, допустим на минуту, что я пойду на этот сговор со следователем и сообщу, будто Платонов завербовал меня в организацию. А в протоколах следствия значится, что не Платонов, а Тарле привлек меня в организацию!» — «О нет, они это понимают. Вам вопрос поставят так: «Скажите, для нас представляет особый интерес, Тарле завербовал вас при встрече в Публичной библиотеке или в архиве Пушкинского Дома?» Можно быть уверенным, что с такой деталью ваши показания не разойдутся с материалами следствия». — «Как бы то ни было, «роман» писать я не буду» (с этим термином я уже познакомился в камере № 22). Стырикович вздохнул: «Вы пожалеете, что пренебрегли момм советом».
Когда я позднее, уже в лагере, рассказывал об этой беседе, товарищи по заключению говорили мне: «Вас сознательно подсадили к такому Стыриковичу, чтобы разоружить вас». Я не думаю. Тон инженера был очень искренний, и он говорил на основе своего горького опыта, вспоминая, как его самого «разоружили».
Через несколько дней ко мне применили еще один прием, но совершенно другого рода. Тюремщик ввел меня в кабинет, совсем не похожий на кабинет следователя. В нем стоял диван, а на диване сидела моя мать. Я не видел ее больше года, с тех пор как простился с ней на Витебском вокзале, после прощального свидания с моей Таней. Мама показалась мне еще более хрупкой, слабенькой, маленькой. Но лицо ее озаряла ясная улыбка. И Стромин приветливо улыбался мне. Я спрашивал мою мать о ее внуке и внучке, о своих детях. Сознание, что каждое мгновение может оказаться последним, заставляло трепетать сердце. Но откуда это спокойствие мамы? Она спросила меня, что мне хотелось бы иметь. Я сказал: снимок Тани в гробу. И снимок детей. «Ну а еще?» Я подумал и сказал, улыбаясь: «Мятных лепешек». Зная мой вкус, мама, отправляясь на свидание, захватила мои любимые лепешки. «Могу ли я их сейчас передать?» — обратилась она к Стромину. «О да, конечно, Екатерина Максимовна!»— И он опять приветливо улыбнулся. Они переглянулись. И я почувствовал, что у них есть тайна от меня, что следователь обещал маме счастливый конец моего дела. Позднее, раздумывая о методах Стромина, я понял, что ему нужно было завладеть мною этой сценой доброжелательства, этим видом осчастливленной им моей матери. В нужную ему минуту Стромин напомнит мне о ней.
И снова допрос. На лице следователя еще сохраняется «доброжелательная улыбка». «Ну вот, перед вами путь к возвращению к утраченной жизни», — казалось, говорила эта улыбка. «Вот вам бумага. Дайте характеристику деятельности ЦБК (работа
с приезжающими в центр краеведения, работа на периферии— очевидно, мои поездки на места33). Дайте оценку журналов ЦБК «Вопросы краеведения» и «Известия ЦБК». — «Хорошо, я напишу». Вспомнились показания Тарле, очевидно, данные мне для примера. «Но я буду писать правду». — «Поверьте, следствию нужна только правда», — отозвался Стромин.
С сознанием того, что я приступаю к бессмысленной работе, я сел в своей камере за столик. Писал добросовестно, словно годовой отчет, писал долго. Все же, думалось, что-нибудь да дойдет до сознания Стромина. Мы ведь так верили в нужность своего дела, в его патриотический смысл, так любили наше дело! Мы боролись с московским ЦБК, которое хотело свести краеведение с его широкими задачами лишь к «производственному краеведению», исключающему из своей программы изучение прошлого края. Мы, ленинградцы, выдвигали тезис; край нужно изучать не краешком, а целокупно, только тогда краеведение сможет превратиться в краеведение...34
Дня через три Стромин вызвал меня. С мрачным видом прочел мои показания и, изорвав их на мелкие куски, сказал: «Вы что ж это, писали статью для вашего журнала или показания для следственных органов?» — «Я писал правду». Стромин отправил меня обратно в камеру.
Медленно тянулось время. Стыриковича увели. Может быть, и правда, меня посадили к нему для «воспитания». Я остался один. Но со мной были книги. Как они нужны за решетками! Чтение оставляло мне много времени и для размышлений. И я думал, думал. И вот к каким выводам я пришел. ГПУ, как всякое учреждение, должно иметь свой план. Перефразируя Вольтера, скажу:
«Если нет контрреволюционной организации — ее надо выдумать». Музей устраивает выставки по своему плану, театр — новые постановки. Так и ГПУ — новое дело, а еще эффектнее — открытые процессы. Не случайно год назад Стромин намекал о предстоящем деле — «шахтинском процессе» научной интеллигенции. Для этого спектакля нужно подыскать подходящих исполнителей. В распоряжении следственных органов имеются картотеки (как и у музейных работников для подготовки выставки). Итак, заговор, задуманный научными работниками для свержения советской власти и создания временного правительства. Кого же поставить во главе? С. ф. Платонов — вот наиболее подходящее лицо: монархист, правый профессор, директор Педагогического института, близкий к семье великого князя Константина Константиновича. Недавно был за границей. Академик, действительно крупный ученый. Как я уже писал, так же распределялись портфели министра иностранных дел (Е. В. Тарле), министра исповеданий (В. Н. Бенешевич). Задача следователей—режиссеров спектакля — добиться от подследственных согласия взять на себя исполнение предназначенной каждому из них роли. Какая же роль предназначена мне? Для того чтобы делу дать широкий размах
33 В 1925—28, представляя ЦБК, Н. П. ездил в Ярославль, Кострому, Тулу, Рязань, Курск, Витебск, Тверь, Калугу, Смоленск и др.
34 Во второй половине 1920-х в краеведении искусственно раздувалась борьба между «производственным» и «историко-культурным» направлениями. Первое из них, настаивавшее на полном подчинении задачи изучения края «нуждам социалистического строительства» (составление карт полезных ископаемых и т. п.), окончательно возобладало после массовых арестов краеведов в 1930— 31. Частичное возрождение историко-культурного краеведения началось только в 1960-е. Мысль о необходимости «целокупного» изучения края присутствует во многих работах 1920-х как И. М. Гревса, так и самого Анциферова. Однако в письме к поэту А. Н. Лбовскому от 23 ноября 1954 Н. П. приписывает приведенную в тексте воспоминаний формулировку рыбинскому краеведу А. А. Золотареву (ОР ГПБ. Ф. 423. Ед. хр. 644. Л. Зоб.).
во всероссийском масштабе, нужно использовать ЦБК как организующий центр, а периферийные краеведческие общества рассматривать как филиалы «организации» на местах. Меня же ЦБК несколько раз посылало в командировки для обследования краеведческой работы на местах и инструктирования краеведов. И я начал догадываться, что я нужен в качестве «цепочки», связывающей периферию с центром. А если так, то нелегко мне придется под давлением Стромина. Какие еще готовит он мне ловушки? Какие методы воздействия?
Ждать нового допроса пришлось недолго. Меня вызывают к следователю и ведут необычным путем. Я был удивлен, оказавшись в большой, хорошо обставленной комнате. В ней я застал не только следователя Стромина, но и мою дочь Танюшку, и моего друга Татьяну Борисовну Лозинскую. Дочурка бросилась ко мне, я обнял ее, прижал к себе и, усевшись, посадил на колени. Она боязливо прижималась ко мне, пересиливая смущавшее ее чувство отчужденности: ведь прошло уже полтора года, как она не видела своего «папулю». А меня пронзила мысль, ставшая ощущением; сиротка, мать в могиле, отец в тюрьме, в концлагере. Вспомнил рассказ Тани. После моего ареста, в апреле 1929 г., Танюша стояла на балконе нашего дома в Детском Селе. Напротив, тоже на балконе, ее подруга Аня. Аня кричала: «Правда, что твоего папу забрали в милицию?» — «Вот и неправда. В милицию забирают хулиганов и пьяниц. А мой папа в тюрьме, куда сажают лучших людей».
Так мы сидели, прижавшись друг к другу, чтобы полнее ощутить свою мгновенную близость. Татьяна Борисовна сидела рядом и ласково, растроганно, сдерживая слезы и улыбаясь, смотрела на нас. А Стромин... Он отошел к окну и стоял к нам спиной, выражая полное доверие, что ни я, ни Татьяна Борисовна не обменяемся ни записками, ни запретными словами. Так прошло три четверти часа,. Стромин отошел от окна и, став за спиной Танюши, показал мне молча на часы, дав понять, что я сам должен прервать свидание, так лучше для переживаний девочки. И мы расстались. Расстались надолго. Меня отвели в камеру.
Как хорошо, что я был один! Я лег на койку и плакал, нет, не плакал, рыдал, всхлипывая, как маленький. Вся моя сломленная жизнь зашевелилась во мне, причиняя нестерпимую боль. Плакать долго не пришлось: меня вызвали на допрос. Я бросился к умывальнику, чтобы смыть следы слез, но глаза оставались красными. Стромин посмотрел на меня пристально: «Ну, вам, я вижу, не до меня. Успокойтесь. Я вас позову дня через два». Эти дни ожидания нового вызова кончились. На этот раз Стромин попросил меня дать политическую характеристику членов ЦБК, в особенности его интересовал И. М. Гревс.
Задание было более трудное. Но я поставил перед собой легкую задачу. Я решил написать все хорошее, что я знал о своих товарищах. Так, об Иване Михайловиче я писал как о человеке, ра-
дующемся всем успехам нашего строительства, как о человеке, умеющем беспристрастно отнестись к своим идейным противникам. (То, что Иван 'Михайлович не был ни коммунистом, ни марксистом, он никогда не скрывал.) Встречая партийца-краеведа, честного работника, любящего свое дело, Иван Михайлович говорил: «А ведь этот товарищ — хороший человек, вот таких бы побольше». Я вспомнил и позицию Гревса во время 1-й мировой войны, когда он отказался в числе лишь двух своих коллег подписаться под протестом, направленным против немецких ученых, составленным в том же шовинистическом тоне, что и воззвание немецких ученых. Я сопоставил его позицию с книгой Р. Роллана «Поверх схватки».
При следующем допросе Стромин, прочитав мои показания, вновь изорвал их и сказал: «Что, вы решили выступить здесь в качестве адвоката? Ну, теперь я вас прижму к стенке. Вы знаете почерк профессора Рождественского? Знаете? Вот и отлично!» — И он с торжествующим лицом протянул мне рукопись. С болью я прочел показания старого Сергея Васильевича. Он писал, что, проживая в санатории Дома ученых в Детском Селе, он участвовал в экскурсии, которую я проводил в Александровском дворце. В качестве руководителя экскурсии я произвел на него впечатление человека, подходящего для их организации. И он предложил мне вступить в нее, а я тут же дал свое согласие. «Что ж, вы и теперь, изобличенные показаниями вашего профессора, будете продолжать отрекаться от участия в их организации?» — «Да, буду! Это показание, хотя и написано его рукой, сделано сломленным человеком». Стромин изменился в лице. Неужели же он был так наивен, что рассчитывал на мою растерянность?! Помолчав, он мрачно сказал: «Согласитесь, что я до сих пор обращался с вами чрезвычайно гуманно. Но вы не сумели этого оценить. Теперь мне придется изменить свое обращение с вами. Пеняйте на себя!»
Меня увели и в тот же день перевели в одиночку. Так я опускался все ниже и ниже. Из корпуса I во II, а теперь уже и в III — самый строгий.
В первые дни я не почувствовал особой тяжести нового режима, т. к. и в двойнике сидел один. Но здесь я был лишен всего:
и прогулок, и книг, и газет. Передач я и до этого не получал. Но пока такой режим не тяготил меня. Нужно было внутренне собраться для предстоящей борьбы, а я понимал, что борьба предстояла тягостная. Не помню, сколько дней прошло на этот раз до вызова на допрос. Привели меня в тот самый кабинет, где было свидание с матерью. Стромин начал: «Ну что же, обдумали ваше положение, всю его серьезность? Признаетесь, что вы принадлежали к контрреволюционной организации?» — «Ни о какой организации я не слыхал, тем более не могу признать, что я к ней принадлежал». — «А показания Рождественского?» — «Я не знаю, каким путем вы добились таких показаний».
По лицу Стромина пробежала судорога. У него задрожали губы, он схватился за голову, после чего у него вырвался сдавленный звук, словно ему трудно было произнести это слово. «Нет! Я не могу! Вот тут сидела ваша мать. Она ждет вас. Зачем вы губите себя? Я еще попробую вас спасти. Вы не представляете, какое это страшное дело, участником которого вы являетесь. Если вы не покаетесь, вам нет спасенья!» Его вид, голос, движения, сказанные им слова подействовали на меня. В эту минуту мне показалось, что ему действительно жаль меня. Я почувствовал себя стоящим над пропастью, в которую страшно заглянуть. «Ступайте. Я еще раз вас вызову, последний. Слышите, последний. И если вы не измените свое поведение, предоставляю вас вашей судьбе». Стражник молча повел меня наверх. И, поднимаясь все выше и выше, я думал, что поднимаюсь на эшафот. Мысли, как вспугнутые птицы, мелькали в голове. Что-то я должен сделать, но что я могу? Здесь нет места компромиссу. Или — или. Значит, выбор нужно сделать окончательный, и я выбираю смерть. Я упал на колени у своей койки. Осенний ветер заставлял трепетать «намордник», закрывавший тюремное окно. Казалось, он скрежетал. И я вспомнил слова Блока:
И крик, когда ты начнешь кричать,
Как камень, канет!
И только я произнес эти слова, как из окна донесся благовест. Это был день 1 октября старого стиля. Я вспомнил — это день Покрова Пресвятой Богородицы.
Матерь Пресвятая Богородица,
Прими нас под Святый покров свой,
Защити от всякого зла
И помоги нам всем соединиться во Христе,
Возлюбленном Сыне Твоем.
Это была молитва, сложившаяся в страшный час, когда я узнал о смерти Тани.
На следующий день я был вызван на допрос. «Ну что же, вы обдумали, поняли свое положение? Все ли вы взвесили?» По моему лицу он понял, что я взвесил на весах жизнь и честь, что я на все готов, и прекратил допрос. «Идите. Я больше вас не вызову. Ждите приговор».
Началась совершенно особая жизнь. Каждый новый день ложился на плечи тяжелым бременем. Как донести до сна пустое время! А я всю жизнь дорожил каждым часом, желая, чтоб он не пропал даром при строительстве жизни и лег нужным кирпичом в эту мою постройку. А теперь! «Мгновенье, остановись, прекрасно ты!» — должен был воскликнуть Фауст согласно договору с Мефистофелем. А мне теперь хотелось не останавливать время, а гнать его, быстрее, быстрее! Но в сознании родилась идея. Нужно подвести итог жизни, а для этого провспоминать ее год за
годом, повторить ее в своей памяти. Я так любил свою жизнь, и мне хотелось увидеть ее в целом. Созерцать в конце жизни панораму всего своего пути. Говорят, что перед казнью в последние минуты проносится вся жизнь, слитая в мгновенье. Я не был уверен в этом, Ведь в те часы, когда меня везли на Соловки, а я думал — на Секирную гору, где конец пути, — ничто не сулило мне этого мгновения синтеза жизни. И вот я начал возрождать в памяти год за годом. Первые восемь лет моей жизни, моего действительно блаженного детства (до смерти отца), заняли целый день. Это была колыбельная песня, баюкавшая меня, как нежная мать. Много лет спустя я повторил свой душевный опыт этих дней одиночного заключения и описал жизнь, что вспомнилась мне тогда за решеткой, зафиксировал свои былое и думы. Вспоминалось так много, что когда моя память обратилась к юности, каждый год заполнял целый день. Сколько ожило уже, казалось, совершенно забытого! Великая воскрешающая сила!
Провспоминаещь ты года,
Провспоминаешь ты века
И средь растущей темноты
Припомнишь ты и то, и се.
Все, что было,
Что манило,
Что цвело,
Что прошло.
Все. Все.
Были ли мои думы о былом исповедью, покаянием? Хочу писать только правду. Совесть моя тогда дремала. Кое в чем я себя упрекал, кое-чего стыдился — но это только скользило по совести, мало тревожа ее. Кроме греха эгоцентризма я за собой больше грехов не знал. Все же я сознавал свою жизнь чистой. И мои воспоминания слагались день за днем в благодарный гимн Творцу, в особого рода молитву. А молитвой своей я считал любовь к Тане и детям, в особенности к покойной Таточке.
Очень ярко запомнился один вечер, когда я стоял перед голой, пустой стеной своей камеры, преисполненный счастьем, и я чувствовал, что лицо мое сияет. Я сознавал тогда, что ухожу из жизни победителем. И вдруг такая неуместная мысль — о Стромине. А что если он стоит у дверей, смотрит в глазок и видит меня, мое озаренное восторгом лицо?! Он конечно, подумает, что я сошел с ума...
Но вот память прервала свою работу и остановилась перед «Соловецким делом», и ей не захотелось двигаться дальше. Пусть опустится завеса. Довольно.
Не скоро улеглось мое возбуждение. Память по инерции самопроизвольно усиленно работала. Всплывали лица без имен, улыбки без глаз и глаза без улыбок. Имена без лиц... И я мучился,
вспоминая. И имя без лица мучило меня, пока не вспоминалось лицо, и лицо без имени — пока не вспоминалось имя. Вспомню лицо, и мучившее меня имя исчезнет, и наоборот: вспомню наряду с лицом имя, и оно стушуется. Пробудился талант вспоминать. Я вспоминал не только забытое, но и то, что никогда не помнил. Так, я восстанавливал строчки стихов, которые никогда не знал наизусть. Я изыскивал разные способы «убивать время». Стал вспоминать своих товарищей по классу. Я поступил в 5-й класс в начале сентября 1904 года. В январе 1905 тяжело заболел и вернулся в гимназию лишь осенью, а в 1906 осенью мама увезла меня в Ниццу. Следовательно, в гимназии я пробыл всего несколько месяцев. И вот я вспомнил 50 своих товарищей по классу, начертил парты и разместил их попарно, кто с кем сидел. Вспомнил всех, и жизнь поглотила всех, кроме одного — Яна Вильчинского. Я и судьбу знаю только одного — Воли Киричинского, который покончил с собой, когда был студентом Киевского университета.
Вот еще один способ «убивать время»: вспоминать полку за полкой своих книжных шкафов. Вспоминать книгу за книгой, которые я с такой любовью расставлял в своей библиотеке, всегда заботясь о том, чтобы они были довольны своими соседями. Вспоминал, когда и где я перечитывал эти книги, что думалось по их поводу. И мне в конце концов захотелось прекратить работу памяти. Я остановился у последней черты, за которую не хотел переступать.
Но унять взбудораженное море воспоминаний было нелегко. Я лишился сна. Всю ночь меня освещал в тишине яркий свет электрической лампы. Изредка слышалась поступь часового в мягких туфлях по мягкому ковру, легкий звук поднимаемого «века» над «глазком». Не пытается ли арестант покончить с собой? Помню ночь, когда мне в моем полубредовом состоянии почудилось, что часовой вошел в комнату. Я решил, что схожу с ума, и начал кричать. Часовой поднял «веко» и заглянул в «глазок»: «Тише, чего кричишь, перебудил мне всех!» Пустые ночи сливались с пустыми днями. В одну такую ночь в памяти воскресло непонятное слово «гоплиц». Имя? Название города? Кажется, в «Оливере Твисте» был мистер, который грозился съесть свою голову. Нет, то был Гримуиг. И «гоплиц» не давал мне покоя. Уже начинало чудиться, что оно превращается в серого зверька с длинным, штопором обрезанным хвостиком, зверек по спирали карабкается по колонке печки. Я еще не видел этого зверька, но понимал: дело кончится тем, что этого зверька — «гоплиц» — я буду уже видеть как свою галлюцинацию. И все же я наконец вспомнил. В верстке нашей книги «Современные города» я обнаружил опечатку: гоплиц вместо Голливуд. И тогда кошмар рассеялся.
Однако как проводить, убивать время? Я всю жизнь ненавидел это выражение: «убивать время». Я думал о том, как сделать день неумирающим: об этих днях, которые не умирают, Герцен писал
из ссылки своей Наташе. Что же я мог в одиночке сделать со своими днями! И я начал посвящать день какому-нибудь поэту или опере, вспоминать стихи, мотивы. Все работа памяти. Повторно я вспоминал то, что раньше не помнил. Но память — взбаламученное время — требовала пищи, а пустые дни — новых впечатлений, и я обратился к живым существам. Прежде всего к голубям, которые подлетали к окну моей тюрьмы. Особенно полюбился мне сизый голубок, он был меньше своих собратьев. Я его полюбил, и он, казалось мне, полюбил меня. По вечерам я видел, как он прятал голову и превращался, засыпая, в пушистый шарик, и его вид успокаивал меня за моей решеткой.
Все резче проявлялось ощущение душевной качки, словно я ходил по палубе корабля в бурю. Порою появлялась тошнота. И вот этот пушистый шарик успокаивал меня и даже вносил своеобразный уют. Но голубок мне изменил: он покинул меня.
Ложась на свою койку и ожидая мучительной бессонницы, я чувствовал: надо ухватиться за что-нибудь, чтобы избежать этой качки. И я, как пастырь, начинал пересчитывать мух, которых у меня жило 11. В пустынной голой комнате было легко их находить. И вот, когда я насчитывал 11, на меня находила минута успокоения. Все в порядке. Однако вскоре мухи начали засыпать вечным (или зимним) сном, и осталось всего две. Я их хорошо различал. Одна была спокойна, другая все время ползала то по стенам, то по потолку. Я и прозвал их: бегунью — Эсхин, домоседку — Теон. Очень полюбил их, как последних друзей.
Наконец я изобрел еще одно занятие.
От сырости на потолке и стенах появились пятна. Одно из них напоминало мне лик Спаса на покрывале Вероники. Я зарисовал его, но у меня при обыске этот рисунок отобрали.
Капельки сырости дали мне материал для игры в тотализатор. Я загадывал, которая из них раньше упадет, и когда отгадывал — радовался, как ребенок.
Во время голода клетки организма начинают пожирать друг друга. Так и в одиночке душа питается исключительно сама собой. И я понял, почему в одиночном заключении люди, замурованные в склеп, лишенные всего, что питает душу, сходят с ума. Я успешно питался собой дней пятьдесят, но к концу третьего месяца ощущение качки усилилось. Однажды в камеру вошел человек — не тюремщик и не следователь. Он осмотрел меня, особенно долго всматривался в мои глаза. Это был врач. Я ему не понравился. Не понравилась и моя камера. Он молча качал головой. В ответ на его вопрос о моем самочувствии я ему рассказал про серого зверька гоплиц, и он предложил написать заявление следователю и описать и ночной кошмар с появлением тюремщика в моей камере, и гоплиц. Но при этом просил не упоминать, что я пишу по его совету. Я написал такое заявление. Это было уже в конце 1930 года.
Было у меня еще одно занятие, запрещенное, за которое ча-
совые грозили мне карцером. «Намордник» моего окна внизу был несколько приподнят (видимо, покоробился), и я, влезая на стульчик, мог видеть заключенных в минуты прогулок. Я видел М. Д. Беляева, Г. С. Габаева, А. Н. Шебунина, А. А. Мейера, моего ученика Г. А. Штерна. Больше всего смущало меня появление А. А. Мейера, очевидно, привезенного, как и я, из Соловков. Ведь его осудили как главу организации «Воскресение». Почему же он имеет право на прогулки, а меня держат уже почти три месяца в одиночке. Неужели он написал «роман»? Быть не может! Итак, меня заживо похоронили. Неужели выход отсюда только в подвалы, где, по слухам, расстреливают. И я даже неба в этот час не увижу. Проходил день. Проходили ночи, но я не слышал возгласов «собирайся с вещами!» — зова Харона.
И вот, не помню, когда это было, ночью меня вызвали: «С вещами?» — «Нет». Неужели Стромин изменил свое решение отказаться от меня! Я шел в большом возбуждении. Меня ввели в следственный кабинет. Но не Стромин ждал меня. Кто-то незнакомый. Это был следователь, приехавший из Москвы. Он усадил меня и долго рассматривал молча. Наконец заговорил: «Что это за романтический шильонский узник? Отказывается давать показания, отвечать на вопросы следователя!» Я сухо сказал: «Не от показаний отказываюсь я, а от признания, будто бы я принадле-, жал к какой-то контрреволюционной организации». — «Значит, вы будете мне отвечать?»—«Да, буду».—«Вы отрицаете, что были членом организации Платонова — Тарле?» — «Да, отрицаю». — «А вот у меня тут кипа показаний ваших товарищей, которые все сознались в своей контрреволюционной вредительской деятельности в качестве членов этой организации. Хотите, я вам покажу несколько показаний? Например, ученого секретаря ЦБК Святского». Следователь мне показал признания Даниила Святского. После мне было предложено ознакомиться с показаниями переяславского краеведа М. И. Смирнова. «Хотите еще?»—«Нет, благодарю вас. С меня и этого довольно!» Это были люди, к которым я относился с уважением и симпатией.
«Ну что ж, будете отвечать на вопросы?»—«Да». Следователь достал бланк для составления протокола. Стромин только рвал показания, занесенные мною на чистых листах, а не на бланках.
— Все ли вы считаете правильным в деятельности ЦБК?
— В деятельности каждого учреждения бывают ошибки.
— Какие же вы допускаете ошибки ЦБК?
— Возможно, что мы слишком увлекались историей края и в этом отношении отвлекали краеведов от современности, от задач «производственного краеведения».
— И таким образом шли вразрез с требованиями социалистического строительства, а следовательно, ваше направление, как признали все ваши товарищи, было вредным.
— Я готов признать, что объективно такое направление мог-
ло оказывать вредные влияния. Но субъективно мы действовали по убеждению в правоте нашей работы, нашего направления.
— Хорошо, подпишите.
И мы расстались35.
На следующий день Стромин вызвал меня. Он был молчалив. Лицо — маска.
«Развейте подробнее ваши показания, которые вы вчера подписали». И дал чистые листы бумаги. Отправляя меня обратно в камеру, он сказал; «Вам письмо от сына». И стал перебирать пачки писем: «Тарле... Гревсу... Нет, письма вам от сына тут нет». От бессонницы у меня сильно болела голова. Я еще раз писал о направлении Ленинградского отделения ЦБК.
Я писал так: «Признаю себя виновным в том, что всюду, куда меня ни посылало ЦБК, я настаивал на необходимости изучать прошлое края, и в этом я расходился с пропагандой производственного краеведения» (я не написал: узко производственного). Далее я писал, что всюду выступал против уничтожения памятников старины, в частности церквей, даже не имевших большой художественной ценности, но имевших значение для силуэта города.
Стромин прочел мою рукопись и молчал. На этот раз он не рвал ее. Все порванные им рукописи дали московскому следователю представление обо мне как об арестанте, отказывающемся говорить со следователем. Составленный московским следователем протокол, видимо, очень обозлил Стромина. Через некоторое время он прервал молчание. Достал письмо моего Светика и положил рядом с моими показаниями. «Ну-с. Что же, на этот раз ваши ответы меня более или менее удовлетворили. Но согласитесь, ведь не такое уж преступление — защищать необходимость истории или охранять памятники старины. Мы с вами договоримся. Я гарантирую вам относительную свободу. В Ленинграде мы вас все же не оставим. Но вы сможете жить с семьей на свободе в том месте, где мы вам укажем. Вот вам письмо сына. Вам стоит только ваши показания закончить словами: «Все это я делал по указаниям Платонова и Тарле, как член их организации». Вот и все, что требует от вас следствие. Согласитесь — это не много». Я вновь решительно отказался. По лицу искусителя Пробежала судорога, и губы его вновь задрожали. И я должен признаться, что в эту минуту вдруг во мне шевельнулась жалость к этому человеку. Я непосредственно почувствовал, что и он человек, уставший, замученный нами, своими жертвами. На миг исчезло все, и я видел только это лицо, нервное и усталое. Бывают же в человеческой душе такие необъяснимые движения. Я чуть было не сказал ему в этот миг: «Ничем не могу вам помочь». Мы оба молчали. Тогда Стромин позвал тюремщика и отправил меня в камеру. Пытка продолжалась.
Были минуты отчаяния. «Или! Или! Ламасамахвани!»—вспомнил я этот возглас Христа на Кресте. Сколько легло на мои плечи.
35 Может создаться впечатление, что «компромисс» Н. П. со следствием, выразившийся в признании «объективной» вредности гуманитарного краеведения, был вызван показаниями Д. О. Святского и М. И. Смирнова, с которыми он был ознакомлен. На самом деле все обстояло, видимо, сложнее. Вот что пишет по этому поводу дочь костромского краеведа В. И. Смирнова (брата М. И., также проходившего по «делу АН»), откликаясь на публикацию отрывка воспоминаний Н. П. в журнале «Звезда» (1989, № 4): «Я родилась в 1935 году, после окончания срока ссылки отца. Но то, что он — бывший ссыльный, узнала рано и — естественно -- много раз спрашивала маму, почему папа, такой хороший, был арестован и сослан. И каждый раз мама говорила одно и то же: что субъективно папа ни в чем не виноват, но объективно краеведческая работа была (или считалась) вредной. Я эти слова — «субъективно» и «объективно» слышала только в этой фразе. Я их даже плохо тогда понимала. Но запомнила хорошо. Таким образом, я думаю, что не Н. П. Анциферов и не мои родители придумали эту формулировку, <...> после ареста они ведь не общались. Я думаю, что такая формулировка могла быть предложена ГПУ для всех краеведов. Анциферов <...> ее просто повторил (...) после того как его ознакомили с показаниями Святского и М. И. Смирнова, [в которых] подобная фраза [уже] была. Святский и М. И. Смирнов тоже не могли договориться о такой формулировке, так как после ареста — насколько мне известно, не встречались, были в разных тюрьмах». Размышляя дальше о том, как совместить свидетельства Н. П. с имеющимися у нее (и справедливыми!) представлениями о нравственной безупречности Святского и М. И. Смирнова, автор приводит пример своего отца, который, «поняв, что надо признавать вину — иного выхода нет, признал себя виновным (т. е. объективно виновным в краеведческой деятельности), настаивая при этом, что остальные участники костромского краеведения не виновны ни в чем, так как действовали только по его указаниям Под его руководством. Это видно из сохранившихся черновиков его «признания» (ныне в ОПИ ГИМ)». (Письмо Т. В. Смирновой в редакцию журнала «Звезда» от 5 июля 1989). Была ли позиция В. И. Смирнова типичной? Каков вообще был «механизм компромисса» обвиняемых по «делу АН» со следствием? Для поиска ответов на эти вопросы следовало бы обратиться к подлинным следственным материалам по данному делу, что нам пока не удалось.
Дело «Воскресения», лагерная жизнь, смерть Тани, Соловецкий мешок и вот теперь это следствие — одно за другим, без передышки. Помню, как я в изнеможении упал на колени и, как дитя, сказал слова: «Боже, подай мне маленькую милость, маленькое утешение». И тотчас раздался стук, и тюремщик протянул мне первую передачу (без еды, только белье). Я был потрясен, на душе была благодарность и какой-то особый страх. Бог посетил меня.
Год кончался. Полночь. Я выстукиваю (первый раз) своему соседу слова новогоднего привета, но стена, разделяющая нас, молчит.
Кто там, за стеной? Быть может, одноделец. Прошло еще два дня. И снова такой же приступ отчаяния, и снова те же жалкие детские слова о маленькой радости. И снова стук, и тюремщик протянул мне чудесное письмо от моей матери. Я был так потрясен этим мгновенным исполнением молитвы, что мне стало страшно. И я понял тогда такие знакомые слова «Страх Божий»! Если кто-нибудь когда-нибудь будет читать мою рукопись, он легко объяснит действие моей молитвы. Ведь это же все происходило в больном сознании, в начале психического заболевания. Но я отдавал себе отчет в каждом душевном движении: Страх Божий от ощущения присутствия Вечного, Всемогущего, Всеблагого...
Мне казалось, что я могу говорить с Ним, как Жан Кристоф в «Неопалимой купине». Но я был охвачен чувством безграничного смирения. В тюрьме еще два раза я дерзнул произнести эти слова, и каждый раз моя молитва была исполнена.
Я вспоминал слова, обращенные ко мне умирающей Таточкой: «Папочка, Бог с тобой!»
И сколько раз в моей жизни в тягчайшие минуты мне хотелось произнести эти слова, но меня удерживал страх: «Имею ли я право еще и требовать чуда».
Наступил мой любимый праздник — сочельник. Я хотел отметить его. Накопил сахарный песок и сделал из пшенной каши подобие пасхи. Воткнул в нее спички, чтобы их зажечь на откидном металлическом столике, постелил вышитое полотенце, полученное мною с вещевой передачей. Незадолго до этого дня меня постигла беда: мой Теон больше не спускался на столик и ничего не ел. Я поймал его, чтобы насильно покормить, и посадил перед каплей воды, в которой растворил сахар. Но Теон не ел и не пил. Когда я ловил его, то чуть повредил крылышко. Муха больше не взлетала, а только, жужжа, подпрыгивала. И вот в сочельник, в тот момент, когда я зажег свечи (т. е. спички), на стол спустился Эсхин и вслед за ним, сильно жужжа, Теон. О, мои милые гости, мои верные друзья. Как я был вам рад! Но праздничного блюда я поесть не мог. Только догорели спички, как явился тюремщик и сказал фразу, которую я с трепетом ждал столько дней, столько ночей: «Собирайся с вещами!» На этот раз, сам не знаю, почему, эти слова не прозвучали призывом к казни. Я очень бодро собрал свои
вещи, предоставил праздничное блюдо Теону с Эсхином, и покинул камеру, в которой просидел с 29 сентября по 24 декабря.
* * *
Меня вели вниз. Я понял: вероятно, в двойник 2-го корпуса.
Значит, теперь — книги, газеты, прогулки и, может быть, передачи. Я был изумлен видом камеры. На койке лежал заключенный. В этот час раннего вечера лежать не полагалось. На полу, на газетных листах, валялись кучи недоеденной пшенной каши и разные объедки. Особенно меня поразил унитаз — он казался изнутри обросшим рыжей шерстью. Я всмотрелся в лицо заключенного—оно показалось. мне знакомым. Я поклонился. Он ответил мне слабым движением головы и тихо сказал: «Я вас знаю. Мы встречались в Херсонесе на съезде археологов». Это был Бабенчиков. И мне вспомнился севастопольский энтузиаст-краевед, составитель замечательной карты, столь высоко оцененной археологами. На карте Гераклеи были нанесены пещеры и остатки таинственных башен. Таинственных — т. к. ученые гадали: что это — следы ли водоносной системы или остатки феодальных башен.
Я пробовал разговориться с Бабенчиковым (помнится, Павел Петрович), но говорил он с трудом и отвечал нехотя. На другой день он стал разговорчивее, и вскоре я узнал, что мы однодельцы, что его обвинили в шпионаже, что карта, составленная им, предназначалась для передачи германскому генеральному штабу! В Ленинграде арестовано большое число немцев, в том числе профессор новой истории Вульфиус, и немцы, бывшие в студенческие годы корпорантами. К вечеру следующего дня Бабенчиков начал меня беспокоить. Он лежал и бил себя в грудь, произнося одно слово: «При-го-вор!» Через несколько дней он сообщил мне, что согласился подписать протокол о признании шпионской деятельности.
От грязи в камере было много клопов. Я зажигал спички и давил их, вернее, подносил спичку, и клоп сгорал. Вдруг Бабенчиков простонал: «Николай Павлович, вот вы зажигаете свет. А вы знаете, какой это грозит опасностью!» И Бабенчиков показал на потолок, на окно, на двери. Всюду были враги.
А мне и самому не хотелось нарушать мрак камеры — так я измучился негасимой лампочкойв одиночке.
Я наконец понял, что Бабенчиков душевно заболел, что у него полная депрессия. Он был не в состоянии отвечать на открытки родным.
Так вот ответ Стромина на мое заявление, написанное по совету врача после моего рассказа о зверьке гоплиц! Следователь применил ко мне еще один из своих методов. В этой жуткой камере меня продержали две недели. И вот теперь, через 25 лет, я с содроганием вспоминаю стоны Бабенчикова: «При-го-вор!» При этом он бил себя в грудь, и поэтому звук получался вибрирующим.
Все же я получил привилегию. Я мог получить книгу «Мадам Бовари». Как же я впитывал каждую строчку! И как оценил месье Бовари, раньше затушеванного ярким образом своей жены. На следующее утро после перевода меня к Бабенчикову я впервые дышал чистым (!) воздухом и увидел небо (не узкую полоску над намордником!). Но оказалось, что меня вывели случайно: приходили за Бабенчиковым, а так как он не вышел, а вышел я, то тюремщик принял меня за него и вывел на прогулку. Ошибка выяснилась и я снова был лишен этой льготы.
К концу второй недели меня вызвали к следователю. Но это был уже не Александр Стромин, а, как я узнал впоследствии, Шондыш. Он очень внимательно меня осмотрел и спросил, не хочу ли я дать каких-нибудь показаний. (То есть в конце концов сознаться в принадлежности к организации.) Я, разумеется, отказался.
Вскоре меня вновь вызвали, с вещами. Куда? Я со всей силой желания задумал — остаться в ДПЗ, а потом попасть в знакомую мне камеру № 22, а еще лучше — в Таиров переулок, как заключенные прозвали коридорчик-тупичок в честь знаменитого описанного Достоевским Таирова переулка у Сенной. Я очень хотел попасть туда, т. е. по наблюдениям над прогуливающимися определил, что там сидит А. А. Мейер. Я не ошибся. Я попал не только в Таиров переулок, но и в камеру Мейера. Мало того, там же находился мой любимый ученик, сотрудник ЦБК Г. А. Штерн. Мне страстно хотелось кому-нибудь из близких рассказать о «соловецком деле», прежде чем кончится моя жизнь. Угроза Стромина сохраняла свою силу над моим сознанием. И не напрасно.
Как мы были рады нашей встрече! Я переживал выход из одиночки и из камеры Бабенчикова в Таиров переулок, словно освобождение. Контраст был так ярок!
Но и в Таировом переулке я пробыл недолго. Снова «собирайся с вещами», снова «черный ворон», и я в знаменитых «Крестах» — в тюрьме, корпуса которой построены крестообразно. Меня поместили в одиночной камере, в которой сидели старичок из Ботанического института и молодой инженер с искусственным глазом, коммунист. Я понял, что следствие надо мной закончено и я должен ждать приговора.
На прогулке я вновь встретился со своим «Гогусом» (Штерном). Он отрастил великолепную рыжую бороду (Барбаросса!), имел очень бодрый вид и радовался нашим встречам. На прогулках я видел историка С. И. Тхоржевского, автора книги о Степане Разине. Он мне сообщил, что в скором времени можно ожидать приговора. Он был спокоен за себя, настолько предъявленное ему обвинение было ничтожно. Его бодрый вид, уверенный тон внушили мне надежду, что не все уж столь грозно, как рисовал Стромин.
Очевидно, под влиянием сообщения о близком приговоре мне приснился сон, что Платонов и Тарле приговорены к высшей мере. Сон был столь ярок, что я проснулся с недобрым чувством.
Что-то произошло! Когда меня вели на прогулку, я повстречал того же Тхоржевского. Он имел очень расстроенный вид и, проходя, шепнул мне скороговоркой, как по радио говорят о футбола ном матче: «Получил десять лет с конфискацией имущества». «А остальные?» — «Смертники, вопрос за Москвой».
Продолжать разговор было невозможно. Его вели в баню. Меня еще пока на прогулку.
Если память мне не изменяет, в эти месяцы судили «трудовиков» во главе с Кондратьевым и Чаяновым и меньшевиков— Рубина и других36. Все признавались в своих преступлениях и каялись в своих грехах. Я прочел процитированные в «Правде или в «Известиях» строки из какой-то польской газеты о деле меньшевиков: «Подсудимые вели себя как хорошо выдрессированные животные»»
Хорошо ли сумели нас выдрессировать Стромин и прочие? Можно ли будет поставить громкий процесс — шахтинское дело о вредительстве на историческом фронте?!
Наступили дни томительного ожидания. Как-то под вечер меня вызвали. Сердце дрогнуло. Может быть, как тогда, в начале августа, для объявления приговора? Но если приговор, значит, не казнь. Следовательно, самое худшее 10 лет. Тогда это был самый большой срок. Меня ввели в какое-то помещение, где я встретил старика Путилова и экономиста Жданова, с которым я беседовал на прогулках (очень интересного человека, автора романа, написанного не для печати). У обоих был растерянный вид. То же выражение крайнего напряжения в глазах. Какой-то мучительный вопрос. Нас приготовили к съемке. Почему-то еще раз, ведь мы уже были сфотографированы и в фас, и в профиль. Но вопросов задавать не полагается. На нас повеяло жутью приближающегося беспощадного приговора. Никто из нас не произнес ни одного слова. Впоследствии я узнал, что Жданов получил высшую меру с заменой десятью годами, а старик Путилов расстрелян. Не помню, в тот ли вечер или через несколько дней.
Дни слились в какую-то муть. В час ночи, когда обычно вызывали «с вещами» приговоренных к высшей мере, вызвали «с вещами» меня. Старичок-ботаник бросился меня поздравлять и просил запомнить адрес родных, чтобы передать от него привет, но инженер-коммунист был очень мрачен. Он понимал, что не на волю же вызывают привезенного из Соловков и не окончившего срок. Меня увели и посадили в «черный ворон». Машина была пуста. Я остался один. Значит, это последние часы моей жизни. Что я переживал — выразить не умею. Какое-то напряжение во всем существе. Никакого охвата жизни, сгущенной в одном мгновении, я не пережил. В душе не было и молитвы. Я стоял над пропастью и жмурил глаза. Вот и все. Ехать пришлось недолго. Меня привезли опять в ДПЗ. Значит, не сегодня, а может быть, и сегодня, где-нибудь в подвале. Меня привели в двойник, где лежал С. В. Бахрушин, мой одноделец. Он подал мне знак: мы не знакомы. Мы лежа
36 Н. П. ошибается. Открытого суда над «Трудовой крестьянской партией», которую, по следственному сценарию, возглавляли Николай Дмитриевич Кондратьев (1892—1938) и Александр Васильевич Чаянов (1888—1939), не было. Его ошибка, видимо, связана с тем, что Н. Д. Кондратьев давал «покаянные» показания, выступая в качестве свидетеля на открытом процессе «Союзного бюро меньшевиков» (март 1931).
ли и молчали, пока сон не овладел нами. Наутро Сергей Владимирович сказал: «Я не хотел признать вас, чтобы нас не разлучили. Я запомню ваши глаза в этот час на всю жизнь. Я сразу понял, что вы пережили. Ну что ж, будем вместе ждать решения судьбы». — Мне кажется, гадать нам не приходится». — «Почему же? Может быть, нас свозят в одно место, чтобы уничтожить как главарей организации. А может быть и наоборот: наша участь будет легче, чем участь тех, кому уже вынесли приговор. Все решает Москва».
Через несколько дней выяснилось, что мое дело выделено. Меня вновь Допрашивал Стромин. Он мне сообщил много интересного. Он сказал, что меня не собирались арестовывать по делу «Воскресения», но-де я так вел себя на допросе, что он вынужден был меня задержать и изолировать заранее; что по существу дело «Воскресения» было подготовкой академического дела, так что в сущности у меня только одно дело. И вот теперь дело экскурсионных работников, по которому он будет меня допрашивать, — также не новое дело, а продолжение академического — все это разветвления этого огромного по своей значимости академического дела. Об аресте моих сотоварищей по экскурсионной работе в Детском Селе и в Петергофе я с грустью узнал еще в Таировом переулке от Гогуса. Тон Стромина был сух, он внимательно разглядывал меня и сразу понял, что я уже выдержал все испытания и окреп, т. е. на все готов. И еще раз: «Скажите, как здоровье вашей матушки?» Я вздрогнул. Он вызвал меня вновь в тот самый кабинет, где было последнее свидание с мамой. Я сухо ответил: «О здоровье моей матери я могу узнать от вас. Вам оно лучше известно. Ведь вы не пропускаете больше ее писем ко мне, но, верно, заглядывали в них». Стромин ничего не сказал, приступил к допросу. Он сообщил, что деятельность моя на экскурсионном фронте уже разоблачена показаниями свидетелей, так же как и деятельность в ЦБК; что его интересуют только некоторые детали. И предложил мне приготовить ответы о моем сопротивлении включению «дополнительной экспозиции» в мемориальные дворцы. Странно, подготовиться к ответам! Ведь лучше же подследственного захватить врасплох. Бумаги для записи показаний он мне не дал. «Я вызову вас завтра».
Но ни на следующий день, ни позднее он меня не вызвал.
Однако я понял, что мое дело — особое дело, и приговор будет не в ближайшие дни.
Вопрос о дополнительной экспозиции был поднят молодежью нашего детскосельского коллектива не без влияния Политпросвета. Имелось в виду создать в мемориальных залах особые щиты с фотографиями, цитатами и диаграммами. Я возражал против установки таких щитов в залах дворца, где самое ценное — исторически сложившийся ансамбль интерьеров. Я предлагал создать особые вводные и заключительные залы в помещениях, лишенных исторического или художественного интереса. По возвращении из концлагеря я узнал, что Киров или Луначарский, посе-
тив детскосельские дворцы, распорядились об удалении подобной «дополнительной экспозиции».
Итак, я жил в двойном ожидании нового вызова. Бахрушин/ рассказал мне много интересного о нашем деле. В основе его лежали разговоры на квартире у С. Ф. Платонова, в которых высказывались критические суждения касательно политики партии и правительства, особенно доставалось проф. Покровскому, которого очень не любили и называли «гнусом». Как-то в разговоре о жизни русской эмиграции заговорили о вел. кн. Кирилле Владимировиче, и С. Ф. Платонов дал о нем очень резкий отзыв (белоэмигранты-монархисты прочили его на русский престол!). В этом разговоре С. Ф. упомянул его брата Андрея как лицо, заслуживающее большего уважения. Это дало повод обвинению подготовить дело о монархическом заговоре в пользу «императора Андрея». Из рассказов Сергея Владимировича я сделал вывод, что большинство привлеченных по нашему делу, в том числе и сам С. Ф. Платонов, отказались писать «романы». Это давало повод думать, что создать «шахтинское дело» научной интеллигенции строминым не удастся. С сожалением я узнал, что сам Сергей Владимирович все же в своих показаниях пошел на некоторые уступки. Он считал, что старая интеллигенция обанкротилась. Он несколько раз цитировал «Три смерти» Ап. Майкова. (Прощанье Сенеки.) <..>37 Это исповедь «разоружившегося». Подобные настроения побудили и Сергея Владимировича в какой-то мере «разоружиться». Так, например, в своих показаниях, касавшихся меня, он писал, что на Всероссийском краеведческом съезде 1927 года я выступил с шовинистической речью. И Стромин потребовал от меня дать ответ на эти обвинения (когда я писал о своей деятельности в ЦБК). Дело было так. С. В. Бахрушин призывал краеведов собирать сведения и вещи о современном быте разных национальностей нашего Союза. «Если мы теперь не позаботимся об этом, то многое исчезнет безвозвратно». На его выступление живо откликнулись представители разных народов — черемис, мордвин, татарин... После них выступил проф. С. Н. Чернов и сказал: «Все это очень хорошо, очень нужно. Но следует среди разных национальностей нашего Союза не забывать еще одну национальность, русскую. Нужно предоставить и ей право также позаботиться о фиксировании исчезающих явлений быта, а также уходящих из употребления вещей. Почему слово «русский» почти изгнано теперь из употребления?» Выступление Чернова вызвало резкие протесты различных националов, обвинивших Чернова в «великодержавной вылазке». Я выступил с пояснениями. Я сказал, что речь идет не о каком-то преимуществе для русских, а о признании прав русской национальности на любовь к своей старине, как это признано за другими нациями. Я сказал, что нужно помнить слова замечательного русского мыслителя, могила которого там, за оградой, и я в окно указал на Новодевичий монастырь. Это завет Владимира Соловьева: «Люби чужую нацио-
37 Опущены: ст. 449—491 из лирической драмы А. Н. Майкова «Три смерти» (1851) — прощание Сенеки («Жизнь хороша, когда мы в мире...»).
нальность, как свою собственную». «Неужели мое выступление можно назвать шовинистическим?» — Сергей Владимирович сказал: «Это не шовинизм, а почти интернационализм. Но все равно так выступать вам тогда не следовало».
Мы много и подолгу беседовали, философствовали, вспоминали Сергей Владимирович много рассказал мне о своей деятельности в Городской думе, о том, как он был выдвинут на пост городского головы и как по требованию правительства его кандидатура была снята как слишком левая и городским головой был избран кадет Челноков. Бахрушин рассказал мне о своей поездке в Англию для ознакомления с системой народного образования, о путешествии в Константинополь и в Тунис (или в Алжир). Он был мастер рассказывать и отличный, сочувствующий слушатель. Наши беседы уносили нас далеко от ДПЗ, от мыслей о том, что нам грядущий день готовит. С большой нежностью говорил он о своей матери и особой нежностью — о Елизавете Ивановне Заозерской, сестре А. И. Заозерского, с которым я так сошелся в Таировом переулке летом 1929 года. Досуг у нас был большой. И наша встреча здесь помогла нам обоим. Впоследствии в Москве мы часто вспоминали эти дни. Так кончалась Страстная неделя.
Запомнил этот день — Страстная суббота. Сергей Владимирович приветливо сказал мне, своему соузнику: «Сегодня я получу передачу, мы с вами встретим Пасху, устроим в полночь разговление». Этот раз пост длился не 7 недель. Но Стромин лишил меня и этой радости. Меня вновь вызвали «с вещами». Господи! Куда же? И в ночь, как тогда, в конце сентября, вели все выше и выше. Привели в какую-то особую комнату, где тюремщик устроил обыск. Зачем это! Ведь я был уже обыскан. Ответа нет. И на этот раз поступили еще более жестоко. От меня отобрали последнее, чем я в этом своем положении мог дорожить, — письма и снимки: моей Тани в гробу и моего Светика со мной, в день свидания в Кеми. Я пришел в отчаяние. Я умолял не лишать меня всего дорогого, что еще осталось у меня. Ведь я же был в одиночке, и все это оставили при мне. Но тюремщик был неумолим. Казалось, порывают последнюю связь с жизнью. Я задыхался. Меня вывели и втолкнули в камеру-одиночку. Я подошел к крану и стал пить воду, чтобы погасить огонь, сжигавший меня, огонь отчаяния.
«Молодой человек, не пейте сырой воды», — вдруг раздался хриплый голос. Только теперь заметил, что в одиночке я не один. На койке лежал старик. Я не был в силах говорить и молча лег на койку. Донесся благовест. Заутреня. Христос воскрес!
А во мне не было сил ощутить здесь этот час. Не было сил, даже желания жить. Довольно! Скорей бы конец всему. Еще и уж последний раз услышу «собирайся с вещами!» Я заснул, погружаясь в беспросветный мрак.
И снился мне сон. Я в Киеве, в вишневом саду, в том, что на склонах за Житомирской улицей. Вишни в цвету. Нежным светом утреннего солнца озарены они. Я спускаюсь вниз по склону
горы, и вот из-за вишен выходит Таня, вся в белом. Такую я называл ее в Риме — «вишенка моя белая». И с улыбкой протягивает мне пакет, отнятый у меня при обыске. И я проснулся. Вот она, «маленькая радость, маленькое утешение», посланное мне без молитвы. Сон оставил в душе след. Жизнь еще не кончена, и радость будет.
Я поздравил старика с Великим Праздником. Он приветливо Мне улыбнулся, хмурый старик с седыми усами и взъерошенной копной таких же седых волос. Тюремиюк принес «кашу-кипяток». Мы подняли жестяные откидные скамеечки и сели за утренник. Старик предложил мне одно из двух яичек: «К празднику!» Раздался голос за дверью: «Анциферов! Как звать?» Я подошел, дверное оконце отворилось, и мне подали пакет — с отнятыми письмами и фотографиями. Так во сне подала мне его Таня...
Чем объяснить эту милость? Неужели мой бурный протест возымел действие?
Жизнь продолжается. Свет снова вспыхнул во мне, и осветилась моя жизнь, которая, казалось, совсем померкла.
Итак, в одиночке я не один. Видимо, тюрьма переполнена. Мой сосед оказался бывшим почтмейстером Петергофа. Его обвиняют в том, что он служил царской охранке. Почтмейстер царской резиденции должен-де был там работать по совместительству! Старик был упорен и не сдавался. «Стар я, голубчик, чтобы врать», — говорил он следователю. Я был свидетелем того, как старику не давали спать. Только он приляжет и уснет после обеда, как его вызывают на допрос. То же повторялось и в полночь. Держали его на допросе до зари. Применялся метод конвейера — смены утомленных следователей. Старик становился все мрачнее» но упорствовал. В конце концов на него махнули рукой. Он отоспался, и его потянуло беседовать со мной. С большой любовью рассказывал о своей работе^ а в особенности об организованной им добровольческой пожарной команде, о своем домике и нежно любимом садике. Вот скромный труженик, рядовой человек с маленьким «мещанским» мирком. К сожалению, художественная литература относится к таким «заурядным личностям» свысока, если их образ не требуется для проведения какой-либо идеи, как в «Станционном смотрителе» или в «Шинели».
Месяца через два моего Акакия Акакиевича от меня увели, и я не знаю ничего о его дальнейшей судьбе. Все могло быть: и освобождение, и смертная казнь. Я на этот раз встретил свое положение «Одиночного» довольно спокойно. А первое время даже с удовольствием, и позднее той «качки», что мучила меня раньше, не было. Я стал Тверже и спокойнее. Хотя дамоклов меч все еще над головой. Окреп ли я? Или стал равнодушней? К концу третьего месяца меня перевели обратно в Кресты. Следовательно, переброска в ДПЗ не означала, как допускал Бахрушин, сосредоточения в одном месте всех «смертников».
[В Крестах на прогулке я узнал что-то о судьбе заключен-
ных, которых в тот жуткий час фотографировали вместе со мною: Путилове и Жданове. Путилов расстрелян вместе с двумя осужденными (один из них пушкинист Зиссерман). Жданов получил тоже высшую меру, но с заменой десятью годами (так же, как и М. Д. Беляев).]38
Здесь же я вновь встретился со своим Гогусом. Его положение улучшилось — он попал в рабочую бригаду и работал полотером. Это давало ему право на часовую прогулку. Так что теперь больше шансов нам встречаться за круглым забором тюремного двора.
Нас водили по парам, как институток. Чтобы перекинуться словами, я останавливался, делал вид, что перевязываю развязавшийся шнурок на башмаке, и поджидал, когда подойдет ко мне тот, с кем я хотел побеседовать.
Теперь Гогус-полотер был в курсе всех тюремных новостей. Но приговора о главных обвиняемых: Платонове, Тарле, Бахрушине, Андрееве, Измайлове и др. он еще не знал.
Помню день, когда Гогус встретил меня с небывалой тоской в глазах словами: «Ляля опасно заболела». Это была его молодая жена, с которой он незадолго до ареста обвенчался. Он стал мрачен и молчалив.
В камере теперь со мною сидели толстый, флегматичный мулла из Казани и «раскулаченный» крестьянин. Этот последний рассказывал много интересного. Его мать — глубокая старуха, помнила еще крепостное право. У нее было много детей, и она правила ими властно, всеми почитаемая. Из его рассказа я сделал заключение, что это был матриархат. Семья жила дружно, усердно работала и богатела* Получился своеобразный семейный колхоз, и старуха была его директором. Решено было устроить мельницу, и мельница их погубила. Они были «раскулачены»... Крестьянин мне говорил, что его беспокоит одно — в концлагере или в ссылке — дадут ли ему работу на земле. Он готов работать на кого угодно, кем угодно, лишь бы его не оторвали от земли. Вот она, власть земли! И внешним обликом этот крепкий худощавый, бородатый, русый мужик напоминал вековой тип русского крестьянина. И как же он не походил на Тип кулака драм, романов, повестей социалистического реализма!
Шли дни, и меня вызвали. Неужели опять Стромин? Что ему от меня еще нужно? Зачем он опять около полугода держал в одиночке, переводил из двойника, перебрасывал в Кресты? И до сих пор не вызывал. Меня подвели к какой-то камере, у порога которой меня встретил красивый седой кавказец — это был, как я узнал позже, староста рабочей камеры, — и сообщил мне, что он получил разрешение устроить мне свидание с моим Гогусом! у него умерла жена. «Побудьте с Ним немного. Я знаю—он вас очень любит, и только вы сможете ему помочь». Я был очень тронут этой заботой о человеке в тюрьме. Здесь проявление малейшей человечности и волнует, и трогает. Помню картину «Всюду
38 В автографе Н. П. Анциферова этот абзац зачеркнут (ОР ГПБ. Ф. 27. Ед. хр. (18]. Л. 22об.). Мы восстановили его, чтобы сохранить уникальные сведения о судьбах.
жизнь». Могу сказать: «Всюду люди» — добрые люди, даже в тюрьме.
Гогус бросился ко мне на шею и крепко прижался, словно искал опоры. Он молчал. На лице его была особая улыбка, словно застывшая, как иногда бывает у покойника. Мы молчали. А чтобы оправдать наше свидание полезным делом, мы мыли и вытирали посуду. В молчании. Иногда посматривали друг на друга.
Староста рабочих на этом не остановился: он выхлопотал и мне разрешение работать полотером, а вскоре я получил повышение: сперва мне поручили кипятить воду, а потом сделали разносчиком каши и кипятка. Это уже высокая для заключенного должность. Вместе с тем меня перевели в незакрывающуюся камеру тюремных рабочих, и я получил право расхаживать по тюрьме. Теперь в паре с другим заключенным я носил пищу и питье и уже сам выкрикивал: «каша-кипяток». Оба эти слова сливались в одно: «кашакипяток». Мы жили в рабочей камере дружно, много беседовали, спорили, мечтали, гадали о нашей судьбе, о предстоящих приговорах. Мы шутя говорили, что в нашей рабочей камере помещается заключенный армянин Голомофифофэштанц. Го — это Гольдман, юный немец, бывший бурш, очень застенчивый, предмет постоянных шуток сотоварищей. Ло — это Лорек, бывший фабрикант, тоже немец — почтенный маленький старичок, сухонький, очень молчаливый. Мо — это Мордухович, высокий, худой, помнится, врач, с характерной для его нации иронией. Фи — Фирганг-Лоуэ, красивый, изящный, жизнерадостный немец, относившийся ко всем с вежливой презрительностью, влюбленный в свою молодую изящную жену-венку. Она бродила под окнами Крестов по набережной с красивой породистой собакой. Мы могли ее видеть из окна: здесь не было «намордников». Фо—Фогель, тоже немец, его я помню плохо. Фэ — также немец, сын сенатора. Шт — мой Гогус — Штерн. Анц — это я, Анциферов. Все мы теперь получали передачи и охотно угощали друг друга. Приносили нам и виноград, и староста Гулисов (?), живший в соседней камере, устраивал нам вино (виноградный сок), и мы пили за наше освобождение, а на худой конец за «короткие сроки заключения».
Разрешались и свидания. Мы теснились у окон, а тюремщики теперь смотрели сквозь пальцы на наше вольное поведение. Всегда первой приходила фрау фон Фирганг-Лоуэ со своим великолепным псом. Тюремщики подходили к нашей камере, вызывали на свидания. А меня все не вызывали. И день свиданий превращался для меня в новую пытку тщетного ожидания. И вот наконец меня позвали. Я опять издали услышал этот нестройный хор голосов, стремящихся перекричать друг друга. Для «рабочих» решетка спускалась. И я увидел своих детей и тетю Аню. Дети выросли, но мне почему-то показались очень маленькими. Почему? Ведь они выросли? Светик и Танюша что-то кричали мне, но я из-за шума не мог разобрать их слов. Аничка еще больше похудела, резче обозначились ее скулы, и глаза словно сузились. Теперь она еще
меньше походила на свою старшую сестру, мою Таню, но все же кое-что осталось, и это сходство волновало меня какой-то радостной горечью. Светика я не видел после свидания в Кеми весной 1930 года, Танюшу—после свидания в кабинете директора ДПЗ. Здесь я встретился со своим старым другом Г. Э. Петри. Так как мы, рабочие, могли выходить на прогулки по своему желанию в любые дневные часы, я условился с Петри о встрече. К нему на свидание приходила его жена Мария Александровна и дети — друзья моих детей Летик и Наташа. Свидание, страстно ожидаемое мною, не принесло мне облегчения. На душе тоска. Жизнь-то моя теперь в развалинах. Я глотнул пересохшими устами глоток воды, но он не утолил моей жажды.
Приговор я ждал терпеливо. Возвращаться в концлагерь не хотелось. Здесь, в Крестах, жить можно. Есть и книги, есть и люди, с которыми можно общаться. Будут приводить еще детей. Еще и еще глоток воды.
Разнося «кашу-кипяток», я повидал Б. Е. Дегена, также привлеченного по делу экскурсионных работников. Он с радостным видом показал мне свою только что вышедшую книжку с описанием его путешествия по Сванетии. Встретил я Бориса Чирскова, ставшего впоследствии видным писателем. Его пьеса «Победа» ставилась во МХАТе. Чирсков был также привлечен по делу экскурсионных работников. Это был самый талантливый человек в нашем семинаре в Детском Селе. С Г. Э. Петри мне удалось поговорить на прогулке. Он очень тяжело переносил тюрьму и следствие. Он признался, что в одиночке пытался повеситься.
Приговор ждать уже оставалось недолго. Мне увеличили срок до 5 лет с зачетом предварительного заключения. Бахрушин был прав. Верхушка «заговорщиков» получила наиболее легкие наказания. Платонов, Тарле, Лихачев и другие академики получили вольную высылку в большие города. В общем, чем серьезнее было обвинение, тем легче наказание. Так, ученый секретарь ЦБК Святский получил 3 года концлагеря, а я — его подчиненный — уже 5 лет. А совсем рядовые обвиняемые, как, например, Тхоржевский,— по 10 лет с конфискацией всего имущества. Что же дальше?
Характер приговора — наказание, обратно пропорциональное обвинению, — доказал, насколько мало было веры у властей предержащих¹ в обоснованность обвинительного акта. А дело было задумано с большим охватом. Из всего, что мне удалось узнать, я создал такую картину. Во главе заговора стояли академики и близкие им люди. Захват власти должен был произойти через вооруженное восстание, подготовленное группой военных во главе с Н. В. Измайловым. Немецкая группа связывала с германским генеральным штабом, который субсидировал организацию, и занималась шпионажем в его интересах. Римский Папа, заинтересо-
¹ У Анциферова—«прилежащих». (Прим. публ.)
ванный в свержении советской власти, также субсидировал организацию (так говорил мне лично А. Стромин). Она имела массу ячеек в виде краеведческих организаций руководимых ЦБК. Наши экскурсионисты вели монархическую пропаганду, подготовляли восстановление царизма. Престол должен был получить вел. кн. Андрей Владимирович. Какой бред! Бессмысленный бред!
Из газет я узнал, что президент Академии наук СССР А. П. Карпинский нарушил «рабье молчание» и протестовал против нашего «дела». В газете (не то в «Правде», не то в «Известиях») появилась резкая статья против президента с обвинением его в «контрреволюционной вылазке»39. Не вспомню, каким образом к нам в камеру попала брошюра о вредительстве на историческом фронте, в которой были помещены статьи известных историков, обвинявших арестованных коллег во вредительстве. Не хочу называть их достойные имена, боясь ошибиться. Знаю только, что многие из них, если не большинство» были через несколько лет сурово репрессированы, но, конечно, не из-за того, что решили подкрепить действия следствия40. А организаторы нашего дела? Встретясь в Москве с Е. В. Тарле, я узнал от него, что он хотел возбудить дело против наших следователей и обратился в соответствующие органы. Его спросили, против кого лично он хочет возбудить обвинение. Он назвал Стромина. «Расстрелян». Назвал еще Медведя. Называть Ягоду не имело уже смысла, т. к. из газет была известна его жестокая судьба.
И вот, узнав о расстреле Стромина, я пришел в такое волнение, что у меня сжало горло. О, конечно, не от чувства удовлетворенной справедливости. Нет, мне сделалось как-то не по себе. Жалость? Не знаю. Вспомнилось все: и свидания с мамой, и свидание с дочерью, и его «сострадание» ко мне, («Нет, не могу! спасите же себя!»), и ночной допрос искусителя. Все, все. Что должен был пережить этот человек перед своим концом!
И еще одно. Я пережил чувство гордости за своих коллег. Мы, представители «гнилой интеллигенции», в большинстве устояли. Не писали «романов». А собранные следствием романы были настолько жалки, что не дали материала для постановки «шахтинского» дела научной интеллигенции.
39 2 февраля 1931 на общем собрании АН А. П. Карпинский выступил против исключения из нее арестованных академиков. Возмущенный статьей в «Ленинградской правде» (4 февраля) «Контрреволюционная вылазка академика Карпинского», подал в отставку, но с помощью А. В. Луначарского его уговорили остаться на своем посту.
40 «Классовый враг на историческом фронте». Л., 1931. Основные авторы Г. С. Зайдель и М. М. Цвибак были репрессированы и погибли в 1937—38.
Глава V. Медвежья гора
[Глава V.]
МЕДВЕЖЬЯ ГОРА
Перевертывается еще лист моей жизни, кончаю печальные главы. Поезд мчит навстречу новым испытаниям. Все дальше и дальше на север от родного города. Но настроение бодрое. Хуже уж не будет. В окне замелькали огни, и я их принял за огни Беломорстроя. Это был вечер. Еще одна ночь в поезде. И вот лагерь № 1 Медвежьей горы. Баня. Опрос — и я в палатке на соломе. Утро сырое, туманное. В палатку вошел мой старый то
варищ Н. А. Александров. Он встал надо мной. Худой, длинный, с тонким носом, слегка искривленным. Посмотрел на меня, лежавшего на соломе на «земле сырой», горько улыбнулся, и в глазах его вспыхнул огонек: «Ну что ж, Николай Павлович, так вот от палаццо до палатки, от барокко до барака». Он имел в виду мою работу в Екатерининском дворце, о которой допрашивал меня Стромин в наше последнее свидание.
Очень тяжелое впечатление произвели на меня женщины после санобработки — одетые в ватники, низенькие, с широкими бедрами, толстыми задами; у них был вид униженных и оскорбленных.
Меня не погнали на общие работы. Я получил назначение работать при библиотеке, заведовать газетной экспедицией. Мой начальник, серенький, невысокого роста, коренастый коммунист сумрачного вида, оказался очень снисходительным и терпеливым по отношению к моей бестолковости и рассеянности. Он познакомил меня с другим работником экспедиции, Алексеем Сергеевичем Петровским. Это был человек небольшого роста с длинным тонким носом, приподнятым (он очень не любил свой нос), с небольшими карими, очень зоркими и умными глазами» Заикаясь на букве «к», он моргал глазами и слегка высовывал кончик языка. Наши жизни на Медвежьей Горе тесно сплелись. Я узнал от него, что он друг Андрея Белого, много раз упомянутый в его произведениях (в «Первом свидании», в мемуарах «На грани двух веков»)41, в письмах. Как и Андрей Белый, А. С. был антропософ. Он перевел «Аврору» Якова Беме42, он — один из строителей храма в Швейцарии, впоследствии сгоревшего. Страстный поклонник Рудольфа Штейнера.
Мне предстояло ходить с ним на почту за кипами газет. Какие это были дивные ощущения, когда мы оказались вне проволоки и без охраны, и уж конечно воспользовались возможностью удлинить наш путь до почты и пройти к берегу Онежского озера, бескрайнего, как море. Шпалерная (ДПЗ), Кресты... Все позади. Эта мысль уже слагалась в какую-то особую мелодию, печально-прозрачную. Позади!
Работа состояла в том, чтобы прежде всего выделить газеты для управления (Медвежьей горы), а потом по всем «командировкам», как называли у нас различные узлы строительства: Повенец, Водораздел, Надвоицы, Поле, Сорока, — и разослать по местам, упаковав в особые пакеты (что я делал плохо, при чем и оценил терпение своего начальника). В первые же дни новой жизни я попал на собрание лагерников в клуб. Там с программной речью выступал начальник лагерей Коган — крепкий, коренастый человек, производивший впечатление добродушного. Он призывал нас к напряженной работе для искупления своих вин перед советским государством. Сообщил, что своим трудом мы сократим сроки, приобретем право частной переписки, улучшим бытовые условия, питание и завоюем себе право включиться в трудовую семью
41 Точное название мемуаров А. Белого — «На рубеже двух столетий».
42 Русский перевод произведения Я. Беме «Aurora, или Утренняя заря в восхождении...» вышел в Москве в 1914.
вольных советских граждан, на равных правах со всеми вольными. Основная мысль его речи: вашего прошлого уже не существует. Нас интересует теперь ваше будущее, и оно в ваших руках. Данные обещания были выполнены. Действительно, теперь лагерь совсем не походил на СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения). Там издавался беспартийный журнал «Соловецкие острова» с большой чайкой на обложке. Заключенные писали романтические повести из средних веков, элегии, в которых слышалась тоска души по воле, по семье. Теперь выходила газета «Перековка». Это нас, каэров, перековывали в советских граждан. Это уже была типичная, выдержанная советская газета, идеологически перевоспитывавшая заключенных, посвященная в значительной степени строительству канала. По материалам такой газеты можно было бы написать роман типа «Далеко от Москвы» Ажаева. В конце своего пребывания на Медвежьей горе я поместил в «Перековке» статью об истории проектов соединения Белого моря с Балтийским. Редакция мою статью озаглавила «Год, победивший века».
Наступила зима. В палатке стало холодно. И огонь печурки (времянки) все чаще не мог преодолевать холод. Спали мы на нарах. С нами спал и староста 1-го лагеря, добродушный парень, коммунист. По утрам подушка примерзала к брезенту, и приходилось ее отрывать. Под шубой все же можно было согреться. Жить было можно без ропота. Но вот внезапно приказ. Газетная экспедиция реорганизуется. Все пакеты направляются непосредственно по назначению либо в управление строительства, либо по командировкам. Нам приходилось проститься с Медвежьей горой и отправляться на трассу канала. Я должен был отчитаться, сдавая газетную экспедицию. И — о ужас! — тетрадь ежедневной получки и отправки газет исчезла. Вот тут и сказалась снисходительность моего начальника. Он мне не сказал ни слова упрека, а только очень помрачнел. Я поплелся в свою палатку в очень дурном настроении, стараясь все время сообразить, где может лежать тетрадь. С этими мыслями я долго не мог уснуть. Но все же в конце концов уснул. И снится мне сон. Вхожу я в помещение экспедиции и вижу тюк газет, хорошо упакованный. Я его раскрываю и среди газет нахожу пропавшую тетрадь с записями. Проснувшись, я рассказал свой сон старосте лагеря. Он возмутился. «Вот те на! Интеллигент, образованный, а верит снам. Срамота!» Но я, окрыленный надеждой, бегу в экспедицию. Мой начальник спал на столе (это была его привилегия: спать в помещении). Я разбудил его. Он недовольно ворчал: «Что еще?» Я спросил: где тюки, и рассказал свой сон. Тот пожал плечами, но тюк развязал. И в первом же тюке оказалась тетрадь. «Чудак!» Как объяснить такой сон? Тюк упаковывал, как всегда, мой начальник — тюки после моей упаковки рассыпались. Удивлению старосты лагеря не было пределов. Что же делать. Работа сдана. Отчет теперь принят.
Петровский предложил мне закрепиться за геолбазой. Там
служили вольнонаемные. Алексей Сергеевич закончил естественный факультет; был химик. А я что? «Все же попытайтесь». И вот мы оба отправились на геолбазу, близ управления, следовательно, вне лагеря. Петровского приняли немедленно. Со мной был предварительный разговор с начальником, очень симпатичным (фамилию забыл) и его помощником Александром Митрофановичем Гуреевым. Я сказал, что в Педагогическом институте читал курс первобытной культуры и, следовательно, ознакомился с геологическими периодами и имею некоторое представление об истории земной коры, рассказал и о том, что в отрочестве собирал коллекцию минералов и имею представление о твердости полевого шпата или кварца, или плавикового шпата, и т. д.
Мне дали отпуск на две недели, я получил учебник геологии (забыл автора) и петрографии — Ф. Ю. Левинсона-Лессинга и вместе с Петровским я должен был ежедневно заниматься определением песков, супесей, суглинков, глин. Мои пальцы должны были развить чуткость, как уши — слух при занятиях музыкой. Это было хорошее время, я чувствовал себя юным, свободным, готовящимся к новой жизни. Через две недели я сдал коллоквиум и был приказом зачислен на базу в качестве младшего коллектора. Нашему примеру последовало еще двое заключенных из нашей палатки — Г. И. Горецкий и В. П. Глинкин. Гавриил Иванович белорус, патриот своей страны, но не шовинист. Коммунист. Похож лицом на Марата. Очень суров в своих суждениях. «Мы дружим с Р. Ролланом, пока мы в глубоком тылу. Но на переломе мы будем врагами». Он убеждал меня, что все осужденные ГПУ — несомненно враги, и в лагерях должны искупить свои вины. Это был пламенно верующий в свою политическую истину, не допускавший сомнений и колебаний человек. «Но почему же вы-то в лагере?» На это Гавриил Иванович отвечал: «Значит, была и у меня вина». Это был чистый человек, работник-энтузиаст, а не практик, добрый и отзывчивый человек, нежный отец и прекрасный товарищ. В работу он уходил целиком и быстро стал прекрасным геологом. В 1937 году он был вновь арестован. Все, что он пережил тогда, многому его научило. Он хмурил лоб, говоря: «Меня били!» И, словно стыдясь, опускал голову. Такие легко не меняются. А что он переживал после XX съезда!
Владимир Павлович Глинкин с выразительным, но очень некрасивым лицом, любознательный начитанный, на геолбазе нашел путь в жизнь. Как и Горецкий, он оказался очень способным и очень усердным, оба они оставили нас, меня и Петровского, далеко позади.
Однако усиленные занятия отозвались на моем сердце, и врач уложил меня. Мои товарищи уехали на трассу, а я остался в палатке.
Здесь я сошелся с Александром Горским (псевдоним Горностаев). Я прозвал его своим Каратаевым. Это был человек совершенно исключительный, «всеблаженный». Он внутренней работой
достиг счастья, ни от чего не зависящего, и в любом положении, при любых обстоятельствах не только сохранял бодрость и ясность духа, но какую-то неугасимую восторженность. Ему было тогда около 50 лет. Голова уже седела (слегка). Волосы чуточку курчавились. Высокий, с всегда откинутой головой, с обычной улыбкой, обнажавшей зубы, с карими юношескими ясными глазами... Он был ревностный последователь учения Федорова, его теории «общего дела». Смерть не закон жизни. Она должна быть преодолена. Человек должен быть девственным. Девственность— условие бессмертия плоти. Но не только задача в том, чтобы достигнуть личного бессмертия. Смерть должна быть окончательно преодолена, и долг живущих — воскресить умерших. Это и есть общее дело. И Горский сохранил девственность, мало того, он сохранил, как Паулин Ноланский (поэт поздней античности), девственность в своем браке с Терезой.
Горский в художественной литературе всюду искал следы учения Федорова. Находил он и в «Спящей царевне». Царевич ударился о гроб хрустальный и вернул к жизни спящую царевну. Кульминацию «Медного всадника» он считал в тот момент, когда Евгений, увидев снесенную хижину Параши и поняв, что она мертва, ударил себя по лбу и захохотал. Он понял, по фантазии Горского, что теперь задача его жизни — воскресить Парашу. Сам Горский написал очень интересное стихотворение на тему «Ночь перед Рождеством» Гоголя. Поклонники Солохи, выходящие из мешков, развязанных кузнецом Вакулой, — это восстание из гробов мертвецов. Эту нелепую, несуразную идею он облек в замечательную форму таинственности, мистерии.
Я Горскому рассказал, что эти идеи глубоко волновали Герцена, что в юности он задумал рассказ. Студент-медик так полюбил усопшую девушку, что поставил целью своей жизни воскресить ее. Герцен писал уже из Франции Грановскому, что всегда ненавидел смерть и что он прочел у биолога Гепле «умирать и не нужно». Этой теме он посвятил рассказ «Поврежденный». Горский в свою очередь рассказал мне, что не только Вл. Соловьев в статьях «Смысл любви» подошел к этой теме, что Достоевский в «Братьях Карамазовых» тоже подвел к ней, что Федоровым и его идеями очень интересовался Лев Толстой. Мало того, и М. Горький, и Маяковский. Сидя на моих нарах, Горский уговаривал произвести работу духа, так как моя болезнь сердца — результат упадка духа. Если человек умирал — в глазах Горского он совершал недостойный поступок. И сам он твердо верил, что не умрет. Верил без малейшего сомнения.
Пользуясь относительной свободой, мы, работая на территории управления, вечером поднимались на Дивью гору, откуда открывались чудесные виды, и в полном уединении беседовали на эти темы. Он как проповедник, а я лишь как прозелит. И все же тогда что-то во мне сопротивлялось самой идее плотского бессмертия. И гимны смерти Баратынского мне были близки.
Что мог делать в лагере такой Горский? Он заведовал киоском в доме Управления. Работал рассеянно и был отправлен в наказание на трассу в Надвоицу. Впервые я увидел на его лице тень грусти. Вскоре он приехал по делам на Медвежью гору и снова уже сиял. С увлечением рассказывал, что он видит и слышит в струях и бурлении Надвоицкого водопада.
Он, десятилетник, был досрочно освобожден: позднее в Москве разыскал меня в музее и зашел повидаться. Он направился в Калугу. Я предложил ему денег «на первое время». «Что вы! У меня достаточно!» — и он назвал смехотворно малую сумму. Года через два ко мне в музей зашла очень симпатичная девушка и привезла из Калуги привет от Горского. Она говорила, какое для нее счастье знакомство с ним. В годы войны я встретил ее на Арбатской площади сильно изменившуюся, угасшую. Она сообщила мне, что при приближении немцев Горский был арестован и умер в тюрьме. Все-таки умер! И странно. Его смерть я принял спокойно. Почему он, словно недолгим призраком, прошел через мою жизнь? Как встретил он свою смерть? Был ли в сознании происходящего? Как Пьер узнал о смерти Каратаева, как о спокойной закономерности. Каратаева он мне напоминал еще и тем, что всегда был занят, что-нибудь мастерил, что-нибудь устраивал, шил, перелистывал, и все думал, думал. Но каратаевской слитности с жизнью мира у него не было. Слишком он был интеллигент и искатель, но не «беспокойный», а успокоенный, нашедший свою правду.
Революцию он принял по-своему. Он ценил в ней размах строительства, силу ее темпов. Он радовался работе на канале, хотя сам, работая на своем крохотном участке, был беззаботен. Сравнивая его со мной, говорили: «На спину Анциферова сядешь, и он кряхтя повезет. На спину Горского сядешь, он не сбросит, не будет брыкаться, но не повезет. Посидишь, посидишь на нем, да и слезешь». Зачем его погубили, этого совершенно безобидного мечтателя? У него за спиной Соловки. Следовательно, он подозрителен. Неужели это повод заподозрить... в сочувствии к немцам, стремящимся поработить русский народ? Горский был мес-сионист русского народа, он считал русский народ призванным явить миру новое благо. Горский как-то говорил мне: «Достоевский называл русский народ «богоносцем». Что значит «богоносец»? Не то, что он несет Бога, как хоругвь в крестном ходе. Нет, богоносец — он несет Бога в себе. Он чреват Богом».
Когда я смог приступить к работе и отправиться на трассу коллектором, меня вызвал сам легендарный Френкель (он был, кажется, тогда начальником строительства), о нем говорили, что этот человек, попавший на Соловки за какие-то крупные спекуляции, предложил коренным образом изменить систему работы концлагерей с целью максимальной выгоды для государства использовать рабсилу заключенных. Началась эта реорганизация, как мне помнится, с лесозаготовок (позднее добыча апатитов)
и прокладки новых дорог. В эту новую систему вошло грандиозное строительство Беломоро-Балтийского водного пути (ББВП). О Френкеле говорили как о гениальном организаторе, человеке неслыханной работоспособности. (Еще в Кеми я видел в поздние часы своего дежурства в Дорстройотделе неугасимый огонек в его окне.)
Мне было поручено Френкелем срочно организовать курсы коллекторов. На их подготовку давалось всего два месяца вместо обычных шести. «Здесь нужно работать совсем другими темпами, сверхтемпами». Для того чтобы в столь короткий срок подготовить выпуск новых коллекторов, мне нужно предоставить возможность комплектовать таких курсантов, которые привыкли к умственной, даже научной работе, для этого я просил разрешения отобрать 20 человек с высшим образованием. Это мне было обещано. Я получил бумагу с подписью Френкеля о предоставлении мне права в УРО¹ комплектовать курсантов. Нужно было в Повенце и Водоразделе ознакомиться с картотеками и составить списки лиц, которых я найду подходящими для курсов. Как мне было чудно с этой бумагой, подписанной самим Френкелем, ехать без охраны в древний Повенец и даже в Водораздел. Знакомиться с составом заключенных — это после заключения в тюрьме, когда я сидел в склепе полгода.
В УРО встретили меня недоверчиво, почти враждебно. Но моя бумага открыла мне доступ к картотекам. Я составил список, и начальник УРО, прочитав его, расхохотался: «И вы думаете, что мы вам отпустим этих людей? Дудки!» Одни из них незаменимые работники, другие наказаны на общих работах. Среди наказанных был В. Эберман, ученик арабиста академика И. Ю. Крачковского. (У него под подушкой нашли на нарах Евангелие). Преподавательница немецкого языка (кажется, Либих-Липольд) вместе с историком, фамилию которого я забыл, были отправлены на общие работы, т. к. их видели вдвоем на прогулке. А. Б. Мейендорф. Подобный разговор был у меня с нач. УРО и на Водоразделе (2-е отделение ББВП). Я не стал с ним спорить. Сказал: «Я исполнил поручение, как считал целесообразным. Я сделал свое дело. Вы делайте свое». И на Медвежьей горе дал свои объяснения Френкелю. Он коротко сказал, что мой список будет им подписан, и чтобы я позаботился о подборе преподавателей и о бытовых условиях, необходимых для успешных занятий. Мне был отведен барак. И будущие коллекторы начали съезжаться. Все они были радостно настроены и, я бы сказал, с аппетитом принялись за дело.
Программу занятий разработали руководители геолбазы Т... и А. М. Гуреев. Распределили, кто будет вести занятия. Выработали и расписание занятий. Большую помощь оказали двое вольнонаемных С. Л. Брюн и А. Штейнберг. Оба очень симпатичные
¹ Учетно-распределительный отдел.
и талантливые юноши, в особенности заинтересовал меня Брюн. Высокий, стройный, с большими синими глазами, правильными чертами лица. С очень серьезным его выражением. Он был необычайно предан делу и обладал познаниями профессора. Широко образованный, Брюн совмещал разнообразие интересов с углубленной работой по специальности. На геолбазе он проводил целые дни до глубокой ночи. Между тем как его поджидала молодая жена с дочерью Ясенькой в избушке на окраине поселка Дзержинского, по соседству с 3-м лагерем, где была собрана лагерная шпана. Я сердился на Брюна, гнал его домой, но бесполезно. Оторвать его от работы было невозможно. Интерес его к работе был абсолютно бескорыстен: он не получал никаких льгот, презирал все удобства. Мы, руководители курсов, прозвали его вундеркиндом и предсказывали ему блестящую будущность академика. С курсантами он был строг и требователен.
В нашу программу входили занятия по химии, по минералогии, петрографии, по бетону, по топографии. Мне грустно, что все знания, которые и приобрел тогда, совершенно улетучились. А ведь мне постоянно приходилось заменять преподавателей, которых текущие дела по строительству канала постоянно отвлекали от курсов. А «пустые уроки» были гибельны как для прохождения программы, так и для лагерной дисциплины. «Простой рабсилы!» Это — жупел нашей трудовой жизни. И мне приходилось замещать отсутствующих преподавателей, в особенности часто по петрографии.
По совместительству я был хранителем горных пород, которые доставляли на Медвежью гору в ящиках, похожих на гробы. Места для хранения в подвалах было мало, поэтому держать мою «петротеку» в порядке было очень трудно. А геологи то и дело требовали от меня образцы для камеральной обработки. И я очень нервничал, когда не удавалось достать образец из скважины такой-то с такой-то глубины. Больше всего я любил занятия по петрографии. И мы стали собирать коллекцию гранитов, диабазов, доломитов, гранатовых биотитовых сланцев и т. д. Наша коллекция легла через некоторое время в основу музея ББВП.
На Медвежьей горе появился новый заключенный, Петр Николаевич Чирвинский, с которым я в юности познакомился у Фортунатовых. Его отец был другом моего отца, оба архангельцы.43 Петр Николаевич — крупный ученый-геолог, написавший, между прочим, книгу о снегах; изучал он их так, как пески в пустыне. В этой книге снимки параллельные, на одной таблице — конфигурация песчинок, на другой — снежинок. У Чирвинского был один «пунктик»: он был убежден, что в центре планеты Земля — дырка. Его появление на геолбазе вызвало большое оживление теоретических вопросов. Гуреев и Брюн с ним много беседовали и спорили. Петр Николаевич, обозленный положением заключенного, вспыльчивый, подвижный, вносил весьма живую струю в нашу жизнь.
43 Н. П. ошибается. Николай Петрович Чирвинский (1848—1920) родился в Чернигове. Из Архангельска была родом его жена Александра Гавриловна (ур. Иванова). Сообщено Н. П. Чирвинским-внуком.
Срок подготовки коллекторов истек. Были объявлены экзамены для всех курсантов: и для наших геологов, и для бетонщиков, и для топографов, и для счетоводов (я не помню, какие еще были курсы!). Я очень волновался и за судьбу своих «питомцев», и (признаюсь!) за самого себя. Я был включен в экзаменационную комиссию. Результат был очень хорош. Как мне сказал инженер Вожжинский, возглавлявший все курсы, наши коллекторы заняли по успехам первое место. И на трассе канала они себя хорошо показали. Так, Эберман в Водоразделе нашел пласты песков, которые были очень нужны для бетонирования. Курсанты хотели меня поблагодарить и подать коллективное заявление о награждении меня. Однако Вожжинский напомнил, что коллективные заявления в условиях лагеря не допускаются. И предложил другой выход — написать заметку в стенгазете о моей работе. В результате я попал на красную доску. И бытовые условия мри улучшились. Я был переведен в «куземский барак» вне лагерной колючей проволоки, в комнату с адмтехперсоналом. Мы очень хорошо подошли друг к другу и по вечерам много беседовали. Среди товарищей был правнук Кондратия Рылеева, очень похожий на декабриста. Фамилия его, кажется, Круглевский. Теперь я получил право питаться в столовой адмтехперсонала, где нас кормили очень прилично.
Большой радостью был приезд моего сына Светика, с которым на время свидания я поселился в поселке Дзержинского, близ той избы, в которой жили жена и дочь Брюна. Помню, как мы полем возвращались с геолбазы и Светик все отставал, делая большие шаги. «Папочка, я стараюсь идти по твоим стопам. Я твоя смена».
В тиши вечеров в нашей каморке при свете лампы я читал ему В. Скотта «Квентин Дорвард». Еще бушевала метель поздней зимы. В окно глядел мрак. Там, где-то за леском, скопище урок. Как-то мы шли, а за нами скрипела телега. И почему-то во мраке Светику стало очень жутко и он прижался ко мне. Я его успокоил. Это была вспышка какого-то особенного детского «мистического» страха. Но в нашей «светелке» было тепло и уютно, когда мы читали нашего «Квентина Дорварда» и уносились в другой, далекий мир.
Светика очень полюбили коллекторы. Среди них был кавказец (кабардинец?) Ачабаев, малоспособный, но очень старательный, страстно мечтавший стать коллектором. Он часто возился со Светиком, а когда тот расшалится, называл его «шайтаном». Ачабаева я потерял из виду и не знаю, как он показал себя на работе. Во всяком случае, мне не ставили в вину, что я его выпустил на трассу.
На территории управления было построено двухэтажное здание для клуба Беломорстроя. Во 2-м его этаже начали создавать музей строительства с геологическим разделом, заведующим которого сделали меня, но организацией руководил, конечно, не я, а
Чирвинский, Гуреев и Брюн. Я был очень увлечен этой работой и засиживался до ночи.
Я, наблюдая своих соузников, разбил их на три категории: бездельники, думающие только о том, что «срок идет» (их было мало); старатели, которые без нужды засиживались до поздней ночи на виду у начальства. Такое засиживание прозвали непечатным словом «жопаж»¹. И наконец, работники, действительно увлеченные своим делом, как Чирвинский и вольнонаемные Гуреев и Брюн. Я не причислял себя к ним. Я не работал беззаветно. Любил прийти в свой барак, к своим книгам, письмам... Я удивлялся Брюну и бранил его из-за жены. Как может он так мало думать о ней, не заботиться о жене, которая ради него приехала в поселок Дзержинского и до поздней ночи, слушая завывание бури, ждет его. Да еще опасение, что урки 3-го лагеря могут явиться, ограбить, убить!
Мне нравилась эта работа с камнями и с сыпучими материалами, которые помещались в особых банках «на ножках». Чистая работа. Без всякого идеологического нажима на сознание. Раскладывать камни с наиболее выгодной стороны. Гранить отколотый геологическим молотком образец так, чтобы были видны и кварц, и роговая обманка, и полевой шпат (розовый микроклин или сероватый плагиоклаз), и слюда (черный биотит или светлый московит).
Я один в залах. Тишина. А за стеной репетиция. Готовят оперу «Плотина № б», сочиненную Игорем Вейсом. Это был мечтательный мальчик, специальность его — игра на органе. Больше всего он, естественно, любил Баха. Он был очень наивен и еще совсем чист. Мечтал о невесте, которую встретит в церкви, как Юрий Мстиславский у Спаса-на-Бору. И он попал в барак с педерастами, которые с отвратительными женоподобными движениями выщипывали себе брови, красили губы, вертелись перед зеркалами. Один из них — Полуянов — в клубе плясал, одновременно мужчина и женщина. Одним боком — мужчина, другим — женщина. Одет балериной. Я заглянул посмотреть репетицию: один из этих педерастов, одетый в ватник цвета хаки, вызывал другого на соревнование по выемке кубиков для плотины № 6, и ария его напоминала что-то вагнеровское.
Я не помню, чтобы эти репетиции завершились спектаклем. Я видел другой спектакль — «Мистер Стюпид». Играли также заключенные. Сюжет — какая-то английская газета послала своего корреспондента в советский концлагерь. Первое действие — бал с фокстротом. Мистера Стюпида провожают с рыданиями, опасаясь за его судьбу в стране людоедов. И вот 2-е действие — мистер Стюпид в концлагере перед бараком, у которого стоит часовой. Он спрашивает охрану: «А сколько здесь, голубчик, соб-
¹ Эти формально работающие успешно занимались очковтирательством, по лагерному выражению: заряжали туфту. (Прим. Н. П. Анциферова.)
рано?» — «Не считал!» — «Больше или меньше ста?» — «Какое там, тут не меньше тысячи». Мистер Стюпид в восторге записывает в блокноте: «В небольшом бараке тысяча заключенных, тщательно охраняемых стражей». 3-е действие — снова Англия. Заседание редакции. Получена первая телеграмма от м-ра Стюпида. Все в восторге. Следующее действие — снова лагерь на Медвежьей горе. Съезд ударников Беломорстроя. Награды. Угощения, разносят бутерброды с икрой. М-р Стюпид поражен. И честно записывает то, что видит. Еще раз Англия. Редакция. Читают новую корреспонденцию. Общее изумление. Наконец кто-то восклицает: «Бедный мистер Стюпид, он сошел с ума! Большевики его свели с ума!» Занавес. Эту пьесу писали заключенные. Разыгрывали ее артисты-заключенные, и зрители были тоже заключенные. Надо сказать, что съезды ударников бывали и что бутерброды с икрой тоже подавались.
Среди заключенных была балерина (помнится, Бартольс). Очень хорошенькая. За какую-то провинность она попала на общие работы и ее заставили в прачечной стирать белье шпаны. Из Москвы приехала какая-то важная персона из ГПУ. В лагере захотели блеснуть нашим клубом. Бартольс отправили в баню и привели в клуб, где она в костюме балерины с большим успехом исполнила несколько номеров — кажется, «Умирающего лебедя». Московский гость поднес ей коробку шоколадных конфет. А после ее отправили обратно в прачечную. Все это напомнило мне крепостной театр.
Возвращаюсь к Игорю Вейсу. Это был красивый юноша с темной копной волос (стрижка тогда не была обязательна), со светлыми, голубоватыми глазами под темными бровями. Поздними вечерами он играл Бетховена. А я в своем геологическом отделе любил слушать эту игру. Как-то, выходя из музея, я увидел сестру жены начальника лагеря Александрова. Меня поразило выражение ее лица. Она вся была поглощена музыкой, а лицо выражало «радость-страданье одно». Вскоре, придя в клуб, я встретил Игоря Вейса. Он был смущен и растерян. На мой вопрос рассказал о своем своеобразном платоническом романе с сестрой жены начальника Александрова. Той самой, которая так поразила меня выражением лица: «радость-страданье одно». Между ней и Игорем завязалась переписка. На склоне горы, над крутым берегом Кумсы — старое дерево с дуплом. И вот в это дупло они совали письма и получали ответы. Сегодня Игорь вынул записку. Она была написана печатными буквами. Там стояло коротко: «Прекратить. Берегись». Подписи, конечно, не было. На другой день я узнал, что Игорь был сослан в Соловки (а может быть, в северные пункты Балбалтлага), Александров—высокий, худощавый, с энергичным лицом и римским профилем. Я его про себя прозвал Сципионом. Он был очень горд и молчалив. Его жена была, наоборот, общительна и не раз посещала музей, заговаривала со мной. Их дочка любила забираться ко мне на колени и беседовать.
Как-то раз я рассказал ей о своем восхождении на Везувий, о кратере вулкана и об извержении. Девочка — ей было лет 10— 12 — так непосредственно восхищалась: «Вот было бы хорошо, если бы лава уничтожила всех контрреволюционеров!» Вероятно, она не подумала, что и я осужден как каэр. Вся история с Вейсом напомнила мне Римскую эпоху. Я представил себе Александрова каким-нибудь проконсулом. И вот он узнает, что у члена его семьи завязывается роман с рабом. Что ему делать?! В лучшем случае раба ссылают в отдаленную провинцию после тяжкого физического наказания. В нашу эпоху с Вейсом поступили много гуманнее: его только сослали.
Вейса позднее я видел в Большом зале консерватории (в Москве) за органом. Казалось, он нашел свое место.
Вскоре звезда Александрова закатилась. Ему с семьей пришлось экстренно покинуть Медвежью гору. Их никто не провожал. На перроне вокзала видели его жену, одиноко сидевшую с дочуркой среди чемоданов и узлов.
На место Александрова был назначен Фирин. Изменится ли режим? Заключенные волновались. Режим был очень либеральный. У нас были кружки, нам читали научные лекции. Мы устраивали экскурсии.
Историю с Вейсом я передаю с его слов — Фирин его вернул. Историю с Бартольс и отъезд Александрова — со слов заключенных, и за точность не ручаюсь. Теперь я перехожу к тому, что знаю сам. Ибо был свидетелем и участником столь необычных для лагеря явлений.
Помню лекцию А. Ф. Лосева в клубе для сотрудников ГПУ, на которую были допущены все желающие. Зал был полон. Многие стояли. Лекция была о принципе относительности Эйнштейна с философской точки зрения. Она была закончена приблизительно так: «В «Интернационале» поется: «Мы свой, мы новый мир построим». Теперь наука строит совершенно новые представления о космосе, представления, которые дают мощный толчок философской мысли». Лектору устроили овацию. Лосев прочел краткий курс по истории материализма, показав в заключительной лекции (я слышал только ее), что представление о материи все больше сливается с представлением об энергии.
Был кружок «друзей книги». Помню, как з-к В. С. Раздольский делал доклад о книге М. М. Бахтина о Достоевском. Тот же Лосев сказал: «Разве можно говорить и писать о Достоевском, исключив Христа!» После собрания я подошел к его жене и сказал ей: «Убедите Алексея Федоровича воздержаться от таких выступлений». Она ответила, грустно взглянув на меня: «Всего не перемолчишь». Как изменился, «перековался» Алексей Федорович, судя по его последним трудам!
Вспоминаю лучезарный солнечный день в конце зимы. Еще раз выпал густой снег и повис на косматых елях. Опушены инеем тонкие ветки березок, и сквозь этот заиндевелый лес небо смот-
рело голубо-синими глазами в просветы между деревьями. Мы шли у подножья Дивьей горы. А. С. Петровский вспоминал свои молодые годы. Он рассказывал о чудесных трех сестрах Тургеневых, в которых были влюблены три друга: Андрей Белый, Сергей Соловьев и он, Петровский. Белый женился на своей Асе, Сергей Соловьев на Тане, а он, Петровский, не женился. Его Наташа вышла замуж за другого, и он остался на всю жизнь одинок. Я помню горькую складку вокруг его тонких губ. В тот день я слушал заключительную лекцию Лосева, а вечером нужно было решать, куда пойти: поэт Смиренский читал свою поэму о Полежаеве. Судьбе поэта николаевских времен он придал автобиографические черты. В тот же вечер, одновременно со Смиренским, Попов-Гигило¹ — китаист — делал доклад «Сунь Ятсен и тайные общества в Китае его времени».
Вот я и вспомнил слова А. А. Мейера, когда мы сели в Ленинграде в «столыпинский» вагон: «Мы теперь едем в столицу русской интеллигенции». Тот же Мейер на Медвежьей горе работал (кажется, в проектном отделе) и писал большое исследование о «Фаусте» Гете. Его жена К. А. Половцева передала впоследствии эту рукопись в библиотеку им. Ленина, где она, вероятно, хранится44.
Может быть, из всего здесь мной сообщаемого самое удивительное — это наши экскурсии по выходным дням. Их организовывал я. В течение нескольких месяцев, с тех пор как восстановили выходные дни, я брал под свою ответственность 20 лагерников под особую расписку и уходил с ними за несколько километров от лагеря, в зависимости от целей экскурсии. Конечно, большое внимание уделялось геологии. Руководил Чирвинский. Ходил с нами и Горецкий. По фенологии экскурсией руководил Д. О. Святский из Центрального бюро краеведения (мой одноделец). По археологии руководил Горецкий. Мы разыскивали неолитические черепки с типичными узорами, рылись в стоянках. Так пополнялся и музей. Это были счастливые часы. Мы забывали о неволе. Наслаждались суровой, но своеобразной природой Карелии. Читали краеведческую поэму «Карелия» декабриста Федора Глинки.
Да, все это было.
Опасения лагерников, что Фирин изменит порядки, не оправдались. Правда, начало было неблагоприятно: в дом управления был запрещен вход без особых пропусков. Этому предшествовал инцидент. Фирин вошел в переднюю. Сидит гражданка и не встает. Приняв ее за заключенную, Фирин грозно крикнул: «Встать!» Неизвестная особа дерзко сказала: «Может быть, вы еще потребуете, чтобы я для вас легла!» Вне себя Фирин потребовал выяснить личность неслыханно наглой заключенной. Она оказалась
¹ Вероятно, речь идет о Н. М. Попове-Татива. (Прим. публ.)
44 В настоящее время рукописи А. А. Мейера хранятся в Архиве и ОР ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и ряде частных собраний. Работа о «Фаусте» опубликована нами в кн.: Мейер А. А. Философские сочинения. Париж, 1982.
женой вольнонаемного. Вот и последовал приказ о пропусках в здание управления.
Фирин, присмотревшись к лагерному быту, обратил внимание на то, что женщин различные «начальства и власти» принуждают к сожительству. Он распорядился, чтобы все женщины, которых притесняли мужчины, «не взирая на лица» подавали ему жалобы. Казалось бы, распоряжение разумное, гуманное. Но что же получилось? Целый поток жалоб! Нашлось немало женщин, которые считали себя оскорбленными, если мужчины не приставали к ним. Разобраться в этом потоке, отделить истину от клеветы было очень трудно, и последовал приказ: прекратить прием жалоб. У нас говорили: «Открыли и закрыли трубы».
Успех первых курсов коллекторов подсказал мысль о вторых курсах. Но на этот раз курсы названы иначе: курсы техников геологических изысканий. Я вновь, теперь уже без особых трудностей, произвел набор курсантов. И все занятия протекали значительно регулярнее. Хотя состав курсантов был менее интеллигентен, с высшим образованием не было никого, но немало было со средним. Работали также очень охотно и успешно. К лету я переселился в «избушку на курьих ножках». Так прозвали «коллек-торскую», помещавшуюся между геолбазой и бараками № 7 и 8. Здесь я сосредоточил ящики с наиболее интересными горными породами. Ко мне забегали медвежьегорские ребята: я им показывал различные образцы. И объяснял минеральный состав, дарил некоторые образцы, не представлявшие интереса. Но среди ребят нашлись дурные «пацаны», которые сделали налет и похитили несколько ценных экземпляров. Гуреев очень ворчал на меня. «Вот, приучили ребят!» <...>45
25 марта 1933 года я получил от Светика письмо, глубоко потрясшее меня. С поразившей меня чуткостью, какой-то особой душевной тонкостью он извещал меня о смерти моей матери. Это письмо помогло мне справиться с горем. Тяжестью легло на душу то, что и жена, и мать мои умерли без меня. Я был далеко от них, и мое отсутствие усугубило тяжесть конца. Я не мог сказать им нужных прощальных слов. Вот с этим в моей «блуждающей судьбе» мне трудно примириться, нет, не трудно, а невозможно. Последнее мое свидание с мамой было в кабинете следователя. Лицо ее сияло радостью. Стромин был с ней очень приветлив, даже ласков. От друзей я узнал, что он обнадежил маму скорым освобождением ее сына. Может быть, я не должен винить его за этот обман. Но ему я обязан последними светлыми минутами встречи.
Письма ее ко мне в одиночку были источником жизни. В них не было привычных для нее жалоб на судьбу, она стремилась внушить мне бодрость. В письмах на Медвежью гору она прилагала странички своих воспоминаний, в них кое-где даже просвечивал ее юмор. В одном из них она описала случай, услышанный от ее матери, о собачке, выброшенной в окно вагона, —
45 На опущенных страницах: кража вещей Н. П. из коллекторской, поимка воров и отыскание украденного; встречи с вольнонаемными женщинами-геологами Т. А. Черепенниковой и Г. П. Гвоздевой, их дальнейшие судьбы; приезд летом 1932 сына Сергея, его дружба с сыном П. Н. Чирвинского, прогулки по окрестностям, геологические изыскания, чтение Диккенса; пребывание Т. Б. Лозинской в гостях у Н. П., болезнь Сергея аппендицитом, операция, выздоровление и отъезд его в Ленинград.
случай, описанный Достоевским в «Идиоте». Мама была подругой Ставровских, которых знал писатель. Особенно в ее последних письмах я дорожил известиями о Светике, которого она любила всей душой, перенеся на него долю своей ревнивой любви ко мне.
В предсмертном бреду она звала папу, Таню, меня. «А я был далеко». Эта мысль все время буравила мое сознание. Как много в моих отношениях с матерью было общего с отношением Пера Гюнта к Озе. И вот теперь все звучал мотив его прощания с ней, лежащей уже на смертном одре. Когда я лазал по скалам, бросался в волны разъяренного моря, то много тревоги вносил в жизнь моей матери. Про нее говорили: это курица бегает по берегу и кудахчет, а цыпленок, выросший уткой, спокойно плавает и плавает.
* * *
И вторые курсы были доведены до конца. Экзамены прошли превосходно. Этот раз мне поднесли коллективный адрес. Sic! И это в концлагере! До чего дошел либерализм! Текст его прилагаю.
Смерть мамы, волнения, связанные с курсами, — все это обострило мою сердечную болезнь, которую определили как стенокардию. По ходатайству врачей мне дали двухнедельный отпуск. К этому времени А. С. Петровский, после зачета отработанных дней, был освобожден и переехал в частный домик за Дивьей горой в качестве вольнонаемного. И мне было разрешено поселиться с ним. Он жил на берегу бурной Кумсы, за полуразрушенным мостом, у развалившейся мельницы, в хибарке. В эти дни я был осчастливлен новым приездом Светика. Привезла его Татьяна Борисовна. В эти дни она была арестована. Мой следователь Стромин сказал ей: «Вы, я вижу, очень добивались того, чтобы попасть к нам». Впрочем, вскоре она была освобождена.
Светик бегал с судками в 1-й лагерь и приносил мне пищу. Был очень заботлив, и нам жилось здесь чудесно. Я читал ему «Бориса Годунова» Пушкина и любимую мною в детстве книгу Евг. Тур «Катакомбы». Все это не мешало ему найти новых друзей. И он приходил в нашу хибарку слушать чтение, полный новых впечатлений, всегда оживленный.
И вот настал день, особенно памятный! Ко мне рано явился Вася Эберман (работавший теперь по камеральной обработке на Медвежьей горе). Он, загадочно улыбаясь, сказал: «Николай Павлович, к нам приехал из Ленинграда молодой геолог». — «Где же он?» — «Ждет вас за Дивьей горой». Мы перешли мост, обошли гору, но я никого не увидел. Тогда Вася сказал: «Я помню ваши слова: «Радость меня сильнее потрясает, чем горе». Приготовьтесь». Он крикнул: «Пора!» — и из пещеры выскочила моя Танюша, но не бросилась ко мне на шею, а остановилась в смущении. Я видел ее в последний раз в кабинете директора ДПЗ
в присутствии Татьяны Борисовны и... Стромина. Взял дочурку за руку и повел ее через развалившийся мост в нашу хибарку. Танюша сразу же начала приводить комнату в порядок и раскладывать вещи. Положила мячик на пол, а он покатился. Хибарка наша так покосилась! Танюша воскликнула: «Боже! Папочка, где ты живешь!» Забилась в угол и стала плакать. Меня это очень огорчило. Светик сейчас же почувствовал это, подошел ко мне и стал тихо говорить: «Ничего, папочка. Пусть поплачет, она скоро привыкнет». И привыкла.
Жизнь в хибарке, несмотря на волнующие переживания, принесла мне пользу. И я смог вернуться к работе.
Помню вечер. Мы втроем сидели у Кумсы. Я читал детям. Наша группа из отца, сына и дочери заинтересовала проходившую старушку, которая «уставилась» в нас глазами. «Что вас заинтересовало?» — «Вот вы возитесь с вашими детьми. А состаритесь, и они уйдут от вас и оставят вас одного, беспомощного». Танюша вскочила. Глаза ее сверкали: «Как вы смеете, гадкая вы, вот что! Никогда я не покину своего папулю!» Но случилось так, что я в старости без детей. И не по их вине. Светик где-то в могиле. Танюша далеко (...)46.
Однажды на базу пришел Гуреев и сообщил, что в музей приедет С. М. Киров в сопровождении Медведя (тогда, помнится, начальник ленинградского ГПУ). Музей показывали П. Н. Чирвинский и я. Киров произвел на меня впечатление человека с очень сильной волей, очень мужественного, но непосредственное впечатление того дня не совпадало с впечатлением, составившимся из рассказов знавших его: добродушный, жизнерадостный. Он был молчалив, сосредоточен, вероятно, чем-то озабочен. Запомнилась мне более всего его твердая поступь, поступь человека, знающего, куда он идет и зачем идет. Мне представился идеальный образ большевика.
Работы на канале близились к концу. У всех заключенных бились сердца лихорадочным боем надежды. А вдруг! Каждый из нас скажет: измучен жизнью, коварством надежды.47
В первые месяцы моей жизни на Медвежьей горе уже начали освобождать моих однодельцев. Все яснее становилось, судя по приговору: чем тяжелее обвинение, тем легче наказание, что нашему «заговору» в верхах не верили. Одним из первых был освобожден А. А. Достоевский (из Пушкинского Дома), потом биолог и мастер художественного чтения Артоболевский. Все чаще приходили радостные новости о досрочных освобождениях. Был освобожден и А. Ф. Лосев. Но жена его, заключенная по его делу, освобождена не была, и Алексей Федорович остался вольнонаемным. Как живо помню я эту дружную чету, направляющуюся из 1-го лагеря в Управление на работы. Жена Лосева Валентина Михайловна произвела на меня глубокое впечатление какой-то особой душевной грацией, одухотворяющей все ее движения. Блестяще образованная, умная, талантливая, она могла бы многого достигнуть в своей
46 На опущенных страницах: прогулка Н. П. с детьми и В. А. Эберманом к скалам за рекой Кумсой; болезнь Н. П., приезд его свяченицы А. Н. Оберучевой, выздоровление Н. П., отъезд А. Н. и дочери Тани; выписка из монографии о Белбалтлаге, касающаяся Н. П., его поправки к ней, посещение строительства и музея, в котором работал Н. П., поэтом С. Я. Алымовым и писателем В. Б. Шкловским, биографические сведения об Алымове, посещение музея украинским академиком Л. Н. Яснопольским, приехавшим навестить своего заключенного сына.
47 «Измучен жизнью, коварством надежды...» — 1-й ст. одноименного стихотворения А. А. Фета.
специальности — астрономии. Но она всю свою жизнь, все силы своей богато одаренной души посвятила своему мужу, любя его как человека безгранично и страстно веря в его великое призвание философа. Каждая встреча с ними была для меня большой радостью.
Но самой большой, ни с чем не сравнимой радостью были приезды Т. Б. Лозинской со Светиком. «Я вспоминаю Медвежью гору и те три дня моей жизни... Нежность к Вам, к Светику, чувство страдания, что я должна увезти его от Вас, — все это сливалось в какое-то удивительное чувство», — писала она за месяц перед смертью.
Не помню, когда именно был митинг, на котором выступил бывший член Думы и министр Временного правительства Некрасов, когда мой одноделец С. Тхоржевский радостно воскликнул: «Берег уже виден!» Вскоре состоялось торжественное открытие канала в присутствии И. В. Сталина.
Мы, заключенные, строители канала, в этом торжестве не участвовали. Нас оставили в лагере за проволокой.
Еще раз я понадобился геолбазе, когда А. М. Гурееву пришла в голову мысль поднести Френкелю коллекцию образцов горных пород Б Б В П.
Был заказан великолепный ящик с клеточками-гнездышками. Мы отобрали образцы. Наши шрифтовики сделали изящные этикетки. Гуреев был занят и вздумал послать меня с двумя коллекторами поднести Френкелю подарок. Я был очень смущен. А что же отвечать, если Френкель вздумает меня расспрашивать о качестве горных пород? «Ничего, ответите», — лаконично возразил Гуреев. И мы с огромным ящиком направились к домику Френкеля. Это был довольно приятный коттедж, недавно построенный на мысу над Кумсой возле здания управления. Он был за канавой, через которую был перекинут мостик. Перед домом был садик, который охранял от коз священник с добродушным лицом. Френкель принял нас очень деловито. Руки не подал, но предложил сесть и начал рассматривать коллекцию. Случилось то, чего я так опасался. Он начал расспрашивать меня о качествах разных горных пород, спросил, как я полагаю, какие могут быть использованы для различных производственных нужд. И я робко назвал надвоицкие диабазы, отличавшиеся особой крепостью. Назвал и маткотсейские биотитовые гранат-кианитовые сланцы, но предупредил, что пока крупных минералов граната и кианита не обнаружено. Заинтересовался Френкель и неолитовыми черепками.
Со вздохом облегчения мы покинули этого выдающегося организатора, реформатора лагерей, но, по словам лагерников, «чуждого всякой сентиментальности». Со смущением я передал на геолбазе свой разговор с Френкелем. Гуреев посмеялся над робостью моих ответов, но вместе с тем сказал, что я нашелся и глупостей не наговорил. Другие товарищи меня поздравляли.
Что же мне дала геология? Полученные мною знания были столь зыбки, что улетучились с печальной для меня быстротой. Но все же теперь я смотрел новыми глазами на природу. В вешних водах, уносящих с собой размытые пески и осаждающих их в устье речек и речушек, я теперь видел микрогеологические процессы. И думал о таянии ледников и образовании озер. Теперь валуны я представлял себе на поверхности льдов, которые, несли их на своих хребтах и оставляли как следы своего пути. Даже вершины гор перестали казаться извечно созданными, выключенными из потока времени. Вспоминая теперь зубцы норвежских гор, я представлял себе, что это развалины гигантских гор архейского периода, с выветренными зубцами (тиндерне), что это тоже руины, свидетели былого величия. Теперь все ожило и стало моментом в истории горы, застывшим в рамках поколений, столь быстро сменяющих друг друга. Из яйца вылупился птенец; птенец оперился; его перья меняют свою окраску — вот прошлое птицы, которой я в данный момент любуюсь. Этот оживший для меня теперь мир казался заново созданным. Ведь все это я знал и прежде, но теперь это знание стало видением.
Это новое видение природы не единственное мое достижение в моих университетах концлагеря. На воле я жил в очень тонком слое русской интеллигенции, и мое представление о людях и жизни было крайне односторонним. Концлагерь не политическая тюрьма, не место политических ссыльных. Это поистине Ноев ковчег с парами чистых и нечистых, и нечистых было больше, чем чистых.
Быт действовал разлагающе, борьба за существование принимала особые формы. 1) Здесь процветал «блат». Оправдывалось выражение, которое и пустили в ход: «Все куплю, сказало злато. Всего добьюсь, ответил блат». Появился эстрадный номер «Из тьмы лесов (карельских), из топей... блат вознесся пышно, горделиво». 2) Туфта — очковтирательство. Заведующие разными отделами и их сотрудники в своих отчетах «заряжали туфту», т. е. приводили вымышленные данные о ходе работ и о выработке. 3) Стукачество—доносительство. От «стук... стук... стук» осторожно с оглядкой в двери начальника и далее разговор с ним в духе гоголевского Земляники. 4) «Ссучивание с начальством». Ссученными называли тех, кто путем стукачества или иным путем добивался милостей начальства, достигая блата у него. Происхождение этого слова мне объяснили от ссученных ниток, т. е. тесно сплетенных.
Здесь я научился оценивать человека не по внешним критериям (политическим, религиозным, формально этическим, сословным), а подходить к человеку целокупно. Я продолжаю думать и теперь, что облик человека характеризуют его воззрения, как и его поступки, но судить о нем лишь по его взглядам — нелепость. Так же ложно судить по национальности и по профессии, хотя и национальность, и профессия дают материал для
суждения, но лишь при целокупном подходе к человеческой личности. Как много испорчено человеческих жизней из-за решений по «анкетным данным».
Так я освободился от некоторых предрассудков старой интеллигенции в отношении нашей старой знати. В Кеми я познакомился с двумя князьями Мещерскими. Как мало походили они друг на друга! Они к тому же были лишь однофамильцами. Один, которого я встречал лишь на Поповом острове в Кеми, пользовался дурной репутацией «ссученного», другой, помнится, Иван Сергеевич, был благородный, стойкий человек. Внешне он походил на древнерусского князя с новгородской иконы. Как он мужественно переносил все невзгоды, все беды! Мне очень нравилась его манера себя держать, столько в нем было достоинства, внутреннего спокойствия. Я думаю, на такие натуры революция подействовала очень благотворно. Она выковала характер, закалила волю.
Подавленные социальные слои не представляют, какая тяжесть ложилась на богатых, свободных от труда. Безделье мучительно. Оно опустошает душу, расслабляет тело. Вот достояние безделья: болезни, скука, сплин. Это же мученики! Лишь в трудовой жизни здоровый дух. Вспоминаю Тузенбаха: «Тоска по труду! Как она мне понятна!» Он пророчествовал о буре, которая сметет лень и заставит работать всех, всех.
Все это, конечно, общедоступные истины. Но как мало в сознание обездоленных классов они проникли!
Никогда не забуду тот день, когда я лежал в своей коллекторской и дремал. Мне нездоровилось. Светик уже забрался в свою голубятню48. Внезапно прислали за мной поспешить в Управление. Я взволновался. Вспомнил, как ночью, месяца за два до этого, меня вызвали в Управление к зав. кадрами. Меня хотели поставить во главе всех курсов Белбалтлага. Я пришел в ужас. Я объяснил, что судить обо мне как о руководителе на основе двух опытов с коллекторскими курсами нельзя. Может быть, я хорош там, где нужен личный контакт, индивидуальный подход к каждому лицу. Но для такого сложного дела, как управление всеми курсами, я противопоказан. Меня упрекали, бранили, но я был тверд и устоял. Зачем зовут теперь?
В приемной управления собралось несколько инженеров, ведущих. Нас провели в приемную Френкеля. Все взволнованы. Думают о переброске на БАМ (Байкало-амурская магистраль), куда, по слухам, переводят и Френкеля. К нам вышел его секретарь, бойкий Горелик. Он объявил нам, что мы награждены красными литерами ББВП. Горелик пояснил, что эти литеры означали не только досрочное освобождение, но и восстановление во всех правах (занятие любой должности, прописка во всех городах). Эти красные литеры северным сиянием озаряли мою жизнь, не солнечным, ибо с 1929 г. наступила ночь. Но все же ББВП — это путевка в жизнь. До нас дошел слух, что на Невском прос-
48 С. Анциферов жил с отцом в лагере с лета 1932 до его освобождения. «Голубятней» они называли полку с образцами минералов, где спал мальчик.
пекте выставлены портреты главных инженеров, вроде Вержбицкого, и сверхударников.
Что особенно дорого мне здесь отметить: мне было предложено назвать 5 имен заключенных из числа моих курсантов обоих составов на предмет их освобождения. Я был крайне обрадован и вместе с тем взволнован. В мои руки были отданы судьбы нескольких человек. Ведь я же должен был не только «освободить», но и оставить в заключении остальных, кого я решил не называть. Это были мучительные колебания. (Освобождать можно было только тех, срок заключения которых не превышал 5 лет.) Я со спокойной совестью включил в этот список В. Эбермана, т. к. его открытие на Водоразделе давало мне это право.
Вася быстро оформил свои бумаги, сдал дела и пришел прощаться со мной. «Что вы медлите? Уезжайте скорее. Мало ли что может произойти?»
Carpe diem, quam minimum credula postero¹.
Но мне захотелось привести в порядок черепки, найденные на месте неолитических стоянок. Кроме того, со мной был Светик. А нам так хорошо жилось вместе.
Вскоре меня вызвал Гуреев и предупредил, что я должен подать заявление о своем согласии работать в Дмитрлаге вольнонаемным. Получившие красные литеры, как ценные работники, приглашаются на строительство канала Волга—Москва. Был уже один случай отказа, и только что освобожденный был посажен. Новое дело?
Нечего было делать. Я опоздал. Вася был прав. И вот я в качестве вольнонаемного работника работаю в управлении на геолбазе. С теми же Гуреевым, Брюном и Горецким. Питаюсь теперь в столовой для вольнонаемных. Теперь я бы уже смог получить лед!49
Наш музей был экстренно свернут, и я прощался со «своими» камнями, как с друзьями. «До свидания в Дмитрлаге».
Не то мне хотелось! Я уже мечтал вернуться к своей прерванной жизни в Ленинграде, где живут «торжественно и трудно». Соединиться с остатками своей семьи и жить вблизи своих могил, общаясь со своим учителем И. М. Гревсом и Т. Б. Лозинской.
Вскоре я был оформлен как работник Дмитрлага и получил подъемные и продовольственный паек. Мне объяснили, что проездом я смогу на 2—3 дня задержаться в Ленинграде. И вот все готово. Хотелось проститься с Медвежьей горой, и я пошел в деревушку Лумбуши с красочными избами староверов <...>50
Мы постояли у озера-моря. Сколько раз мы сидели здесь вдвоем, а потом и втроем с Танюшей. Мы следили за красочной
¹ Лови день этот, брось веру в грядущее (лат.). — Перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского. (Прим. публ.).
49 Когда Светик заболел аппендицитом, отцу с большим трудом удалось раздобыть для больного лед в лагерной столовой, где заключенному не хотели его давать.
50 На опущенных страницах: описание Светиком своих игр на берегу Кумсы, дороги к деревне Лумбуши, купания в Онежском озере, заката на его берегу.
симфонией медленного заката с этими переливами красок, таких нежных, небывалых оттенков, какие нигде я не видел. И роскошные закаты юга с их яркими красками не звучали такой нежной музыкой, как эти сдержанные, но богатые переливами тонов краски нашего озера.
Когда мы пришли на вокзал брать билеты, мы узнали новость, подкосившую меня: командировки в Дмитров отменены. По слухам, все назначенные на канал Москва— Волга будут отправлены на БАМ (Байкало-амурская магистраль).
Carpe diem, quam minimum credula postero.
В Дмитрлаге я был бы вблизи Москвы, вблизи Курбатовых, Фортунатовых. Ко мне могли бы приезжать дети. Отправка в Восточную Сибирь была новой карой, и очень жестокой карой. Северное сияние погасло.
Светик чутко утешал меня так нежно, с таким убеждением: «Папочка, ты забыл радугу. А я тебе говорю, тебе еще придется поволноваться, но все кончится хорошо, запомни мои слова».
И вот меня осенила мысль: просить Горецкого принять от меня прошение — отпустить меня перед поездкой на БАМ повидаться с родными и устроить свои дела, с обязательством по вызову немедленно вернуться на Медвежью гору. Гавриил Иванович улыбнулся и дал мне это разрешение. Этот угрюмый, суровый на вид человек категорического императива был в действительности человеком добрейшей души. Я написал обязательство, но попросил, пока речь не пойдет обо мне, держать его у себя в столе. В душе я надеялся, что обо мне забудут.
И вот, собрав мои вещи (много ли их у лагерника? Оказалось много), мы тронулись в путь. Светик разделил со мной ношу, и все же нам двум было тяжело нести: вокзал был не близок. Помог нам милый Глинкин.
Мы в вагоне, поезд тронулся. Прощай, Медвежья гора! Сердце стучало так сильно, что мне казалось, я слышу бой часов. Тик-так.
Приехали мы так рано, что трамваи еще не ходили. Мы сдали вещи на хранение и ждали для нас теперь веселого грохота и трезвона трамваев. Мы решили первым делом съездить к нашим могилам на Смоленское кладбище.
Как переполнилась душа, когда я подвел к могилам моего Светика. У могилы моей Тани я был первый раз. Перекладина креста — словно протянутые руки налево и направо к могилам Таточки и Павлика. Мы стояли молча.
Тишина... Безмолвие... Полнота... Мы словно хотели принять благословение ушедших от нас, но навсегда оставшихся с нами, участников нашей жизни. Ее свидетелей и судей.
С кладбища с мешками на плечах мы отправились к Гревсам. Отворил Иван Михайлович и обнял меня. И я тотчас вспомнил блудного сына Рембрандта. Вот и я, истомленный долгим, почти пятилетним путем, склоняюсь перед ним, а он с любовью
возложил на меня руки. Когда я сказал ему об этом, он засмеялся: «Ну, какой же вы блудный сын!»
Вышли к нам и Мария Сергеевна и Екатерина Ивановна. Сколько любви окружило нас.
Пора в Детское Село, в мой дом. А сердце сжалось с такой болью. Где же мой дом?
Вот и бабушка Катюша, вот и тетя Аничка, вот и Танюша. Но нет ни мамы, ни Тани. Я так боялся ощутить эту пустоту. Светик понял и повел меня в Екатерининский парк. «Веди, веди меня под липовые сени... На берег озера, на тихий скат холмов» (Пушкин).
Скат холмов вытоптан, на берегу озера валяются тела загорающих. В Камероновой галерее — ресторан. Всюду киоски, агитплакаты. На скалу царскосельской статуи взобрались полуголые фигуры. Светик озабоченно посматривал на меня. «Папочка, я знаю, о чем ты думаешь. Ты вспоминаешь Христа. Который взял плетку и выгнал торгующих из храма».
В первые дни я весь ушел в свое прошлое. В «хранительных сенях» перечитывал Танины письма с начала 1908 года и кончая ее последними письмами в Кемь. Перечел дневники. Перебирал реликвии «шкапа былого».
Еще раз прошла наша жизнь. Прошла, но не ушла. Меня устроили в бывшей детской. Выступавшая печь разделяла ее на 2 половины. В одной стояла тогда кровать Светика, в другой — Танюшина. Перед сном возле каждой из них в те ушедшие годы сидела Таня и пела на ночь тихим голосом: «Фонарики-сударики горят себе горят». Над Танюшиной кроваткой висел мною нарисованный герб: бокал, на котором сидел снегирь. Снегирь у нас жил в комнатах на свободе и любил сидеть на высоком зеркале. Это то зеркало, которое было в квартире моих родителей до моего рождения. Любил снегирь садиться и на чудесный граненый бокал, подаренный мне матерью моей ученицы, рано умершей Оли Кочергиной. А Танюша бывало шествовала по анфиладе и распевала сочиненную ею песенку:
Красненький, веселенький,
Животиком вперед,
Сидит себе на зеркале
И весело поет.
Сидел я как-то за печкой в углу у окна и читал детям «Бенгура», одну из любимых книг моего детства. Раздались голоса, кто-то вошел. И я слышу знакомый голос Елены Александровны Ромейко, «Прекрасной Елены», приятельницы Тани-матери. Она кому-то рассказывала про Таню. Объясняла, как мы здесь жили, как стояли тогда здесь вещи. Словом, вела экскурсию. Но кто был этот посетитель? Вдруг Елена. Александровна, остолбенев, запнулась, увидев меня. Она еще не знала о моем возвращении. Я сидел, глубоко тронутый тоном ее рассказа. Но кто
был с ней? Меня познакомили. Это была Татьяна Львовна Щепкина-Куперник.
Все меня погружало в чистые, прозрачные, как горные реки, воды нашего прошлого. Особенно тронула меня запись Ольги Николаевны Ползиковой. Она час за часом записала все, что делала, что говорила в последние 2 дня перед смертью Таня.
Так шли дни в мягком свете Purgatorio.
Надо было думать и о будущем. Я все еще чувствовал себя птицей, выпущенной из клетки на веревочке. Нужно было веревочку оборвать. Но как — вот вопрос. И мне пришла в голову новая идея. Попросить в Белбалтлаг командировку из Академии материальной культуры для составления карты неолитических стоянок (я надеялся на помощь Горецкого) и для представления различных образцов находок на этих стоянках, включая- и угольки.
Эту командировку мне охотно дали. Не теряя дальше времени, я отправился на Медвежью гору (не без страха).
Особенно беспокоила мысль, что Френкель вернулся из БАМа и я попаду ему в руки с моей командировкой. На вокзале Медвежьей горы я встретил доктора Молочковского (моего однодельца) и с ужасом узнал, что Френкель действительно на Медвежьей горе! К счастью, скоро я выяснил, что он проехал (помнится, в Мурманск или Кемь).
Я был радостно встречен на геолбазе Гуреевым и Горецким. Они одобрили мой план и обещали полное содействие. Однако все зависело от инженера Вержбицкого, теперь начальника на Медвежьей горе. Я встречался с ним у наших геологичек51. И он был одним из их поклонников. В здании управления прежде всего удивило меня отсутствие тесноты. В помещении, где ютился целый отдел, теперь сидел один секретарь начальника. Сам он занимал также очень большую комнату. С большим волнением явился я к нему на прием со своей командировкой. Он сейчас же узнал меня. «Позвольте, да разве вы не остались в нашей системе?» — «Да, товарищ начальник (теперь уже товарищ). Видите ли, я историк и решил работать на участке, где могу быть наиболее полезен. Я хочу помочь Академии материальной культуры получить ясное представление о тех находках, которые были обнаружены нашей геолбазой. Вот мое задание». И я показал свою программу согласно командировке. Он внимательно прочитал и положил резолюцию: «Оказать всяческое содействие». С торжеством я вернулся на геолбазу. Меня все так тепло поздравляли, что я совсем растрогался. Встретил и юного «академика» Брюна. Он сообщил мне, краснея и стыдясь радости, которую не мог скрыть, что у него родился сын Ипполит.
Горецкий вернул мне мое обязательство, которое все время пролежало у него в столе, и я с наслаждением изорвал его. Нить была порвана.
Мы вольные птицы. Пора, брат, пора!
51 См. прим. 44.
Но для того чтобы выполнить задание командировки, я должен был задержаться на несколько дней. Горецкий и Брюн помогли мне составить карту стоянок, отобрать образцы. А также все упаковать должным образом. Был вечер. И я, свободный гражданин, отправился гулять на Дивью гору, уже не боясь наткнуться на охранника. Была ясная ночь. Светила луна. И в этих далях, в этом лунном сумраке, в этих тенях сколько образов, уходивших в мое былое, окружило меня. Но все ли они станут только былым? Кто останется спутником моей жизни? С кем будут еще встречи, беседы? Вот Горецкий, Вася Эберман. Но над всеми моя Грация, с которой мы беседовали здесь так хорошо!52
«Пропуск давай!» — раздался резкий голос охранника. «Какой такой пропуск? — ответил я строптиво. — Зачем пропуск, чтоб погулять вечерком по Медвежьей горе?» — «Давай! Пошли в карцер!» И пошли. Каким же я был мальчишкой! И только подойдя к 8-му бараку, где я' ночевал, я показал охраннику мою командировку с подписью Вержбицкого. «Ну то-то! Чего же сразу не сказали? Канителься тут с вами!»
Прощай, Медвежья гора! Прощай навеки! Я возвращался в Ленинград без ясных планов на будущее. Но мне не пришлось начать строить заново рухнувшую жизнь. Друзья, обеспокоенные тем, что ко мне в Детское Село приезжало много друзей и знакомых (я получил даже предложение поехать с экскурсией в качестве руководителя по нашему каналу), стали настойчиво убеждать меня переехать в Москву.
То же советовал и мой падре, И. М. Гревс. М. П. Алексеев устроил у себя обед, на который пригласил и Ивана Михайловича, и меня. Во время обеда я был вызван по телефону К. В. Ползиковой-Рубец к Т. Б. Лозинской. Мне сообщили, что сюда звонила С. А. Гарелина, которая возвращается в Москву из поездки на озеро Имандра.
Снова зашел разговор о целесообразности моего переезда. М. Л. Лозинский сулил мне договор в издательстве «Academia», и я сдался53.
В Москве Н. А. Гейнике меня легко устроил в Коммунальный музей зав. водным отделом. Директор музея Брыков обещал мне через Моссовет устроить в Москве квартиру. Я снял комнату на Пятницкой у родных Курбатовых. Так началась моя московская жизнь.
В качестве зав. водным отделом мне пришлось работать над
темой «Канал Волга—Москва». По ходу работ мне пришлось бывать в Дмитрове, где я встречал своих знакомых по Белбалтлагу. Однажды я сидел в вагоне поезда, направлявшегося в Дмитров. Против меня сидели двое — отец и сын — и говорили о Медвежьей горе. Мне захотелось узнать новости. Я стал спрашивать, какие там перемены, что снесено, что построено заново. Спросил и о своей коллекторской. Мальчик оживился: «Это вы об Анциферовом домике?»—«А кто это—Анциферов?»—«А я
52 Грацией Н. П. называет Т. Б. Лозинскую по имени героини романа-эпопеи Р. Роллана «Жан Кристоф».
53 Договоры с издательством "Academia" были заключены Н. П. на издание книги о Герцене и (совместно с А. А. Золотаревым) монографии о Ярославле. Издания не были осуществлены, но следы работы над ними сохранились в архивах Н. П. (ОР ГПБ. Ф. 27) и издательства (ЦГАЛИ СССР. Ф. 629. On. 1. Ед. хр. 15 и 256).
почем знаю? Так прозвали маленький домик, где раньше хранили камни».
— Позвольте представиться, — сказал я шутливо. — Этот мифический Анциферов перед вами.
— Будет тебе пули-то отливать.
Я показал мальчику паспорт. Пришлось поверить, что Анциферов не миф, а реальность.
Прошло еще около года. На Пятницкой меня навестил проф. Б. М. Энгельгардт. Я с ним встречался раза два. Он сказал, немного смущаясь: «Мне хотелось проверить одну догадку. Я сидел в ДПЗ в одиночке и там прочел надпись:
Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви54.
Эту запись сделали вы?»
— Да, я.
И немного позднее, в 1956 г., в Дубулты один профессор-филолог спросил меня о том же. В то время, когда он сидел в Крестах, ему сказали, что всех заинтересовала надпись, сделанная на окне Анциферовым. Это были те же слова. <..>55
54 Последняя строфа стихотворения В. С. Соловьева «Бедный друг! истомил тебя путь...» (1887). По словам С. М. Соловьева, эта строфа «сделалась классической как резюме всего миросозерцания Вл. Соловьева» (Соловьев В. С. Стихотворения. 7-е изд. М., 1921. С. 311).
55 На опущенных страницах — глава «19 37 год»: посещение летом 1937 вместе с С. А. Гарелиной Софиевки и Никитского сада. Заболевание Н. П. малярией. Арест Н. П. по возвращении в Москву. Пребывание в Бутырской тюрьме. Камерный быт, переполненность тюрьмы. Встречи: генерал Артамонов; помощник директора Фотографического института В. Р. Живаго, его рассказы о путешествиях, в том числе совместно с Н. И. Вавиловым, история ареста Живаго, биографические пересечения с ним; итальянский коммунист Пьетро Барончини. Допрос Н. П. следователем Готцевым, приятное впечатление от последнего. Народный социалист Овчинников. Инженер Котов.
Положительная характеристика Анциферова В. Д. Бонч-Бруевичем, данная следствию. Новый следователь (Черкасов). Причина ареста И. П.: встреча весной 1937 с гимназической подругой Т. Н. Анциферовой Е. А. Родзянко, впоследствии арестованной.
Разговор с Бонч-Бруевичем после освобождения: «Ваш долг все это записать. Публиковать мы это не будем, но это пока должно храниться в государственных архивах».
Ожидание своей участи в Бутырках. Юноша Повало-Швейковский. Перевод в Таганскую тюрьму. Лица: чех-музыкант, обвинявшийся в шпионаже; мрачный хулиган «с чумой в голове»; мрачный субъект из Медвежьей горы; бухгалтер, певший неаполитанские песни; молчаливый белый офицер. Пересказы Н. П. художественных произведений в камере. Окончание следствия. Напрасное ожидание предэтапного свидания. Воспоминание о пребывании в Гаграх летом 1936 с С. А. Гарелиной.
Этап в Уссурийский край. Сосед Крымоловский, привезенный с Колымы сотрудник Коминтерна, обвинявшийся в замысле убить Кагановича. Встречи: бывший следователь ЧК, «бухаринец» Векшин; инженер-грузин; зоолог из Тимирязевки; подмосковный садовод; другие интеллигенты; правоверные евреи; старик-сторож Бесфамильный, обвиненный в троцкизме; грузин Гогоберидзе. Быт этапного вагона. Суицидные попытки доктора-музыканта, попытки Н. П. отговорить его. «Непротивленчество» Н. П., ценившееся его спутниками.
Прибытие в лагерь. Срок Н. П. — 8 лет. Новые лагерные порядки: «Дашь кубики (леса. — Публ.) — сыт будешь». Работа на лесозаготовках полураздетого Н. П. в зимнем Уссурийском крае. Смертность среди заключенных. Переброска на новое место в феврале 1938. Жизнь в бараке. .Бывший консул в Харбине Ракитин, его смерть. Письма из дома. Ельцов, бывший официант у Тестова. Лагерный быт в новой колонии. Работа на строительстве железной дороги. Болезнь Н. П. Лекпом Полина Петровна Бердичевская. Перевод Н. П. в лазарет. Назначение его заведующим баней и прачечной. Конфликты с уголовниками. Еврей-евангелист Рабес. Начальник колонии Баландин, его «петрограндизм». Новый приступ малярии у Н. П., работа по заготовке дерна. Лето и осень в Уссурийском крае.
Зима 1938/39. Н. П. в полубессознательном состоянии на нарах, конфликты со шпаной, попытки нравоучений, работа дневальным, учетчиком. Троцкисты в лагере, их озлобленность. Переводы Н. П. из колонии в колонию. Отношения с шоферами и шпаной. Социальный срез лагерного населения. Размышления об интеллигентах в лагере, тоне их общения с простыми людьми. Десятник Ситкин, донской казак, его ненависть к роману Шолохова, рассказы о скитаниях по Африке и Европе. Обида Ситкина на Н. П. Крестьянин белорус Григорий Денисов. Выполнение Н. П. обязанностей почтальона, писание жалоб по просьбе лагерников. Десятник Киселев. Инженер А. Ф. Ковалев, не поладивший с Ежовым. Вести о событиях на Халхин-Голе, советско-германском пакте, начале Второй мировой войны. Освобождение Н. П. по пересмотру дела 27 ноября 1939. Речь Молотова по радио о войне с Финляндией. Трудное возвращение в Москву. Встреча на вокзале С родными, радостный разговор по телефону с детьми, жившими в Детском Селе с А. Н. Оберучевой. «В эти дни я чувствовал особую свободу. Свободу от жизни, т. к. она казалась завершенной в своей полноте».
Приложения
1
Н. П. АНЦИФЕРОВ
(И. М. ГРЕВС В 1920—1930-е ГОДЫ)
<...>1 античности. Я смущался не студентов, с которыми у меня очень скоро установились наилучшие отношения. Я смущался выходить «наравне» с Иваном Михайловичем из профессорской, идти рядом по коридору и расходиться по разным аудиториям2. Я казался себе вороной в павлиньих перьях. А Иван Михайлович еще более конфузил меня, всячески подчеркивая равенство, словно я действительно был его коллега. Иван Михайлович чудесно совмещал в себе и сознание своего достоинства, и удивительную скромность в обращении с другими. Он никогда не давал чувствовать свое превосходство. Но в отношении меня [это] и была ошибка. Равенство отношений, которое стремился установить padre, еще более смущало меня.
Много лет спустя Иван Михайлович, продолжая ту же традицию, предложил мне перейти с ним на «ты» и с трудом согласился на то, что он будет говорить мне «ты», а я ему — «вы». Разве это плохо, что в старину дети говорили родителям «вы»? Пусть так будет и у нас.
* * *
Мне пришлось работать с Иваном Михайловичем и в Экскурсионном институте, и в Центральном бюро краеведения. Это он привлек меня к работе в том и другом учреждении.
Революция открыла широкие возможности развития экскурсионного дела, которое так понимал и так любил Иван Михайлович. В первые годы экскурсионное дело было поднято на необычайную высоту действительно как нигде в мире.
Грустно думать, что этот расцвет длился недолго. Помнится, что в 1920 году среди зимы был создан Экскурсионный институт, состоявший из трех отделов. В главе его была поставлена старая партийная работница Э. В. Краснуха, которую мы тогда не сумели оценить должным образом. К работе в Институте были привлечены выдающиеся профессора биологии: Федченко, Римский-Корсаков, Райкрв и др. — они организовали естественно-исторический отдел3. В экономо-техническом отделе работали профессора Дмитриев, Зеленцов и другие4. Гуманитарный отдел
1 Начало этого фрагмента не обнаружено. (ОР ГПБ. Ф. 27. Ед. хр. [4]. Л. 19— 25.) По-видимому, отсутствует один лист. Заглавие дано нами.
2 Возможно, речь идет о совместном преподавании Н. П. и Гревса в Тенишевском училище в 1917—1919.
3 Кроме Федченко, Римского-Корсакова и Райкова в естественно-историческом отделе Петроградского экскурсионного института (далее — ПЭИ) сотрудничали М. М. Тетяев, В. В. Любименко, Н. А. Буш, К. К. Косинский, В. И. Савич, Л. В. Бианки (секретарь отдела), И. И. Ильин, В. А. Догель, П. Е. Васильковский, А. А. Еленкин, Л. С. Берг, Г. Г. Якобсон, Н. И. Прохоров, Н. С. Берсенев, В. А. Терд и Г. Н. Боч. Состав и руководство этого отдела менялись, отношения с другими отделами были сложными, единого мнения о задачах среди сотрудников так и не выработалось. «Многие из них, — пишет Я. А. Влядих-Вейнерт, — обладали званиями профессоров и докторов наук, большим числом трудов по специальности. Они с трудом терпели Васильковского и недооценивали педагогическую роль трудов Райкова. <...> Из других отделов некоторые естественники признавали В. В. Дмитриева, М. А. Дешевого, И. М. Гревса, но с высокомерной снисходительностью относились к инженерной «мелкоте» и особенно к «учителям» — сотрудникам гуманитарного отдела <...>. К институту они относились скептически, всегда готовы были перейти в более весомое учреждение. <...> Но часть сотрудников этого отдела <...> вкусила сладкой отравы педагогического труда, работы с массами». (Архив Я. Н. Вейнерта. Далее все цитаты оттуда, если не указано иное.) Под руководством Райкова были разработаны методики естественно-исторических экскурсий для школьников и выпущен ряд сборников на эту тему.
4 Кроме заведующего экономико-техническим отделом ПЭИ профессора В. В. Дмитриева и М. Е. Зеленцова, в его состав входили А: И. Зазерский (секретарь отдела), М. А. Дешевой, Б. П. Овсянников, В. В. Старостин, А. Ф. Доброхотов, И. С. Каннегисер, Д. Ф. Шапиро, А. Н. Егорнов, С. М. Брагин, Е. Ф. Бродский и И. В. Баранов. Этот отдел представлял «группу инженеров разного возраста (...), увлеченных ГОЭЛРО, своей профессией и просветительскими возможностями, заложенными в ПЭИ». Дмитриев — «очень высокий, стройный, с быстрой и вместе с тем деловитой поступью, всегда одинаково тактичный, ровный и вежливый в обращении. Его отличало ясное понимание задач Института и блестящее умение представить результаты его деятельности в руководящих инстанциях». Сотрудники отдела во главе с Зеленцовым работали над историей экономики города, особенно выделяя при этом роль морского порта. Многие из них одновременно преподавали в Коммунистическом университете и Военно-политической академии.
возглавил И. М. Гревс. Он привлек Ф. Ф. Зелинского, О. А. Добиаш-Рождественскую, В. А. Голованя, Г. Э. Петри. О них я уже писал в разной связи. Кроме того, им были привлечены его сотрудники по работе в Музейном отделе (1920 г.) супруги Вейнерт, Т. В. Сапожникова, О. М. Рындина, К. В. Рубец (Ползикова)5. Работали мы с тем энтузиазмом, который отличал работу старых интеллигентов в первые годы Революции. Мы разрабатывали и совместно обсуждали циклы экскурсий по городу, по его окрестностям, по дворцам, по музеям. Мы издавали экскурсионные сборники.
Такие сборники издавали все три отдела. Мы устраивали семинарии для подготовки руководителей экскурсий6. Работали мы в тесном контакте с московской группой экскурсионистов — членов Института внешкольной работы. Мы устроили (преимущественно силами москвичей, в особенности А. Я. Закса) экскурсию-экспедицию в Северный край — в Вологду, Галич и по монастырям русской Фиваиды. (В дни этой замечательной поездки я познакомился с С. А. Гарелиной, моей будущей женой).
Москвичи посещали нас, мы — москвичей, обменивались опытом нашей работы. Мне кажется, что ни в одной области москвичи и ленинградцы (тогда еще петроградцы) не работали так дружно, как работала московская и наша группа экскурсионистов. И я могу сказать с уверенностью, что этому в значительной мере содействовал Иван Михайлович — тем моральным авторитетом, которым он пользовался как у нас, так и у москвичей. Глава московской группы А. Я. Закс — изумительный организатор, пламенный экскурсионист и прекрасный товарищ («Азарт Яковлевич») был также ученик Ивана Михайловича7. С ним работали такие замечательные люди, как историк Н. А. Гейнике и искусствовед А. В. Бакушинский.
В своей диссертации профессор Гревс дал образец локального метода изучения исторических явлений. Он посетил виллу Горация и со свойственной ему тщательностью подобрал все упоминания о ней в литературном наследии римского поэта. Осматривая остатки виллы, он использовал эти упоминания с за-мечательностью, убедительностью и яркостью. На основе полученных топографических данных восстановил облик виллы, по существу исследовательским методом построив экскурсию, начиная с обзора с вышки всей местности. Так исследовательский локальный метод сплетается с экскурсионным методом. Так уже в начале научной работы Иван Михайлович уже подошел к тем проблемам, которые развили в нем вкус к экскурсионной работе8.
Немало трудов посвятил Иван Михайлович экскурсионному делу. Он описал и свою первую экскурсию в Италию, и нашу экспедицию в Северный край. В качестве руководителя отдела Иван Михайлович сочетал в себе мягкость с большой требовательностью. С необычайным вниманием и доброжелательностью относился он к работе каждого сочлена. Вместе с тем он был образ-
5 Кроме названных и самого Н. П. в гуманитарном отделе работали Л. Н. Пескова, Н. П. Черепнин, А. В. Карлсон, А. Е. Ярошевский, Б. П. Брюллов, Е. А. Лютер, А. Е. Пресняков, К. К. Романов, О. Ф. Вальдгауэр и Н. Д. Флитнер. В отделе были выделены секции: художественная, методическая и историческая. Предполагалось открыть в будущем и этнографическую. Несмотря на постоянно висевшую над ПЭИ (и реализовывавшуюся в первую очередь за счет гуманитарного отдела) угрозу сокращения штатов, около него постоянно группировались и активно работали нештатные сотрудники: Т. Б. Лозинская, В. Г. Конради, 3. А. Эдельштейн, С. М. Ле-видова, О. Л. Тоддес, К. Ф. Асаевич, В. Н. Аникиева, Бломквист, Исбах, Завитаева и др. Некоторых из них гуманитарный отдел «рассматривал как своих сотрудников второго разряда».
6 Гревс, например, руководил семинарием по изучению окрестностей реки Фонтанки, Анциферов — литературно-экскурсионным, К. В. Рубец — посвященным петровской эпохе, а Н. Д. Флитнер — древневосточным памятникам Эрмитажа. Проводились занятия с учителями Детского Села, которые к лету 1923 выросли в солидный семинарий и привели к возникновению в этом пригороде краеведческого кружка и экскурсионной станции. Этот семинарий был, по существу, продолжением летней школы экскурсоводов 1921 в Павловске, организованной при деятельном участии хранителя Павловского дворца В. Н. Талепоровского. Кроме учителей, студентов и сотрудников местных музеев, в работе семинариев ПЭИ принимали участие и крупные искусствоведы, стремившиеся углубить свои познания в области как местной, так и общей истории, а также познакомиться с методикой экскурсионного дела и «особо требуемой в то время социологии» в духе М. Н. Покровского. В эпистолярных и мемуарных источниках единодушно отмечается присущий семинариям гуманитарного отдела энтузиазм, серьезность научного подхода и радостное ощущение совместного созидания, при котором ученики и учителя нередко менялись местами.
7 А. Я. Закс еще в 1900-е работал совместно с Гревсом в Тенишевском училище.
8 Магистерская диссертация Гревса послужила основой его главной монографии «Очерки из истории римского землевладения, преимущественно во время империи» (СПб., 1899). Кроме упомянутой в прим. 2 к главе «По Италии в 1912 году...», Гревс посвятил экскурсионному методу еще ряд работ—как опубликованных (Монументальный город в исторической экскурсии//Экскурсионное дело. 1921. № 1. С. 1—14; Экскурсионный метод и исторический подходу/По очагам культуры. Л., 1926. С. 7—32 и др.), так и оставшихся в рукописи: «Изучение района большого города. Васильевский остров» (ОР ГПБ. Ф. 1148. Ед. хр. 61, 69), «Историческая экскурсия вдоль Фонтанки» (там же. Ед. хр. 63), «Экскурсионное дело и нужды русской культуры» (ЛО ААН СССР. Ф. 726. ОП. 1. Ед. хр. 175) и др. См. также обзоры: Вялова С. О. К творческой биографии И. М. Гревса//Из истории рукописных и старопечатных собраний: Исследования. Обзоры. Публикации. Л., 1979. С. 123—141 и Враская О. Б. Архивные материалы И. М. Гревса и Н. П. Анциферова по изучению города//Археографический ежегодник за 1981 год. М., 1982. С. 303—315.
цом дисциплинированности для всего отдела. Он приходил всегда за несколько минут до начала собраний. И как он огорчался, что многие из нас, в том числе и аз грешный, отвлекались посторонними делами (мы все работали по совместительству), и, таким образом, он не мог вовремя начать заседания.
Иван Михайлович стремился экскурсионному делу придать научную глубину и большой теоретический размах. В этом отношении работа нашего отдела, думаю, превосходила работу московской группы, что подтверждали мне некоторые москвичи. Как грустно думать, что столь серьезно поставленное дело скоро заглохло. Экскурсионный институт просуществовал всего 2—3 года, сотрудники его были взяты в Институт научной педагогики. Иван Михайлович отказался «сливаться» и отошел от любимого дела. Он предвидел, что мы в качестве экскурсионной секции будем влачить в новом институте жалкое существование, что и сбылось в полной мере9.
Через несколько лет после закрытия Экскурсионного института, а именно в 1925 году, Иван Михайлович был избран в члены Центрального бюро краеведения. Летом этого года он получил командировку по городам Приволжья.
Иван Михайлович пригласил меня и Т. Б. Лозинскую сопровождать его в этом интересном путешествии. Он много поработал над изучением городов Италии (преимущественно Флоренции). Теперь Иван Михайлович мог заняться общими вопросами градо-ведения и знакомства с городами своей родины. Им был составлен следующий маршрут: Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Владимир. Нас всюду тепло принимали краеведы и устраивали в краеведческих музеях.
С какой горячей симпатией относился Иван Михайлович к краеведам! Он возлагал особые надежды на это движение в деле культурного строительства страны10. Он настаивал на целокуп-ном изучении края. (Один из краеведов сказал: «Край нужно изучать не краюшком, а всесторонне».) Для понимания настоящего, для подготовки будущего необходимо знать прошлое края. Некоторые краеведы Москвы и Сибири, сторонники так называемого «производственного краеведения», стремились сузить рамки краеведения, ограничив его изучением производительных сил и производства. Иван Михайлович был одним из тех членов ЦБК, которые требовали в интересах социалистического строительства этого «целокупного» краеведения. Лишь всестороннее изучение края может обеспечить глубокое познание производительных сил и [решение] задач производства. Только тогда «краеведение может стать краеведением». За эти идеи приходилось вести трудную борьбу. Теперь все они стали общепризнанными задачами краеведения.
Мы беседовали с нашим padre. Кто же краевед? Ученый?
Общественный деятель? Этого мало. Краевед — ни то, ни другое, а отчасти то и другое. Это особый тип культурного деятеля с особой психологией. Это доброволец, и его труд есть прежде
9 Ликвидация ПЭИ прошла в несколько этапов. Не прошло и полугода после официального открытия (фактически институт начал действовать раньше — с осени 1921), как 7 июня 1922 последовало указание сверху о 50-процентном сокращении штатов. Сотрудники ПЭИ единодушно решили сохранить всех, пойдя при этом на уполовинивание своей зарплаты. С 13 июля в гуманитарном отделе оставалось лишь две полные ставки — Гревса и Влядих.-Вейнерт, 8 ноября была сокращена еще одна единица, 22 декабря отказался от оплаты К. К. Романов (его ставку поделили между Н. Д. Флитнер и Е. А. Лютер). 23 февраля 1923 гуманитарный отдел просил разрешения привлечь к работе сотрудников без оплаты. 3 октября последовало новое сокращение: осталось по 6 ставок на отдел. 12 мая 1924 гуманитарный отдел вновь принимает «сотрудников без содержания», а 8 июля Гревс был вынужден сообщить коллегам о существующем в «инстанциях» проекте слияния ПЭИ с рядом других учреждений и образования на их основе Института научной педагогики. (ГИНП). Был образован оргкомитет для решения этого вопроса. В его состав вошли: 5 членов правления Педагогического музея, представитель Академического центра ГубОНО и по одному представителю от ПЭИ и Пединститута. Было предложено два проекта реорганизации. Согласно одному из них, ПЭИ переставал существовать и дробился по кабинетам нового учреждения, другой предусматривал целостное вхождение ПЭИ в ГИНП. Поначалу члены правления Педагогического музея были склонны пойти на сохранение ПЭИ как структуры, но вскоре их мнение переменилось, и «для оптимизма не осталось оснований». Между тем работа в уже обреченном ПЭИ активно продолжалась: читались доклады, проводился ставший уже традиционным летний семинарий экскурсоводов в Детском Селе, сотрудники ПЭИ участвовали в экспедициях по изучению кустарной промышленности, по культуре и быту остяков на Кавказе, ездили в командировки в разные города, отчитывались о них на заседаниях отделов. Там же принимали резолюции, то требовавшие «добиваться единства ПЭИ, права голоса отделов при формировании личного состава», то призывавшие «держаться умеренной политики и считать необходимым войти в новое учреждение, поскольку оно даст возможность вести экскурсионную работу». 1 августа 1924 последовало официальное уведомление о закрытии ПЭИ и увольнении сотрудников с 1 сентября.
«Этим, — с горькой иронией пишет Влядих-Вейнерт, — можно считать, завершился процесс объединения теории и практики в одном учреждении. Что касается его бывших сотрудников, то они продолжали следовать выработанным Институтом методическим принципам, проводя их в тех учреждениях, которые были заинтересованы исключительно в практической экскурсионной работе».
Для Гревса закрытие ПЭИ было особенно тяжело еще и потому, что минуло чуть более года после того, как 25 мая 1923 научно-политическая секция ГУСа постановила «отвести» его «от преподавания», а месяцем позже это постановление было подтверждено Наркомпросом (ЦГИА Ленинграда. Ф. 14. On. 1. Ед. хр. 8945. Л. 209). Под редакцией Ивана Михайловича вышел один из итогов деятельности ПЭИ —сборник «Экскурсии в культуру» (М., 1925). В нем он писал: «Московский и Ленинградский экскурсионные институты как отдельные самостоятельные центры методических исследований и практических семинариев прекратили существование, педагогические высшие учебные заведения не могут развернуть вопроса должным образом, и разработка экскурсионной теории и практики очень стеснена, предоставленная чаще всего обстоятельствам и кустарному эмпиризму». (С. 9.)
10 Наиболее отчетливо и полно Гревс изложил свои взгляды на эти вопросы в неопубликованной книге «Развитие культуры в краеведческом исследовании» (1924 —ЛО ААН СССР. Ф. 726. On. 1. Ед. хр. 178). Четвертая (последняя) глава этой книги опубликована Ф. Ф. Перченком: Анциферовские чтения: Тезисы и материалы конференции 20—22 декабря 1989 года. Л., 1989. С. 28—36.
всего новая форма общественной деятельности. Кто такой гуманист эпохи Возрождения? Ученый? Художник? Общественный деятель? Политик? Все это не определяет профиль гуманиста. Так в нашу эпоху краевед не подойдет ни под одну из существующих категорий культурных и общественных деятелей. Это — человек, страстно любящий свой край, свою малую родину, а через нее и родину-Россию, превращенную Революцией в великий Союз социалистических республик. Иван Михайлович приветствовал творческую инициативу в работе краеведов и боялся превращения краеведческих обществ в учреждения чиновничьего типа. Он не отрицал значения планирования, необходимости находиться в связи с местными организациями. Но он считал, что при планировании необходимо максимально считаться с особыми интересами каждого краеведа. Этот бережный подход к каждому добровольцу краеведческого общества впоследствии ставился ему в вину. Знакомясь на местах со скромными культурными работниками, Иван Михайлович, тронутый их бескорыстной самоотверженной работой, говаривал: «Это подвижники: в старину спасали душу в монастырях, а теперь поддерживают живую душу краеведением».
И мы всюду встречали этих «праведников». Интересно отметить, что, подобно тому, как в эпоху Возрождения возникали целые семьи гуманистов, так в нашу эпоху — целые семьи краеведов: в Рыбинске — Золотаревых, в Костроме и Переяславле — Смирновых11.
Надо было видеть, с какой радостью отмечал Иван Михайлович успехи нового строительства, с каким пытливым вниманием, чуткостью и сердечностью подходил он к каждому краеведу! И краеведы отвечали ему глубоким уважением. В каждом городе в связи с приездом Ивана Михайловича устраивались собрания. На них выступали со своими докладами местные краеведы, иногда с докладом выступал и сам Иван Михайлович. Эти вечера проходили с какой-то торжественностью.
Особую радость доставлял нам умелый показ краеведом родного города. По просьбе Ивана Михайловича осмотр начинался с какой-либо вышки (обычно колокольни). Как в своих научных работах, так и в дни путешествия, Иван Михайлович стремился постичь индивидуальное лицо города, его своеобразие. Малейшая деталь могла оказаться интересной и ценной для выяснения характерных черт города: какое-либо крылечко или наклон крыши, полевые цветы на городской площади, изгиб переулка, скат у реки, название улицы (например, в Курске—Веселая),—все это могло помочь понять особенность городского ландшафта. Нас интересовало нахождение ядра, вокруг которого разросся город, выяснение постепенных наслоений на этом ядре и, наконец, изменения, которые вносила новая эпоха, в те годы еще мало отраженные в ландшафте города12. Иван Михайлович был неутомим. Он шел впереди нас такой бодрой походкой, что казался намного мо
11 В письме к А. Н. Лбовскому от 23 ноября 1954 Н. П. называет В. И. Смирнова и А. А. Золотарева «лучшими русскими краеведами». (ОР ГПБ. Ф. 423. Ед. хо. 644. Л. 3).
12 План изучения городской среды по Гревсу — Анциферову изложен в книге Н. П. «Пути изучения города как социального организма». Л., 1926. См. также: Гревс И. М. Город как предмет краеведения//Краеведение, 1924, № 3. С. 245—258 и Анциферов Н. П. Город как объект экскурсионного изучения//Краеведение, 1926. № 2. С. 167—182.
ложе нас. Мы иногда едва за ним поспевали. Новый город воспринимался им как живое существо, с которым он входил в живое общение. Не так теперь описывают города наши литераторы. Все их внимание обращено на успехи социалистического строительства, которое в конце 20-х годов приняло такие бурные размеры, совершенно изменив характер городов. Но, к сожалению, эти описания обычно так похожи одно на другое, что, не меняя содержания, можно изменять названия городов, улиц, людей. Эта обезличка не радует. Новое, то новое, что действительно бывает сходным в различных городах, должно быть противопоставляемо не только старому, общеописанному и обычно охаянному, а даваться на фоне индивидуальных особенностей каждого города. Нужно познать эту индивидуальность, и тогда новое в сочетании со старым предстанет перед нами более сочным, ярким и в конечном итоге — убедительным.
Душевный подъем Ивана Михайловича во время наших путешествий «из края в край, из града в град» давал ему удивительную неутомимость. Я совершил с ним три таких поездки. Упомянутые мною: в Северный край и в Приволжье, и еще в 1928 г. по южным городам: Тула, Орел, Курск, Воронеж. Я помню нашего padre утомленным только один раз. Это было в чудесном Владимире, после прогулки в Боголюбове и к храму Покрова-на-Нерли. Иван Михайлович и в 1928 г. еще не чувствовал старости. «Дух путешественности» возвращал ему молодость.
Перу Ивана Михайловича принадлежит несколько работ о градоведении13. Я стремился продолжать заложенную им традицию. К сожалению, мы не нашли ни понимания, ни продолжателей. Город как особый организм не изучался никем. Его не изучают целокупно. Им занимаются коммунальные работники, архитекторы, искусствоведы, историки. Но город нужно изучать, вскрывая связи, исторически сложившиеся между всеми сторонами его сложной жизни, его нужно изучать хорошо организованным коллективом различных специалистов, объединенных в Градовед-ческий институт. Для этого, видимо, еще не пришло время.
Круг интересов Ивана Михайловича был чрезвычайно широк. После него осталось очень много рукописей, готовых к печати. Они не соответствуют требованиям переживаемого нами исторического часа и не могут быть напечатаны, а между тем на мне лежит ответственность за их судьбу. Иван Михайлович хотел завещать мне все свое литературное наследие. Я решительно отклонил это его желание: я уже не считал себя сведущим в отношении трудов Ивана Михайловича по его специальности, которая, увы, уже давным-давно перестала быть моей специальностью. Я согласился лишь принять наследие по тургеневским его «штуди-ям». Но и их пока пристроить я не имел возможности. Тургенев был особенно близок Ивану Михайловичу. Его труд «Любовь Тургенева» выдержал два издания и, как мне говорили, был включен в число книг, рекомендуемых Лигой наций. Однако многие
13 См. упомянутые в прим. 8 к настоящей части обзоры О. Б. Враской и С. О. Вяловой.
сурово судили эту книгу. Они считали, что Иван Михайлович подошел ненаучно к этой проблеме, что он идеализирует отношения русского писателя и Виардо. Я убежден, что Иван Михайлович правильно поставил вопрос. Судить об их отношениях можно (на основе имеющихся материалов) не только на основе показаний современников, не расположенных к Виардо, обвинявших ее за отъезд Тургенева из России. Она-де нимфа Калипсо, держащая в плену Одиссея, стремящегося на родину. Иван Михайлович был убежден, что Тургенев, столь умный и тонкий человек, не был ослеплен отношениями с Виардо, что тон его писем должен был соответствовать и тону писем Виардо, что переписка любящих — дуэт, имея письма одного, мы уже кое-что можем представить и (о письмах] другого. В свой труд Иван Михайлович вложил (...) высокое представление о любви и дружбе.
Среди рукописей Ивана Михайловича есть одна, посвященная женским образам, связанным не с творчеством, а с жизнью Тургенева14.
Я очень люблю книгу padre «Тургенев и Италия», в которой он собрал и глубоко проанализировал все образы Италии в творчестве любимого им автора, все высказывания его о любимой нами стране.
В литературном наследии Ивана Михайловича есть его работа о Спасском-Лутовинове15. Мы посетили вместе с [ним и Т. Б. [Лозинской] и Орел с его Тургеневским музеем, и «Дом Лизы Калитиной», и чудесное Спасское-Лутовиново. Я навсегда запомню тот час, когда мы втроем видели на диване «Самосон», рассматривали, как маленький Лаврецкий, книгу Максимовича-Амбодика «Символы и эмблемы». А закрыв эту книгу, padre прочел нам страницы «Дворянского гнезда», где описана эта старинная книга16.
Одно из последних воспоминаний об Иване Михайловиче — вечер в городе Пушкине на даче Сидоровых¹. Окруженный их дружественной семьей, Иван Михайлович читал нам те страницы «Дворянского гнезда», которые он сам слышал в исполнении самого Тургенева. Иван Михайлович при этом живо подражал манере читать писателя, его интонациям и жестам. Наш padre был замечательный мастер имитировать речь Кареева, Зелинского, От-токара. Я помню также, как изображал он речь Гастона Буас-сье. Этот юмор, такой добродушный, мало кто знал в Иване Михайловиче. (Когда я писал свое предисловие к «Дворянскому гнезду», я мысленно посвятил его памяти своего padre)17.
Иван Михайлович также умел пересказывать содержание полюбившихся ему книг. Особенно запомнился мне его рассказ из «Анны Карениной» во время нашего переезда на пароходе из Костромы в Нижний. Был вечер. Иван Михайлович, Татьяна Борисовна и я сели ужинать. Вспомнился совет Василия Ивано-
¹ Родственников И. М. Гревса. (Прим. публ.)
14 Итоговой работой Гревса на эту тему является рукопись «Женские образы в жизни Тургенева: библиографические, культурно-исторические и психологические очерки» (1933) —ЛО ААН. Ф. 726. On. 1. Ед. хр. 249. См. также отдельные материалы (там же. Ед. хр. 238—248, вторая полдвина 1920 — нач. 1930-х).
15 Вероятно, речь идет о рукописи Гревса «Спасское и Россия в творчестве Тургенева: очерки по истории его миросозерцания» (1927—28, 309 лл. — ЛО ААН. Ф. 726. On. 1. Ед. хр. 236).
16 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем в 30-ти тт. 2-е изд. Т. 6. М., 1980. С. 39. Речь идет о книге Нестора Максимовича Максимовича-Амбодика (1744— 1812) «Емвлемы и символы избранные, на российский, латинский, французский, немецкий и английский языки преложенные, прежде в Амстердаме, а ныне во граде Св. Петра напечатанные, умноженные и исправленные...» [СПб], 1788.
17 Речь идет о статье Н. П. «Роман Тургенева „Дворянское гнездо"»//Тургенев И. С. Дворянское гнездо: Роман. М., 1944. С. 3—20. То же—Свердловск, 1947. С. 3—12. На работы Н. П. о Тургеневе обрушился С. Л. Львов (см. его рецензию под псевдонимом Ю. Сергеев на кн. Н. П. «И. С. Тургенев (1818—1883)» (М., 1947) — Либеральное недомыслие//Литературная газета. 1948. 10 января. См. также: ЦГАЛИ СССР. Ф. 2289. Ед. хр. 67. Л. 19). Реалии домашней семантики Н. П. кодировал также в книге «Пригороды Ленинграда» (М., 1946. С. 75) в надежде на то, что книгу прочтет находящаяся на чужбине дочь. (См.: ОР ГПБ. Ф. 27. Ед. хр. [19]. Л. 38об.).
вича Смирнова заказать стерлядок «колечком». Их не подали. Тема заказа вызвала воспоминание о том, как Левин со Стивой Облонским заказывали себе обед. Иван Михайлович так прекрасно передавал их разговор с лакеем-татарином, что мы с Татьяной Борисовной были изумлены этим неожиданно проявившимся талантом.
Чувствую, что теряю стержень своего рассказа. Вспоминается то одно, то другое из общения с дорогим учителем. Близость моя с ним в течение стольких лет была великим даром судьбы. Его необыкновенная сердечность, отеческая забота о каждом из своих учеников особенно ярко проявились в отношении меня.
Помню вечер, когда Иван Михайлович после одного затянувшегося заседания близ нашего дома зашел к нам и остался ночевать. Я провел его в свой кабинет, он осмотрел шкафы с книгами, картины на стенах, обвел взором всю комнату, словно подводя итог, и, улыбнувшись, указал на дверь: «Там, значит, ваша Таня с Таточкой». Я кивнул. Padre положил мне обе руки на плечи и сказал: «Ну вот, все хорошо, как ладно вы начали свои зрелые годы». Я был взволнован, воспринял и этот жест, и эти слова как благословение. Когда родился наш первенец Павлйнька, Иван Михайлович его крестил. Малютку полюбила вся семья padre. Мария Сергеевна называла его Жаном Кристофом. «У него какой-то не по возрасту мудрый взор», — говорила она.
Летом в 1918 г. Гревсы жили в квартире А. И. Анисимова в Петергофе близ Верхнего парка. Этот небольшой дом был превращен в музей с ценнейшим собранием древнего русского искусства. Эти дни вспоминаются мною как последние безоблачные дни нашей личной жизни, достигшей той глубины и внутренней тишины, которые кажутся пределом возможного на земле счастья. Так было несмотря на то, что уже начался голод, что грозные тучи повисли над страною, что враг уже захватил Псков, что внутри страны один за другим являлись симптомы Гражданской войны. Но от этого мрака огонь домашнего очага был так ярок, как никогда прежде.
В июле 1919 года умерли наши дети, и семья Гревсов была нашей опорой в окутавшем нас мраке. С кладбища мы пришли к ним и провели у них ночь. Страшно было возвращаться в опустелый дом.
Когда родился Светик — его крестила Мария Сергеевна, и мальчик всю жизнь называл ее своей «Крекой». Летом 1921 года мы жили вместе в Павловске. Особенно запомнился мне тот вечер, когда мы вышли гулять в парк. Таня несла Светика на руках в чепчике Таточки. Мы встретили Ивана Михайловича. Он всматривался в черты ребенка и, улыбнувшись, сказал: «Как он похож на Таточку». Сказал это тихим голосом. В этот вечер он прочел по записной книжке «Alter ego» Фета — то стихотворение, в котором я узнал свою любовь к Тане. В квартире Гревсов на письменном столе padre, на полочках появились портреты моей
семьи. В 1925 году — в трудные дни — Гревсы взяли к себе нашего Светика18. Я помню, как [в] окне-фонаре их квартиры на 8-й линии выглянуло лицо сына и как встретила радостно меня вся [их] семья. И я всегда, до последних лет, проезжая на кладбище мимо этого дома, посматривал на то окно-фонарик.
Я уже писал, как <..> возвращаясь после долгих и страшных лет разлуки в день моего рождения 12 августа 1933 года, посетив первым долгом кладбище, я со Светиком поднялся на 3-й этаж к Гревсам как в отчий дом.
Летом 1928 года семья Гревсов жила в нашем доме в Детском Селе. И я мог из окна <..> ванной видеть Ивана Михайловича уже сидевшим на скамье нашего чудесного садика с книгой в руках, со склоненной головой. Каким миром, какой тишиной веяло от него тогда! (А ведь он по существу не был «спокойным человеком».) Наступил страшный год, когда рухнула моя жизнь, когда «распалась связь времен». Умерла Таня. Как известить меня? Друзья понимали, что не вправе ни один день скрывать от меня эту смерть. Но известить телеграммой, несколькими страшными словами казалось жестоким. Нашли выход. Письмо мне передал в руки брат одной моей сослуживицы. Письмо Ивана Михайловича. Вот оно:
«24 сентября 1929 г. Дорогой друг мой! Выпало мне на долю сообщить Вам ужасную весть: в ночь на 23 сентября в третьем часу скончалась Ваша Таня. Ваша истинная любовь и Ваша крепкая вера помогут Вам перенести это новое тяжелое горе так, как Вы когда-то перенесли смерть Ваших старших детей. Тогда было легче — она была с Вами, но и теперь Вас поддержит неумирающий образ ее чудной души. Мы не решаемся оповестить Вас о постигшем Вас ударе внезапною резкою телеграммой. Простите нас! Мы думаем, пусть она лучше дойдет до Вас, хоть несколько дней позже, но начертанная дружеской рукою. Может быть, Вы ждали того, что совершилось. Таня несла разлуку, несла и болезнь с тою светлою силой, которая была ей присуща, несла как настоящая праведница, с неослабевающим мужеством и неповторимою простотою. Ни разу не изменила она своей замечательной духовной природе. Она много страдала телесно, но ее поддерживала вера и любовь. Чувствами своими и своим помышлением (Вы знаете это) она неразрывно была с Вами. Последний вечер и последнюю ночь ей стало легче (она сама несколько раз говорила это), до последних минут она была в сознании, все думала о Вас, о детях, об окружающих близких, все надеялась — и так тихо заснула; теперь мир покоится на ее лице. То полное единение, которое Вас связывало в протекшие счастливые годы Вашей общей жизни с нею, сохранится и в будущем, в вечности в Вашей любящей душе: это даст Вам и дальше нераздельно с нею жить. Похоронить Таню мы надеемся завтра вблизи Таты и Павлика. Маленькая Таничка эти дни пробудет у нас. Светик в детском санатории, и ему там хорошо. Вы знаете, что мы — друзья — о них позаботимся, так
18 Речь идет о первом аресте Н. П. См. прим. 25 к части седьмой.
же, как о маме Вашей, и будете покойны за них. Да хранит Вас Бог! Обнимает Вас крепко Ваш старый учитель! Любящий Вас всею душою. Ив. Гревс».
Так учитель стал отцом.
Это письмо скажет об Иване Михайловиче лучше, чем я могу написать о нем на сотне страниц19.
2
Н. П. АНЦИФЕРОВ
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 20-Х ГОДОВ [КОНСПЕКТ]20
На съезде по реформе высшей школы Луначарский сказал: «Это большая удача для русского народа, что после социальной революции власть захватила такая культурная партия, как большевики».
В те годы я принадлежал к среде, которая не верила в возможность в бурях гражданских войн большевикам уцелеть. История учила, что всякая революция кончается каким-нибудь термидором, либо каким-нибудь брюмером. Однако я [и] мои товарищи и друзья считали своим радостным долгом помочь Советской власти в области культурной революции. «Радостным», т. к. все мы были захвачены сознанием, живым ощущением пробуждения могучих сил народа. Все бурлило. Открывались новые возможности для применения своих сил. Создавались новые учреждения, где мы могли работать, новой жизнью закипали старые. «Какие огненные дали открывала нам река» (Блок). Новые люди, нет, не люди, а социальные слои хлынули в культуру21.
Я и мои друзья по Эрмитажному кружку прежде всего смогли приложить свои знания в области музейной и экскурсионной работы.
Музейный отдел (на Дворцовой набережной). Представители партии в нем С. К. Исаков, Коплан Б. М. (?)22, Ятманов. Легкая конница: Пунин и Полетаев. Их загибы. Экскурсионное ядро в Музейном отделе: И. М. Гревс, О. М. Рындина, Я. А. Влядих-Вейнерт, Н. Н. Вейнерт, А. В. Карлсон. Из Эрмитажного кружка Г. Э. Петри, А. П. Смирнов и я. Из кружка 20-ти: Б. П. Брюллов, (Черепнины).
Очередная задача — разработка экскурсионной методики.
Связи с Москвой. Моя поездка в 1920 г. Контакт с Музейным отделом. Л. Б. Случевская. Приезд в Петроград московских экс-курсионистов.
Группа Н. А. Гейнике (историка) и А. В. Бакушинского (искусствоведа). Моя работа с ними. Их высокая оценка наших экс-курсионистов. Дружба москвичей и петроградцев. Организация
19 Согласно первоначальному замыслу план воспоминаний о Гревсе имел следующий вид: а) Профессор// б) Путешественник// в) В семье// г) Учитель// д) Друг//е) Последние встречи/ (ОР ГПБ. Ф. 27. Ед. хр. [I]. Л. 1). Был ли написан последний раздел, нам неизвестно.
20 ОР ГПБ. Ф. 27. Ед. хр. [19]. Л. 2—5. Подзаголовок дан нами.
21 О другой стороне этого явления пишет Влядих-Вейнерт: «Вспыхнула революция. Первые дни ее отмечались выходом рабочих масс на улицу. К ним иногда присоединялись неорганизованные единицы, а порой и злонамеренные группы, считавшие художественные памятники вредными». В такой обстановке многие интеллигенты посчитали необходимым объединиться с целью защиты национальных сокровищ. В конце марта 1917 кружок слушателей Института истории искусств объединился с делегатами . от Археологического института. Института гражданских инженеров. Высших женских курсов и историко-филологического факультета университета с целью фактической охраны памятников и широкой пропаганды знаний по искусству. Под руководством Н. В. Вейнерта был разработан план организации милиционной охраны художественных ценностей, выпущены воззвания к населению о необходимости бережного отношения к культурному достоянию, подготовлены обращения к правительству с призывом принять срочные меры по пресечению вывоза предметов искусства за границу и начавшейся уже кое-где распродажи предметов церковной и монастырской утвари. Активное участие в деятельности нового кружка приняли хранитель Русского музея П. И. Нера-довский и старая революционерка В. Н. Фигнер.
Силами кружка организовывались и первые массовые экскурсии по художественным музеям: 30 апреля 1917 — для 150 солдат Измайловского полка, 7 мая — для 100 слушателей Республиканских солдатских курсов, 11 мая — для 200 рабочих Путиловского завода и т. д.
В середине мая кружок Вейнерта был преобразован в Общество распространения историко-художественных знаний. В Обществе было около 100 членов, работавших в научной, экскурсионной, лекторской и графической секциях. Оно спасло от разъяренной толпы памятник Александру III работы П. Трубецкого и охраняло Публичную библиотеку от демонстрантов. Общество сотрудничало и с Лигой «Культура и свобода», и с Союзом деятелей искусств, упрекая последний в неорганизованности и пассивности «в то время, когда народ является хозяином страны» (б ноября 1917). Последний, правда, продолжал относиться к Обществу с симпатией, «но все сводилось к личным связям и чувствам, которые не укрепляли <...> правовой базы». Велики были и материальные трудности: за май 1917—октябрь 1918 бюджет Общества составил всего 600 рублей. Когда в Октябре 1918 при Музейном отделе Наркомпроса была образована экскурсионная секция, ядро Общества вошло в ее состав. Так появилась правовая и незначительная материальная основа для развития экскурсионного дела в Петрограде. Было предоставлено и помещение (в Зимнем дворце). С ноября 1918 в Эрмитаже и Русском музее были установлены первые дежурства профессиональных экскурсоводов для обслуживания посетителей. Однако фон этой работы оставался общим для всей страны: холод, голод, инфляция, отсутствие канцелярского аппарата и т. п. «Иногда (...),—вспоминает Влядих-Вейнерт,—бывали просветы. (...) Музейный отдел получил разрешение удовлетворить служащих предметами немузейного назначения из дворцовых фондов <...>. Каждый сотрудник получил скатерть (кажется, на б персон), и белые суконные камергерские брюки, поеденные молью; те же, кто работал в особняках, — в придачу еще и тулуп».
22 У Я. А. Влядих-Вейнерт — Михаил Борисович Каплан, заведующий Экскурсионной секцией Музейного отдела, позднее — директор Музея революции.
экскурсий в Тенишевском училище и во 2-м Педагогическом институте им. Некрасова. Связь их с курсом. Экскурсии в Русский музей и в Эрмитаж. Экскурсии по городу. Дальние экскурсии с тенишевцами в Москву, Новгород, Псков, Мурманск, на Кивач. Статья в журнале «Север», № 2 23.
Пригородные дворцы — центры экскурсионной работы. Размножение в них сил Музейного отдела (Павловск: Влядих, Сапожникова; Царское Село: О. М. Рындина; Петергоф: Рубец). Сотрудничество с директором Дворцов-музеев: Павловск — Теле-поровский, Царское Село —Яковлев, Гатчино — Макаров, Петергоф— Бернштейн. Характеристика каждого из них. Значение опыта работы во дворцах для разработки экскурсионной методики.
Создание Экскурсионного института. Привлечение крупнейших ученых. 3 разных отдела: Гуманитарный — И. М. Гревс; помимо сотрудников Музейного отдела: проф. Ф. Ф. Зелинский, проф. О. А. Добиаш-Рождестве некая, проф. В. А. Головань, А. Ю. Якубовский. Экономо-технический отдел: директор Электротехнического института профессор Дмитриев. Естественно-исторический отдел (природоведение): Римский-Корсаков (сын композитора), проф. Б. Е. Райков.
Директор института — член партии Э. В. Краснуха.
Поездка в Москву членов Экскурсионного института. Показ москвичам своей работы. Остоженка. Арбат.
Совместная экспедиция сотрудников Экскурсионного института и института методов внешкольной работы (Москва). Роль Д. И. Шаховского. Первая встреча. Состав экспедиции, ее подготовка. Ее организация. Наш вагон. Задача: изучение городов [по маршруту] Вологда — Галич. Северная Фиваида. Кириллово-Белозер-ский монастырь, Ферапонтов монастырь. Обитель Нила Соре кого.
Вологда. Что интересно на Вологодчине? Фрески. Польские панны на фреске. Северный рай — зима — белые чайки, белки, зайцы, белые медведи.
Галич. Рабочий [рыбачий?] поселок. Слуховое окно. Холм Шемяки — легенда о золотом корабле, 12 молодцах, 12 жеребцах. Кириллово-Белозерский. Мощные стены. Озеро. Восход, закат. Зеленый луг. Иконы Рублева. Ферапонтов монастырь. Мои [нрзбр.]. Дионисий. Быт экспедиции. Олеарио Брюллова в экспедиции. Череповец24.
Черепнины. Лекции по истории культуры. Отчетная поездка в Москву. Подготовка сборника.
По северной Фиваиде. Смирнов — Ферапонтов монастырь. Якубовский — Кириллово-Белозерский и я — обитель Нила Сорского. Нападки на меня преподавателя истории Жаворонкова, не понимающего значения «чувства места».
23 Анциферов Н. П. По пути в Мурманский край.//Север, 1923, № 2. С. 182— 198.
24 В экспедиции на Север участвовали 35 человек, из них 12 были сотрудниками ПЭИ. Помимо Гревса и Анциферова в поездке приняли участие Б. П. Брюллов, Н. В. Вейнерт, Л. Н. Пескова, Н. П. и Т. Н. Черепнины, А. П. Смирнов, А. Ю. Якубовский. В экспедиции были созданы подкомиссии: историческая, топографическая, художественная, педагогическая, по изучению монастырей. Велись записи, дневники, делались зарисовки. Экспедиция разместилась в двух вагонах, в одном из которых везли библиотеку и продовольствие. Поезд отправился 10 августа 1922 из Петрограда. В Вологде экспедицию встречали местные краеведы, осмотром города руководил ^естный историк Суворов. После объезда монастырей (Прилук-ского, Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и др.Т'э»сспедиция вернулась в город, где новые экскурсии были проведены уже силами ее участников: культурно-историческую провела москвичка Яцунская, художественную — Н. П. Федорова и Б. П. Брюллов. Краеведческая группа обследовала современный город: быт его жителей, деревень и .монастырей. Таким же образом экспедиция работала и в других крупных пунктах своего маршрута.
При наличии большого единомыслия москвичи и петроградцы различались в уклонах. У москвичей превалирует анализ зрительных впечатлений (вопросно-ответная система, злоупотребление ею). Опыты молчаливых экскурсий, «медленное смотрение» Бакушинского (экскурсия в художественную галерею с осмотром 3 картин), как «медленное чтение» Гершензона.
У ленинградцев — преобладание лекционных моментов.
Больше мыслей, шире постановка тем. Мастерство школы Гейнике. Его ученицу можно на самолете перенести в неведомый ей город, завязать глаза, отвести на площадь и там снять повязку. Она осмотрится, подумает и поведет экскурсию. Мастерство читать городской ландшафт. Микроландшафты Гейнике.
О московской и ленинградской группах сказала Крупская: «В области культурно-просветительной работы нет другого примера тесного дружеского сотрудничества, как у экскурсионистов».
Семинарии пригородов. Павловск. Лето 1921 года. Организация обществом «Старый Петербург» при деятельном участии С. Н. Жуковского. Директор Павловских дворцов-музеев В. Н. Талепоровский, при нем Конашевич. С семинарием связаны: И. М. Гревс, Александр Бенуа, Вл. Курбатов, Макаров (директор Гатчинского музея), художник Рылов, специалист по мебели П. Вейнер («Старые годы»). Занятия во дворце и парке с семинарами25.
Работы семинария по благоустройству. Экскурсии по парку (Курбатов) и по городу (Талепоровский). Разработка экскурсии по залам дворца. Работа Т. В. Сапожниковой по подготовке реставрации ансамбля первого этажа. Вечер в концертном зале дворца. Viola di gamba голландских музыкантов26.
Наша жизнь на антресолях правого крыла дворца. Асафьев.
Александровский увеселительный сад. Поэма Джунковского27.
Разработка мною экскурсии «Роза без шипов»28.
Смерть Блока и его похороны.
Мариэтта Шагинян, «Блэк энд Уайт».
Подготовка смены. Кто вышел из наших пригородных семинариев?
Царскосельский семинарий, петергофский. Семинарий Политпросвета. Изучение С.-Петербурга. Школьная экскурсионная секция. К. В. Рубец.
Связи с нашей группой Экскурсионного института. Выезды в пригороды для инструктирования. Показательные экскурсии. Приезжавших «угощали» новыми экскурсиями.
Из наших семинариев вышли: Гайдукевич, Гейченко, Орлов, Раков, Чирсков, Банк, Шульц, Каргер [?], Лисичевский (?], Глинка. (Их характеристики.)
Павловский семинарий был ядром. Это начало. Его первые руководители Петри и Анциферов. Царское Село — Рындина, организаторы семинария — супруги Вейнерт. Я продолжатель. Дво-
25 Лето 1921, проведенное в Павловске с Гревсами, и семинарий экскурсоводов, организованный там при активном участии хранителя дворца архитектора В. Н. Талепоровского и художника В. М. Конашевича, — одно из самых светлых воспоминаний Н. П. Там «собрался, — писал он, — последний цвет питерской интеллигенции. Александр Бенуа, А. П. Остроумова-Лебедева, Рылов, Курбатов, Эйхенбаум, Жирмунский и много других» (ОР ГПБ. Ф. 27. Инв. № 1965. 34. Тетрадь II. Л. 22.) Формально семинарий по изучению Павловска проводился под эгидой Политпросвета и Музейного отдела. Он открылся 10 мая. Во главе всего предприятия стоял Гревс, которому деятельно помогал Н. В. Вейнерт. Занятия кроме сотрудников Эрмитажа вели С. Ф. Платонов, А. Е. Ферсман, Александр и Альберт Бенуа и др. Для жилья постоянных сотрудников семинария, заезжих лекторов и под общежитие для слушателей была выделена часть дворцовых помещений. Хозяйственную часть возглавлял сотрудник общества «Старый Петербург» И. И. Жарновский. Едва ли не впервые здесь был применен комплексный подход в обучении, причем лекторы и слушатели подчас менялись ролями. Ферсман рассказывал о минералах, использованных для отделки дворца. Талепоровский и его коллега Л. А. Ильин наглядно демонстрировали приемы сохранения идеи Камерона. Внесли свой вклад и «парковый авторитет» В. Я. Курбатов, и «требовательный классик» О. Ф. Вальгауэр, показывавший скульптуру, и известный бронзовщик П. П. Вейнер. Пристальному изучению подвергалось все: и музыка, и деревья, и мебель, и вышивка. В конце рассказа об этом семинарии Я. А. Влядих-Вейнерт пишет: «Повышенная атмосфера, влюбленность не ослабевали до самого конца, который достойно завершил работу выставкой больших, примкнувших к семинарию художников и концертом на старых инструментах из произведений композиторов XVIII — начала XIX в., устроенном в зале Павловского дворца». Удовлетворен был и Политпросвет: посещаемость Павловска резко возросла.
26 Виола да (ди) гамба — струнный смычковый инструмент XVI—XVIII вв., теноровая виола.
27 Речь идет о поэме С. С. Джунковского «Увеселительный сад Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Павловича» (СПб., 1793).
28 «Храм розы без шипов» — экскурсия Н. П. по части царскосельского парка, разбитой Екатериной II для внука Александра как иллюстрация одноименной сказки XVIII в., морализирующей в духе Руссо и Лагарпа. Интересна параллель, напрашивающаяся между этой работой Н. П. и одной из легенд о Франциске Ассизском, согласно которой последний, войдя в монастырский сад, снял с себя одежды и бросился в чащу тернового куста, «дабы отчасти познать мучения Учителя, но тернии обратились в розы без шипов» (Барон А. Франциск Ассизский. СПб., 1910. С. 60).
рец Палей, Дворец Марии Павловны. Арсенал. Китайский городок. Дворец Шуваловых.
Этапы: 1) Мой и Ядвиги Адольфовны Вейнерт.
2) Шебунин.
3) Коммунисты. Яговдик и др. [Яковчик?].
Петергоф. Рубец.
Детское Село. Юбилей Академии наук (...) Приезды МХАТа 1-го. Лужский; МХАТ 2-ой—Берсенев—Гиацинтова. Оперный театр.
Немирович-Данченко (Остроумов).
Школьная экскурсионная станция.
Рубец. Лозинская.
Старый Петербург. Столпянский. Раскол. Борьба двух групп.
Кони (юбилей). Вечер в Городской думе, посвященный Достоевскому.
Кони о смертной казни в творчестве Достоевского.
Я. Петербург Достоевского. Заказ Замысловской мне лекции о Петербурге. Как я приступил к «Душе Петербурга». Как выросла книга «Петербург Достоевского». (...) Каланча на Съезжинской. Разыскивание домов героев «Преступления и наказания». Как я нащупал фон городского ландшафта для Свидригайлова и Раcкольникова. Встреча с Лунцем: «Ищите дома Достоевского не на улицах Петербурга, а на страницах романов Бальзака и Диккенса»29. Так экскурсионная работа подсказала мне книги «Локальный метод», статьи в «Краеведении», «Быль и миф Петербурга».
Полемика со Столпянским. Доминанты улиц. «Улица рынков», «Улица Красных Зорь». Район Старого порта. Тучкова набережная.
Дальняя экскурсия на Север.
Методика экскурсий по обществоведению.
Методика литературных экскурсий.
Мои работы по градоведенью вытекали из экскурсионной работы.
Неопубликованные экскурсии.
Музей архитектуры — набережные Невы.
Улица просвещения — Университетская набережная.
От Зоологического музея — до Горного института.
Екатерининский парк в художественной литературе.
Ложный стиль в Царском Селе (китайский, готический, русский).
По Ленинграду. Путеводитель и его судьба.
Работа московского периода.
29 В одной из автобиографий Н. П. писал: Ленинградские формалисты мне доказывали, что я иду по ложному пути, что литература питается литературной традицией, а не реальными явлениями или памятниками жизни и истории». (ГЛМ. Ф. 349. On. 1. Ед. хр. 55. Л. 3.)
Хронологическая канва жизни и творчества Н.П. Анцыферова
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. П. АНЦИФЕРОВА
1889, 30 июля (11 августа) — Н. П. Анциферов родился в имении Софиевка под Уманью.
1891 — назначение отца директором Никитского сада и переезд семьи в Крым.
1897, весна — лето — поездка за границу для лечения отца (Берлин, Наугейм, Вильдунген).
1897, 18 ноября — смерть отца.
1897—98, зима — жизнь с матерью в семье ее родных Леванда в Софиевке.
1898. лето — переезд в Ново-Александрию Люблинской губернии к племяннику отца Н. М. Сибирцеву. Начало дружбы с семьями Делоне и Фортунатовых.
1899. конец августа — переезд в Киев. Знакомство с семьей Навашиных.
1900. весна —посещение Софиевки.
1900. лето — пребывание на даче в Мотовиловке; домашний театр; начало дружбы с А. Поповым; начало игры в рыцарей.
1901. лето — пребывание в имении Белокопытовых Дубрава.
1902. осень — отъезд Фортунатовых в Москву.
1903. весна — первая поездка в Москву.
1903—04 — годы религиозного кризиса.
1904, весна — посещение Софиевки.
1904, лето — разгар рыцарской игры; пребывание в Святошине у Навашиных; влюбленность в Т. Навашину.
1904. осень — поступление в пятый класс Первой киевской гимназии.
1905. начало — последний расцвет рыцарской игры; знакомство с творчеством Толстого и Достоевского.
1905, лето — пребывание в имении Курбатовых Барановка Рязанской губернии.
1905, осень — революционные события в Киеве.
1906, весна-лето - занятия с крестьянскими детьми в Барановке.
1906, осень - отъезд с матерью в Ниццу.
1907, весна - возвращение на родину, знакомство с семьей Оберучевых.
1907, лето - пребывание в Крыму с Г. Фортунатовым и В. Белокопытовым; встреча с друзьями детства.
1907, осень - смерть Е. Н. Белокопытовой.
1907, осень – 1908, январь - участие в кружке «Номера тридцать седьмого».
1908, февраль - отъезд в Петербург; подготовка к выпускным экзаменам.
1908, весна - возвращение в Киев, провал на экзаменах.
1908, весна-лето - первое путешествие в Норвегию.
1908, лето - посещение Барановки.
1908, осень - жизнь в Москве, подготовка к экзаменам.
1908, ноябрь - переезд в Петербург.
1908-1909, зима - поездка в Киев.
1909, весна - сдача экзаменов экстерном в Петербурге.
1909, лето - пребывание в имении Л. Г. Гессель, тетки Т. Оберучевой (Алферово Смоленской губернии).
1909, осень - поступление на историко-филологический факультет С.-Петербургского университета; участие в сходке протеста против казни испанского республиканца Ф. Феррера.
1910, лето - первая поездка в Швейцарию и Италию, пребывание на Villa Schiller под Брунненом.
1910 - начало деятельности Эрмитажного кружка.
1910, ноябрь - поездка на похороны Л. Н. Толстого.
1911, весна - студенческая забастовка.
1911, март-май - пребывание в Париже с В. Н. Белокопытовым.
1911, май - посещение Гейдельберга (лекции Виндельбанда) и Нюрнберга.
1911, май-лето - вторая поездка в Швейцарию и Италию, пребывание на Villa Schiller
1911, осень - лекции Н. П. в Алферове об итальянском искусстве.
1912. май — июль — экскурсия по Италии с И. М. Гревсом.
1913. лето — второе путешествие в Норвегию.
1914. 5 февраля — женитьба на Т. Н. Оберучевой.
1914. март — июль — свадебное путешествие по Швейцарии и Италии.
1915. 5 марта — рождение дочери Наталии (Таточки).
1915, 25 мая — участие Н. П. в демонстрации перед итальянским посольством в Петрограде.
1915, лето — подготовка в Алферове к государственным экзаменам.
1915, осень — окончание университета.
1915, ноябрь—1919, 1 января — Н. П. оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории историко-филологического факультета Петроградского университета.
1915—1917— преподавание в частной женской гимназии Н. Н. Яворской и реальном училище А. С. Черняева.
1916. лето — подготовка в Алферове к магистерским экзаменам.
1917. февраль — восторженное отношение к политическим событиям (письмо на фронт к другу юности Н. Н. Дрейеру).
1917— начало литературной деятельности.
1917, май — июнь — посещение Никитского сада с женой и дочерью.
1917—1929 — работа в отделе Rossica Публичной библиотеки.
1918, 27 февраля — рождение сына Павла.
1918—1925— участие в религиозно-философских кружках А. А. Мейера «Вторник» и «Воскресенье».
1918— участие в журнале «Свободные голоса».
1918—1923— преподавание в Тенишевском училище; руководство экскурсиями учащихся в Мурманский край, в Псков и Новгород.
1919, июль — смерть детей Павла и Наталии.
1919, осень — начало работы над «Душой Петербурга».
1919, осень — преподавание в детской колонии в Красной Славянке, наступление Юденича.
1919—1920— преподавание истории средних 1924, декабрь веков во Втором педагогическом институте им. Некрасова (Петроград).
1919—1921 — работа в Отделе музеев Петроградского управления научных и научно-художественных учреждений.
1921- опубликованы первые статьи о литературных экскурсиях.
1921, март - рождение сына Сергея (Светика).
1921, лето - участие в юбилейном вечере Данте.
1921, лето - работа в летнем экскурсионном семинарии в Павловске.
1921, август - участие в похоронах А. Блока.
1921- статья «Непостижимый город: Петербург в поэзии А. Блока».
1921—1924 - работа в Гуманитарном отделе Петроградского экскурсионного института.
1922 - вышли в свет «Душа Петербурга» (Пг.) и «Ламенне» (Берлин).
1922 - работа в летнем экскурсионном семинарии в Детском Селе.
1923 - участие в историко-искусствоведческой экспедиции по городам Северной Фиваиды под руководством И. М. Гревса.
1923 - вышли в свет «Петербург Достоевского» и статьи о литературных и исторических экскурсиях.
1924 - «Быль и миф Петербурга», сборник «Каменный век», статьи об исторических экскурсиях (в т. ч. по Эрмитажу).
1924—1925, лето - семинарии экскурсоводов в Детском Селе.
1924, лето - посещение Барановки.
1924 - рождение дочери Татьяны.
1924 - закрытие Экскурсионного института, начало работы на лекторско-экскурсионной базе Ленгубоно.
1920-е, середина - Н. П. становится научным сотрудником Центрального бюро краеведения (ЦБК).
1924, декабрь - посещение Киева.
1925-1926 - «Пути изучения города как социального организма», «Город как выразитель сменяющихся культур», «Современные города» и др. книги и статьи по градоведению, краеведению, экскурсионистике и истории средних веков.
1925 - арест, этап в Новосибирск и Омск, освобождение по пересмотру дела.
1925, лето - путешествие с И. М. Гревсом по городам Приволжья.
1920-е, вторая половина - руководство семинарием на литературном факультете Института истории искусств.
1926 - поездка от ЦБК для знакомства с краеведческой работой в западных областях.
1927-1929 - «Жизнь города», путеводители по окрестностям Ленинграда, статьи по краеведению и экскурсионистике.
1927, август - участие в Восьмом рыбинском краеведческом съезде.
1927, сентябрь - участие в съезде археологов в Херсонесе, посещение Никитского сада.
1927. декабрь - участие в Третьей Всероссийской конференции по краеведению, избрание в действительные члены ЦБК.
1928, лето - командировка от ЦБК вместе с И. М. Гревсом и Т. Б. Лозинской в Тулу, Орел, Курск и Воронеж.
1928, декабрь - арест А. А. Мейера, К. А. Половцевой и др.
1929, начало - доклад в ЦБК В. А. Федорова с нападками на «Душу Петербурга».
1929, апрель - арест по делу «Воскресения» (Н. П. приговорен к 3 годам лагеря).
1929, 10 августа - прибытие на Кемский пересыльный пункт (Попов остров).
1929. 23 сентября - смерть Т. Н. Анциферовой в Детском Селе.
1930. май - арест по внутрилагерному делу, угроза расстрела.
1930, июнь - перевод на Соловки; увеличение срока заключения на 1 год.
1930, лето - возвращение в ЛенДПЗ для следствия по «делу Академии наук».
1931 - увеличение срока до 5 лет: перевод в Медвежью гору на строительство Беломоро-Балтийского канала.
1933, март - смерть матери Н. П. в Ленинграде.
1933, осень - освобождение из Белбалтлага по зачетам, возвращение в Ленинград.
1933—1937 - работа над книгами «Вокруг Герцена» и «Летопись жизни и творчества А. И. Герцена» для издательства «Academia»
1934 - переезд в Москву, женитьба на С. А. Гарелиной.
1934—1937 - работа (совместно с А. А. Золотаревым) над монографией о Ярославле.
1934—1936 - работа в Коммунальном музее (Музее г. Москвы).
1934—1937 - работа в Государственном литературном музее.
1937, лето - посещение Никитского сада.
1937, осень арест, Бутырская и Таганская тюрьмы, этап на Дальний Восток.
1939, конец - освобождение из уссурийского лагеря по пересмотру дела, возвращение в Москву.
1939—1956 - работа в Государственном литературном музее (в 1944—49 — во главе Отдела литературы XIX века).
1940—1957 - статьи, брошюры и публикации о Герцене, Тургеневе, Лермонтове и др., по литературоведческому краеведению и музейному делу.
1941, 6 мая - смерть И. М. Гревса.
1942 - смерть сына Н. П. в блокадном Ленинграде; дочь угнана немцами из Детского Села.
1942—1943 — выступления в воинских частях с лекциями по истории.
1943 — Н. П. принят в Союз писателей.
1944, июнь — посещение Ленинграда и сожженного Детского Села.
1944 — защита в ИМЛИ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук «Проблема урбанизма в художественной литературе».
1945 —1954— основной этап работы над воспоминаниями.
1946 —1956— участие в изучении герценовских материалов из «Пражской коллекции».
1947 — посещение Софиевки и Крыма (Никитский сад).
1948 — встреча с Фортунатовыми и Делоне.
1952 — поездка в Киев.
1954 — встреча с друзьями по «Номеру тридцать седьмому».
1954 — участие в литературоведческой конференции в Ленинграде.
1954, октябрь — посещение Крыма с Г. А. Штерном.
1955 — смерть М. Л. и Т. Б. Лозинских.
1956 — уход на пенсию и переезд в отдельную квартиру.
1958, 2 сентября — смерть Н. П. Анциферова в Москве.
Из воспоминаний сотрудницы ГЛМ Е. Н. Дунаевой: «Были вечерние и утренние панихиды и отпевание в церкви Ильи Обыденного на Остоженке, была гражданская панихида в большом зале на Якиманке в Литературном музее. За занавесом играла на рояле Мария Вениаминовна Юдина, хорошо знавшая Н. П., пела вокализы Виктория Иванова. Прощание с Н. П. было торжественно-прекрасно...
Похоронили Н. П. на Ваганьковском кладбище. Уже начиналась осень, падали кленовые листья. Вспомнилось, как в феврале 1950 года хоронили мы здесь Зинаиду Федоровну Иловайскую и как на жестоком морозе Н. П. стоял у могилы с непокрытой головой...»
Аннотированный указатель имен
Аннотированный указатель имен¹
Абеляр Пьер (1079—1142) —французский философ, богослов и поэт. Трагическая история его любви к Элоизе закончилась их уходом в монастырь (1119). — 264, 265.
Абрамович-Барановский Сергей Семенович (1866—?) — до революции военный юрист, генерал-майор, в 1920-е — библиограф БАН, арестован в 1929. — 333.
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император. — 64, 161.
Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог. — 169, 170, 174, 175, 299.
Аврелий Марк (121—180) — римский император, философ. — 64.
Авзоний Децим Магн (совр. Авсоний, 309—394) — римский поэт. — 168.
Адриан Публий Элий (76—138) —римский император. — 65, 254, 331, 337.
Ажаев Василий Николаевич (1915—1968) — писатель. — 376.
Аладьин Алексей Федорович (1873—?) —депутат Государственной думы I созыва. — 106.
Александр, обновленческий епископ. — 351.
Александр Обренович (1876—1903) — в 1889—1903 сербский король. — 69.
Александр Север Марк Аврелий (208—235) — римский император. — 56, 64.
Александр I (1777—1825) — император. — 82, 133
Александр II (1818—1881) — император. — 20.
Александр III (1845—1894) — император. — 49.
Александров, начальник лагеря. — 384, 385.
Александров Николай Александрович (1893—1972)—филолог. В отрочестве— воспитанник о. Иоанна Кронштадтского. Окончил историко-филологический ф-т Пг ун-та (1915), служил в царской (1915—18) и Красной (1920—23) армиях, преподавал в школах и др. учебных заведениях Петрограда (1918—29). Одновременно (1921—23) —слушатель Петроградского Богословского ин-та. Был близок к кружку Мейера и церковной общественности Петрограда-Ленинграда (иосифлянам). В марте 1929 арестован ОГПУ и получил 5 лет лагеря, которые отбывал в Соловках и Белбалтлаге. После освобождения (1933) был бухгалтером и конторским служащим в Вологде и Волховстрое, где несколько месяцев (1935) также провел под арестом в результате неудачной попытки вернуться к профессиональной деятельности в Ленинграде. Далее работал на технических и инженерных должностях на стройках системы НКВД: в 1935—37 — в Дмитрове (канал Москва — Волга), в 1937—42 — Рыбинске (Волгострой), в 1942—47 — Нижнем Тагиле (Тагилстрой), преподавал там же на различных курсах русский язык и специальные дисциплины. В 1947 поселился во Владимире, стал там преподавать в техникумах, но вновь был арестован как «повторник» (1948). Получил 10 лет, которые отбывал в инвалидных лагерях Владимирской области. Освободился в 1954 (реабилитирован в 1956 по делу 1929 года—«за недоказанностью виновности»). На протяжении всей жизни занимался филологическими изысканиями и исследованиями в области литургики, труды не опубликованы. Главное содержание его активной переписки с архиепископом Николаем (Муравьевым) Уральским — вопросы истории Церкви в советское время. Дружеские отношения с Н. П. поддерживал до смерти последнего. Умер во Владимире. — 335, 375.
Алексеев Михаил Павлович (1896—1981)—литературовед, родственник Н. П.
В 1918 окончил Киевский университет, в 1930-е — профессор ЛГУ, с 1958— академик. — 397.
¹ В указатель включены только имена лиц, упоминаемых в основном тексте воспоминаний Н. П. Анциферова. Национально-государственная принадлежность отечественных деятелей не оговаривается. Сведения, содержащиеся в тексте Н. П., как правило, не дублируются. Справки о малоизвестных лицах по возможности расширены. (Сост.)
Алексеев Сергей Алексеевич (псевд. Аскольдов, 1871—1945) — философ. Подробно о нем см.: Минувшее, Исторический альманах. Вып. 9. Париж, 1990. — 195.
Алисовы — 48.
Алмазов см. Гришин-Алмазов А. Н.
Альфонс XIII (1886—1941) — король Испании в 1902—31.— 179, 302. Алявдцн Анатолий Павлович (1885—1965) — специалист по истории раннего христианства, сириолог. Окончил СПб ун-т по историко-филологическому (1910) и восточному (1916) ф-там. Ученик И. М. Гревса и И. Д. Андреева. С 1913— экстраординарный профессор, с 1918—доцент Пг ун-та. В 1920-е—также сотрудник Азиатского музея АН, преподавал в Богословском ин-те, а после его закрытия — на Богословско-пастырских курсах. Участвовал в религиозно-философских объединениях петроградской интеллигенции — «Воскресенье», кружке Андреевского, «Профессорском кружке». В январе 1928 в числе членов «двадцатки» церкви Спаса-на-Водах подписал письмо против поминания митр. Сергия, ставшее одним из важнейших документов иосифлянского раскола (см. прим. 27 к части седьмой). Арестован 13 марта 1929, получил 5 лет лагеря, которые отбывал в СЛОН и Белбалтлаге. После освобождения (1938) преподавал историю в ленинградских школах, с 1938 — работал в Институте востоковедения. В 1942 был эвакуирован в Кизлярский р-н Грозненской обл. (ныне Дагестанская АССР), где преподавал в школе немецкий язык и географию. Осенью 1945 был там вновь арестован и Грозненским облсудом приговорен к 10 годам лагеря за «проповедь загробной жизни», срок отбывал в Грозненской обл. Освободился в 1954, в 1956 реабилитирован, вернулся в Ленинград, работал в Архиве АН, потом вышел на пенсию. За несколько лет до смерти завершил многолетнюю работу по созданию «Грамматики сирийского языка». Опубликована не была. — 332, 333; 336. Анастасов см. Блуменфельд В. Ф.
Анастасьевы: Виктор Иванович — владелец имения Магарач в Крыму, любитель музыки и меценат; Мария Викторовна, его дочь, с 1884 — жена музыканта Ф. М. Блуменфельда. — 48.
Андерсен Ханс (Ганс) Кристиан (Христиан) (1805—1875). — 35, 124, 298. Андреев Александр Игнатьевич (1887—1959)—археограф, источниковед, историк России XVI—XVIII вв. Перед арестом (1929)—ученый секретарь Археографической комиссии АН. Осужден по делу Академии наук постановлением Коллегии ОГПУ (далее в указателе К ОГПУ). См. справку о Платонове С. Ф. и прим. 28 к части седьмой. В Ленинград из Красноярского края вернулся в 1935. Реабилитирован 4 февраля I960. — 371.
Андреев Леонид Николаевич (1871—1919)—писатель и драматург.—120, 132, 218.
Андреевский (Андриевский) Иван Михайлович (1894—1976) —филолог, историк церкви, врач-психиатр, брат писательницы М. М. Шкапской. В 1907—12, когда учился в реальном училище А. С. Черняева и Введенской гимназии — организатор и участник самообразовательных молодежных кружков, ряда рукописных ученических журналов. Это движение с годами все более политизировалось, приобретая выраженное социал-демократическое направление. Несмотря на то, что А. был активным противником таких тенденций, знавший его тогда революционер А. Ф. Ильин-Женевский вспоминал о нем в 1920-е с большой теплотой: «Большой поклонник Толстого и Достоевского, он воспринял от них полуанархическое, полухристианское мировоззрение, окутанное дымкой некоторого пуританства и, я бы сказал, подвижничества. (...) Он был признанным вождем своего кружка, некоторые представители которого являлись настоящими 'его апостолами» (Революционное юношество: Сб. I. Л., 1924. С. 166). В 1912 в результате ареста по делу межученической организации средних учебных заведений Петербурга А. был лишен возможности продолжить образование в России. На деньги мецената Шахова он в 1913—14 учился на философском отделении Парижского ун-та. Вернувшись на родину во время каникул, вынужден был остаться из-за начала войны, поступил в Психоневрологический ин-т (прим. 53 к части пятой), одновременно с обучением там проходил военную службу (фельдшером психиатрических отделений в военных госпиталях). Ушел с IV курса. В 1921 окончил славяно-русское отделение историко-филологического ф-та Пг ун-та, после чего преподавал в школах Петрограда.
В 1923 вокруг него сложился кружок литературного и религиозно-философского направления, состоявший поначалу преимущественно из его учеников. Для докладов в кружке А. привлекал филологов и философов старшего поколения (С. А. Аскольдова, А. П. Алявдина, В. Л. Комаровича и др.). Сильный игровой момент, привносившийся молодыми участниками кружка (некоторые из них образовали «Космическую академию», все члены которой получили громкие титулы — см. подробнее — Память: Исторический сборник. Вып. 4. Париж, г981), а также некоторые их высказывания, «недостаточно осторожные по условиям момента», в начале 1928 года дали повод ОГПУ арестовать А. и значительную часть его окружения. Сыграла, вероятно, роль и близость А. к движению иосифлян. По обвинению в руководстве антисоветской организацией А. получил 10 лет лагеря, которые отбывал в СЛОН и Белбалтлаге. Освободившись в середине 1930-х, А. поселился в Новгороде, где работал по своей медицинской специальности (психиатром) в Колмовской больнице. Оказавшись на оккупированной немцами территории, сотрудничал в нацистской печати (сообщено Д. И. Зубаревым), затем попал в Германию; после войны жил в США, где преподавал и выпустил несколько книг по истории русской литературы и церкви под именем И. М. Андреева (1940— 1950-е). Сведения о нем и от него проникали как-то в СССР во второй половине 1950-х. — 349. 350.
Андрей Владимирович (1879—1956) — великий князь, после революции — в эмиграции. — 368, 374.
Анисимов Александр Иванович (1877—19397) — историк искусства. Окончил историко-филологический ф-т Московского ун-та (1904). Преподавал в Учительской семинарии в Новгороде, где начал работу по изучению древнерусской живописи, сделав ряд выдающихся открытий в этой области. Преподавал историю искусств в Петергофе, Москве и Ярославле. После 1919 — преимущественно в 1-м МГУ и ВХУТЕМАСе. С весны 1918 — сотрудник Музейного отдела Главнауки, с 1920 — сотрудник Реставрационной комиссии Отдела по делам музеев Наркомпроса, с 1924 — председатель Совета живописной секции Гос. реставрационных . мастерских, сотрудник многих московских художественных учреждений. Арестован б октября 1930. Получил 10 лет по обвинению в шпионаже. В 1937 вновь арестован в лагере. Погиб в заключении незадолго до конца срока. — 280, 281, 296, 305—307. Аничков Евгений Васильевич (1866—1937)—литературовед. С 1895—приват-доцент Киевского ун-та Св. Владимира, с 1908 — профессор Петербургского психоневрологического ин-та. С 1918 — в эмиграции в Югославии, был профессором в Скопле, умер в Белграде. — 127. Анкер Acre. — 221, 222.
Анкер Иохан Август (1871—1940) — норвежский инженер, в 1910 он стал мужем писательницы, своей однофамилицы (см. ниже и осн. текст). — 220, 222. Анкер Нини (Николин Магдалена) Ролл (1873—1942) — норвежская писательница, уроженка Мольде. Наиболее известное произведение — посмертно изданная книга «Мой друг Сигрид Ундсет» (1946). — 220—223, 228. Анкер (в замужестве Пейроне) Сигрит. — 221.
Анциферов Григорий Иванович (1802—7) —дед Н. П. —20, 21.
Анциферов Иван — прадед Н. П. — 20, 21.
Анциферов Павел Григорьевич (1851—1897) —отец Н. П. — 19—21,. 25, 27, 30, 33, 35, 37—50, 70, 86, 89, 165, 358, 381, 388.
Анциферов Павлинька (1918—1919) — сын Н. П. — 313, 343, 394.
Анциферов Сергей Николаевич (Светик, 1921—1942) — сын Н. П. Перед войной — студент Театрального ин-та в Ленинграде. Умер от скоротечной чахотки на почве голода во время блокады. — 14, 21, 37, 176, 328, 334, 336, 353, 362, 369, 372, 373, 382. 387—390, 393—395.
Анциферова (урожд. Петрова) Екатерина Максимовна (1853—1933)—мать Н. П. — 17, 19, 22—24, 26—31, 35—50, 53—55, 58, 59, 65. 66, 69—71, 81, 86—89, 98, 105, 107, 110—113, 115, 119, 122, 126, 129, 131, 135, 138, 139, 217, 240, 242, 243, 245, 250, 252, 255, 313—315, 321, 335, 353, 356, 357, 359. 363, 367, 387, 388, 395.
Анциферова Наталия (Таточка, 1915—1919) — дочь Н. П. — 31, 151, 313, 358, 363, 394.
Анциферова (урожд. Гарелина) София Александровна (1899—1967) — краевед,
экскурсионист, историк театра. После переезда Н. П. в Москву (1934) стала его второй женой. В 1940 — начале 1950-х работала в музее МХАТа. — 27, 397. Анциферова (урожд. Оберучева) Татьяна Николаевна (1889—1929) — историк, ученица С. Ф. Платонова и А. И. Заозерского, окончила Высшие женские Бесту-жевские курсы (ВЖБК). С 1914—жена Н. П., соавтор нескольких его работ. Умерла от туберкулеза через полтора месяца после отправки Н. П. на Соловки. — 29, 31. 37, 114—126, 128, 130, 132—135, 138—140, 142, 143, 146, 149—151, 169, 176, 177, 187, 194, 195, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206, 211, 224, 228, 232, 235, 236, 265, 271, 275, 290, 313—315, 317—323, 325—327, 333—336, 345, 350, 353, 355, 357, 358, 363, 369, 370, 387, 388, 394—396.
Анциферова Танюша см. Камендровская Татьяна Николаевна.
Анцыфоровы (Онцыфоровы): Михаиле Михайлович, Лука, Онцыфор Лукич. — 19, 20.
Аполлонов Николай Васильевич (1879—1926) — «товарищ Аполлон». На естественном отделении физико-математического ф-та СПб ун-та учился с 1902. Большевик с 1903. Активный участник студенческого движения 1900-х. В 1917—комиссар Военно-революционного комитета на Бирже труда в Петрограде. — 181—183, 186.
Аретино Спинелло (собств. Спинелло ди Лука Спинелли, 13507—1410) — итальянский живописец флорентийской школы, уроженец Ареццо. — 292.
Артоболевский Георгий Владимирович (1898—1943)—зоолог, чтец и теоретик искусства декламации. В 1930—33 — в заключении. Подробно о нем см.: Артоболевский Г. В. Художественное чтение. М., 1978. — 389.
Архангельский, нарядчик. — 339.
Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — писатель. — 194.
Арыся см. Стахевич И. Л.
Ахматова Анна Андреевна (1889—1966)-. — 317.
Ачабаев. — 382.
Бабенчиков Павел Петрович (1882—1947) — крымский археолог-краевед, в 1920-х и 1933—35 преподавал историю в школе. Перед арестом (23 июля 1930) — хранитель, научный сотрудник Краеведческого музея в г. Севастополе. Срок (3 года) отбывал в Печорских лагерях. Реабилитирован в 1967. См. также справку о Платонове С. Ф. — 364, 365.
Бабич Анна Леонтьевна (1888—7) — историк. Уроженка Умани. Окончила Житомирскую Мариинскую гимназию (1907), затем ВЖБК (1913) по группе всеобщей истории. Гревс называет ее среди «скромных и тихо деловитых», «стоявших более на периферии, не нарушая общего интереса и отношения». (Эта характеристика из воспоминаний (1924) Гревса об итальянской поездке. — ЛО ААН. Ф. 726. On. I. Ед. хр. 188. Л. 6 об. При дальнейших ссылках в Указателе на этот источник будем указывать только лист). В 1920—30-х преподавала историю в школах ФЗО. — 280.
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824). — 85, 101, 175, 254.
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876).—271.
Балмашов. — 340, 342.
Бальзак Оноре де (1799—1850). — 213, 262, 277.
Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844). — 343, 378.
Баринова Мария Николаевна (1878—1956) —пианистка и педагог. В 1910—28— профессор Петербургской (Ленинградской) Консерватории. — 191, 192.
Барсуков. — 60.
Бартольс — 384, 385.
Батуев Лаврентий Федорович (1868 — не ранее 1912) — преподаватель русского языка и словесности. Уроженец Подольской губ. В 1893 окончил историко-филологический ф-т Киевского ун-та Св. Владимира. В 1893—1904 преподавал в гимназиях Украины и Петербурга. С 1904 — в Первой Киевской, одновременно — в частных гимназиях Киева. — 85, 118.
Бах Иоганн Себастьян (1685—1750). — 159, 383.
Бахрушин Сергей Владимирович (1882—1950) — историк Московской Руси и Сибири. До ареста (8 августа 1930) по делу Академии наук — профессор 1-го МГУ. Был выслан на 5 лет, в 1933 вернулся в Москву, с 1939 — член-корреспондент Академии наук. Реабилитирован в 1967. — 366, 368—371, 373.
Бахтин Всеволод Владимирович (1901—1951)—историк-медиевист, в 1920-е—
сотрудник Рукописного отдела ГПБ, арестован 8 декабря 1928 по делу Мейера, получил 3 года, которые отбывал в СЛОН. После освобождения (декабрь 1931) жил в Арзамасе и Калинине, в 1937 был вновь арестован и сослан в Сыктывкар; освободился после 1945, умер в Ставропольском крае. — 332, 333, 343, 344.
Бахтин Михаил Михайлович (1895—1975)—литературовед и культуролог. В 1929 был осужден на 5 лет лагеря по делу Мейера. — 385.
Беатриче деи Барди (урожд. Портинари) (1266—1290) — дочь флорентийского купца, образ которой вдохновлял Данте на протяжении всей его жизни. — 143, 175.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848).— 137. Бек Уле. — 217—219.
Беллини Джентиле (ок. 1429—1507) — итальянский живописец, положивший начало венецианской жанрово-исторической картине. — 285, 309.
Беллини Джованни (Джанбеллино, ок. 1430—1516) — венецианский живописец, основоположник искусства Высокого Возрождения. — 284.
Белозеров Константин Семенович (1894—1930)—до революции поручик Финляндского полка, в 1918—26—в Красной Армии (последняя должность—командир эскадрона 18-го Ярославского дивизиона). В 1921 был арестован по делу савинковской организации, через б месяцев отпущен как невиновный, в 1926 вновь арестован по тому же факту и осужден ОГПУ к 3 годам лагеря. Отбывал наказание в СЛОН, где в мае 1930 был арестован комиссией А. М. Шанина и расстрелян. (Сообщено И. И. Чухиным). — 345, 347.
Белокопытов Василий Николаевич (1867—1932)—дядя Be. Н. Белокопытова, педагог. — 239, 240.
Белокопытов Всеволод Николаевич (1889—1915). — 62, 63, 66, 136, 137, 139.
187, 191, 194. 217, 223, 227, 237—242, 246, 247, 249—253. 255—259, 262—264, 268, 269, 273—277.
Белокопытов Константин Николаевич (Туся) (ум. 1908) — брат Be. Н. Белокопытова. — 62, 239, 240.
Белокопытов Николай Николаевич (ум. 1929)—отец Вс. Н. Белокопытова.— 237—239, 259, 276, 277.
Белокопытова (урожд. Володина) Елена Николаевна (ум. 1907) — мать Вс. Н. Белокопытова. — 61, 63, 237—239, 258.
Белокопытова Лидия Карловна (1870—не ранее 1950)—педагог. После революции жила во Франции. После 1945 вернулась в СССР. — 149, 217, 220, 223, 239, 271.
Белокопытова Софья Николаевна — сестра Вас. Н. и Н. Н. Белокопытовых. — 258, 264, 265.
Белокопытовы, семья — 62, 68, 89, 136, 237—239, 271, 276. Белокренец Вера Федотовна. — 195, 200.
Белый Андрей (наст. фамилия Бугаев Борис Николаевич, 1880—1934).—375, 386.
Беляев Михаил Дмитриевич (1884—1955) — историк литературы, специалист по пушкинской эпохе, в 1921—29 заведовал музеем Пушкинского Дома. В 1929— 1933 — в заключении. — 361, 371.
Бем Альфред Людвигович (1886—1945)—литературовед и библиограф, ученик С. А. Венгерова и В. И. Срезневского. Окончил историко-филологический ф-т СПб ун-та. С 1919 — в Чехословакии, с 1922 — преподавал там в высших учебных заведениях. — 187, 190. 192, 197.
Беме Якоб (1575—1624) — немецкий философ-пантеист. — 375.
Бенешевич Владимир Николаевич (1874—1943) — византинист и историк церковного права, член-корреспондент Академии наук с 1924. Арестовывался в 1922, до ареста по делу Академии наук 28 февраля 1930 отбывал наказание (вероятно, ссылку) по Постановлению К ОГПУ от 14 июня 1929. Последнее, вероятно, было связано с церковно-общественной деятельностью Б. в Ленинграде в 1920-е (был членом «Профессорского кружка»). В его обвинении по делу Академии наук — «сношения с Ватиканом в лице Папы Пия XI и его агентами», снабжение последних «клеветническими сведениями о религиозных преследованиях в СССР», что интерпретировалось как «участие в подготовке Крестового похода против СССР». Полученный им по этому делу 5-летний лагерный срок отбывал на Печоре, по
освобождении (1933) работал в ГПБ, был вновь арестован в 1937 и погиб в заключении. По делу Академии наук реабилитирован в 1967.— 333, 351, 354. Бер Анатолий. — 111. Бер Николай Анатольевич. — 112.
Бер Владимир Георгиевич (Володя) —сын А. И. Курбатовой (Бер).— 108.
Бердяев Николай Александрович (1874—1948). — 324.
Берман (в замужестве Гиттис) Изабелла Васильевна (1889—не ранее 1965) — историк и педагог. Ученица Гревса сначала в гимназии, а потом на ВЖБК, участница Дантовского семинария (1911). «Это способная и умная девушка (теперь «дама»), — вспоминал о ней Гревс, — худенькая и остренькая, тонкая и художественная, очень замкнутая, с некоторой дозой скептицизма и иронии, добросовестная и внимательная. (...) Она и организаторской способностью отличается значительной, обладает образованности) и вкусом» (Л. 5 об.). Б. окончила ВЖБК в 1912 по группе всеобщей истории, затем (1914) была оставлена там под руководством Гревса, преподавала в средних учебных заведениях, в 1930-е — 1960-е занималась методикой преподавания истории в школе (начальной и фабрично-заводской), была кандидатом исторических наук и доцентом ЛГПИ им. Герцена. — 280, 294.
Беры, семья. — 111.
Бессмертный Евгений Адрианович (1864 — не ранее 1912) — педагог и переводчик античных авторов. Уроженец Волынской губ., сын чиновника. Окончил историко-филологический ф-т СПб ун-та (1887), преподавал древние языки, был инспектором и директором в гимназиях Малороссии. В 1903—07 — директор Первой Киевской гимназии. К. Г, Паустовский вспоминал .о нем: «Пожилой красавец с золотой бородкой, в новеньком форменном фраке». С 1907 — директор и председатель педсовета в гимназиях Саратова, Одессы и др. — 84, 104.
Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801—1826) —декабрист.—59.
Бетховен Людвиг ван (1770—1827). — 243, 384.
Бибиков Михаил Александрович—см. о нем прим. 17 к части первой.—53.
Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772) — граф, фаворит имп. Анны Иоанновны. — 196.
Блан Жак Жозеф Луи (1811—1882) — французский публицист, историк и общественный деятель. — 266, 267.
Блок Александр Александрович (1880—1921).— Ill, 119, 137, 144, 175, 194, 239, 332, 357.
Блуменфельд (Блюменфельд, с 1916 — Анастасов) Виктор Феликсович (1888—?)— сын известного музыканта. В 1910—12—студент физико-математического ф-та СПб ун-та, в 1912—14—на юридическом ф-те Новороссийского ун-та, откуда снова перевелся в Петроград, одновременно занимался в Консерватории. Университет не окончил. В 1916 — в Управлении гидротехнических работ армий Юго-Западного фронта (Киев).—48.
Блуменфельд (Блюменфельд) Феликс Михайлович (1863—1931) —пианист, дирижер, композитор и педагог. Подробно о нем см.: Растопчина Н. М. Феликс Михайлович Блуменфельд. Л., 1975. — 35, 48.
Богаевский Митрофан Петрович (1881—?) — историк и политический деятель, уроженец Области войска Донского, из казачьей дворянской семьи (отец — войсковой старшина, участник обороны Севастополя и подавления польского восстания). Окончил Новочеркасскую гимназию и историко-филологический ф-т СПб ун-та (1910). Ученик С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского. Преподавал историю в гимназиях Петербурга и Новочеркасска (1910-е), занимался историей Дона. В годы Гражданской войны— один из руководителей казачьего движения на Дону. — 182.
Богданова — слушательница ВЖБК, участница Дантовского семинария Гревса, затем преподавала в воскресной школе в Петербурге. — 201.
Бодянский Павел Николаевич (1857—1922) — преподаватель древних языков и истории, кроме того — шашист и щашечный журналист. Уроженец Подольской губ., из семьи священника. Окончил историко-филологический ф-т Киевского ун-та Св. Владимира (1881), оставлен стипендиатом по кафедре всеобщей истории (1881—84). Преподавал русский и древние языки в средних учебных заведениях Киева, с 1901 —также историю. В Первой Киевской гимназии с 1887, с 1907—
ее инспектор. Автор печатных трудов по истории Древнего Рима и Москвы. С 1896— организатор первых шашечных «турниров по переписке» в России. — 84. Бонди Сергей Михайлович (1891—1983) —литературовед-пушкинист.— 128.
Бонч-Осмоловский Глеб Анатольевич (1890—1943) — антрополог и археолог. Уроженец Минской губ., из семьи революционеров-народников. В 1909—15 и 1922—23 — учился в СПб (Пг) ун-те: сначала на естественном, потом — на географическом отделении физико-математического ф-та, которое и окончил. Занимался исторической этнографией (в 1910—12 командировался на Кавказ Русским музеем). Участвовал в деятельности студенческого Эрмитажного кружка. В 1912— 14 из-за своего скепсиса и «охлажденного ума», неверия в близость революции он нелегко сходился со своими романтически настроенными товарищами по Эрмитажному кружку. Последние горько сокрушались: «Дети пламенных отцов — усталые, маловерные. Взросшие в революционной среде, они с детства к ней привыкли, и она лишена в их глазах возвышенного романтизма». В 1915 отправился добровольцем на фронт: «Одним вечером он пришел ко мне со странной улыбкой, словно смущенный, — вспоминал Н. П. — «Коля, я иду на фронт! (...)» Я понял эту его милую, смущенную улыбку. Бонч не хотел предстать передо мною героем». (ОР ГПБ. Ф. 27. Ед. хр. [21]. Л. 4). Весной 1917 Б., заболев туберкулезом, вернулся в Петроград. В 1918—19 лечился в Крыму. Здесь, по словам Н. П., «произвел переоценку своих верований. Горячий патриот, любивший Россию «нутром и чревом», Бонч резко повернул в сторону большевиков. В них он теперь чтил подлинных патриотов, единственную силу, способную восстановить мощь России <...). Движение белых он осознал как враждебное русскому народу». (Там же. Л. 5). Сотрудничал в большевистском подполье против Врангеля. Изменились и научные интересы Б.: хевсуры и этнография были отставлены, он занялся палеолитом. В 1924 обнаружил в Крыму останки неандертальского человека. Руководил экспедицией Зоологического музея по изучению четвертичных отложений в пещерах Крыма, позволившей восстановить историю фауны юга Восточной Европы. В 1920—22 заведовал определением музейных штатов в Петрограде, в 1922—33 — сотрудник Этнографического отдела Русского музея, одновременно работал в ГАИМК, а в начале 1930-х возглавлял Четвертичный отдел Геологического ин-та АН. «Мне говорили, — вспоминал Н. П., — о его властности, граничившей с суровостью. Если в многогранной натуре Глеба и была эта грань — она обусловливалась его беззаветной преданностью делу. В общении со мной была другая грань — сердечной внимательности». (Там же. Л. 6).
Б. был арестован 29 ноября 1933 по делу сотрудников Русского музея. После пятимесячного следствия и одиночного заключения он получил (12 апреля 1934) 3 года лагеря по обвинению в причастности к «националистической фашистской партии». Срок отбывал в Ухтпечлаге (Воркута), где работал геологом рудника и бурколонны. Внес там ряд новшеств в практику углеразведки. К голоду, холоду, воровству уголовников добавлялись сложности в отношениях с товарищами по несчастью: «пауки в банке» — такова их наиболее частая характеристика в лагерных письмах Б. «Без сожаления покинул я Воркуту, — писал он, — тяжело она мне далась, причем самое трудное — это люди, и, как всегда, так называемая интеллигенция. Что за уродливый букет получается из этих зачатков умственной жизни в условиях лагеря!» Возможно, эти трудности были усугублены и особенностями характера самого Б.: «Нигде так не сильно общественное мнение, как в лагере. Часто оно не ошибается, но нередко оценивает, как кривое зеркало. Работа преломляется как карьеризм, активность как суета, прямота как стукачество и пр.». 25 февраля 1936 он был освобожден и начался почти трехмесячный путь домой: «Знаешь, за всю дорогу кто у меня не хотел взять денег? Один только раз! Крестьянин-бедняк, шесть ребят, сидит без хлеба и муки, сам болен. Я насильно всучил. Все же остальные берут почем зря. Вот когда чувствуешь всю глубокую правду большевизма!» В ленинградской прописке Б. было отказано, он поселился на ст. Оредеж, где для продолжения работ по антропологии организовал домашнюю лабораторию (кости сам покупал на местном кладбище). (Сообщено Ф. Ф. Пер-ченком по материалам семьи Б.). Умер Б. в эвакуации в Казани. — 203, 207—210.
Боргман Иван Иванович (1849—1914) — физик. В 1905—10 — первый выборный ректор Пб ун-та. Ушел с этого поста из-за нарушения полицией прав студенчества. — 156.
Борис см. Книпович Б. Н.
Боричевский Иван (Иоанн) Адамович (1892 — не ранее 1930) — филолог, философ и историк философии. Уроженец Ковенской губ., из семьи почтового чиновника. Окончил историко-филологический ф-т Пг ун-та (1915), учился и на юридическом. В 1920-е преподавал в Петрограде (профессор). Основные труды по истории и теории метафизики не опубликованы. — 188.
Боровой Алексей Алексеевич (1875—1935) — историк общественной мысли, экономист, идеолог анархизма. В 1910-е жил в Париже, описанию которого посвятил вдохновенный очерк «Латинский квартал. Квартал Марэ»: «Париж явление исключительное. Созданный веками, проложивший эпохи в развитии человеческого самосознания, Париж доныне остается умственным возбудителем человечества. Есть иные города мирового значения, как Рим, как Лондон. Но величие Рима — в его прошлом; настоящее Лондона, если исключить его экономическую жизнь, не может и приблизительно быть сравниваемо с неудержимым творческим богатством, которое характеризует современный Париж (...). То, что достается в других местах трудом, большой работой, серьезной школой, здесь берется даром. Кругом расточены неисчислимые богатства, и одним фактом своего существования <....> вас поучают, вас образуют». (Боровой А., Глотов Я. и др. Париж: Описание города. М., 1914. С. 89). — 271. Бота (Ботта) Луис (1862—1919) — государственный деятель бурской республики
Трансвааль, затем — Южно-Африканского Союза, генерал. С 1900 — главнокомандующий войсками Трансвааля, по окончании англо-бурской войны (1902) стал сотрудничать с англичанами. — 58.
Ботичелли Сандро (наст. имя — Алессандро ди Мариано Филипепи, 1445— 1510).—254, 292, 294. 299.
Ботта см. Бота Л.
Боэций Аниций Манлий Северин (ок. 480—524) — римский философ и государственный деятель, сенатор. По обвинению в тайных связях с Византией заключен в тюрьму, где в ожидании казни писал свое главное сочинение «Утешение в философии». — 167. Брайнин Валентин Дмитриевич (1898—?) —служащий. В 1920-е был членом ВКП(б) (исключен «за бюрократизм») и сотрудником органов ОГПУ. По обвинению в «злоупотреблении властью» отправлен на 3 года в лагерь. Срок отбывал в СЛОН, где стал старостой лагеря Попова острова. Арестован в мае 1930 комиссией А. М. Шанина и получил 8 лет лагеря. (Сообщено И. И. Чухиным). — 345—347. Браудо Александр Исаевич (1863—1924) — историк и переводчик, библиотековед.
Окончил Юрьевский ун-т (1889). Занимался историей евреев в России, международных отношений, кооперации и др. С 1902 возглавлял отдел Rossica ГПБ, с 1918 — зам. директора ГПБ. В 1919—21 — служил в Одесской публичной библиотеке. Умер в Лондоне, будучи в командировке. — 207.
Брик Мария Исааковна («Манца», 1890—1951) — геолог. Окончила ВЖБК. — 210, 211.
Бриссо Жак Пьер — (1715—1793) — деятель Великой Французской революции, лидер жирондистов. — 267.
Бруни Лев Александрович (1894—1948) — художник-монументалист И график. — 325.
Брыков Владимир Иванович—в середине 1920-х работал в МОНО, с конца 1920-х — директор Московского коммунального музея, помещавшегося в Сухаревой башне. — 397.
Брюллов Борис Павлович (1882—1939?) —искусствовед и краевед, автор путеводителей по Ленинграду. Внук архитектора А. П. Брюллова. Окончил историко-филологический ф-т СПб ун-та, ученик Гревса. В 1910-х преподавал историю в средних учебных заведениях Петербурга-Петрограда. С 1918 —историю искусства, в 1919—26—в Институте истории искусств, сотрудничал в Музейном отделе, Экскурсионном ин-те и т. п. С 1929 — зав. отделом Музея ВХУТЕИНа, преподавал в художественных вузах. Арестован в 1933 и сослан в Томск, где заведовал художественным отделом Краеведческого музея. В 1936 поселился в Новгороде, готовил там выставки живописи. В 1937 вновь арестован и погиб в заключении. Подробнее о нем см.: Фролов В. А. Жизнь и деятельность Б. П. Брюллова//Ан-
циферовские чтения: Материалы и тезисы конференции (20—22 декабря 1989 г.). Л., 1989. С. 40—42. — 205, 279.
Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — живописец. — 314.
Брюллова-Шаскольская Надежда Владимировна (1886—1937)—литератор, историк и этнограф. Внучка архитектора А. П. Брюллова. Окончила ВЖБК в 1908 по группе всеобщей истории. Ученица Ф. Ф. Зелинского и М. И. Ростовцева. Для усовершенствования в истории религии получила командировку за границу на 3 года. Первая научная работа: «К вопросу о датировке Апокалипсиса» (1908). В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» вела раздел римской религии. В 1909 в Штуттгарте вышла замуж за П. Б. Шаскольского. Вернувшись, продолжила литературную деятельность, углубившись в этнографию и изучение первобытных религий. Преподавала в гимназиях, вечерних и воскресных школах, народных университетах. В 1915—16 сдала три цикла испытаний на диплом I степени Пг ун-та. Вероятно, в это же время стала членом партии социалистов-революционеров. Большое число ее брошюр 1917 посвящены программе ПСР по национальному вопросу и другим темам, связанным г деятельностью этой партии. Была членом Петроградского к-та ПСР. Вскоре после смерти мужа (1918) уехала на Украину, где преподавание в средних учебных заведениях сочетала с деятельностью в рядах ПСР. Была близка там с В. Г. Короленко, оставила о нем воспоминания. В 1921 вернулась в Петроград: работала в Музее антропологии и этнографии, Географическом ин-те. Еврейском ун-те (там была профессором истории религии). В 1922 по делу ЦК ПСР и ее активных членов была арестована и сослана в Среднюю Азию на три года с последующим поражением в правах. Там работала в музеях Ашхабада и Ташкента, занималась переводами и литературным трудом. В Ленинград вернулась в 1929, работала в Этнографическом отделе Русского музея, выпустила несколько детских исторических книг, сотрудничала с изд-вом О-ва политкаторжан (книги по истории крестьянских движений, 1930—32). Тогда же Б. приступила к разработке архива своей семьи: результатом были роман «Братья Брюлловы» и книга «Карл Брюллов в воспоминаниях и письмах его современников». Обе работы остались неопубликованными. Безуспешной была и попытка Б. сотрудничать с организованным И. С. Зильберштейном «Литературным наследством». Ее многочисленные предложения изд-ву «Academia» также остались без последствий. «Я иногда задаю себе вопрос, — с горечью пишет она в 1929 старому другу Д. М. Пинесу, — что же мы — ихтиозавры какие-то? Почему элементарная порядочность, которая для нас так же сама собой разумеется, как «нетаскание платков из кармана», окружающим кажется непосильным геройством?» (ЦГАЛИ СССР. Ф. 391. On. 1, Ед. хр. 111. Л. 2). Главным «литературным агентом» Б. и вдохновителем ее попыток литературной работы был в это время литератор и тоже бывший эсер Р. В. Иванов-Разумник. Поэтому, вероятно, когда в 1933 ОГПУ, «подбиравшее» агрономов и литераторов, не взятых по делу «Трудовой крестьянской партии», стало разворачивать в Ленинграде «дело Иванова-Разумника» из 8 человек, то в их число наряду с литераторами А. А. Гизетти, Д. М. Пинесом, биологами А. И. Байдиным, Н. Н. Кулешовым, Л. В. Катиным-Ярцевым, Н. А. Максимовым, попала и Б. 25 февраля она была арестована, а 28 июня состоялось постановление ОСО К ОГПУ о высылке ее в Ташкент на три года. Там Б. продолжала переводить, работала в Среднеазиатском музее и даже в Ин-те марксизма-ленинизма (1935). Последнее место работы Б. в Ташкенте— доцент кафедры иностранных языков Среднеазиатского финансово-экономического ин-та. 24 апреля 1937 она была арестована. 26 сентября 1937 постановлением тройки НКВД «за антисоветскую агитацию и пропаганду» приговорена к расстрелу, а 9 октября приговор был приведен в исполнение. КГБ Узб. ССР «не имеет возможности сообщить место захоронения», но прислал родным 4 фото погибшей из ее дела, вероятно, уничтожив последнее. Реабилитация Б. по этому делу состоялась в 1957, а по делу 1933 года — в. 1989. (Сообщено Т. П. Шаскольской). — 205, 306.
Брюлловы, семья. — 205.
Брюн Ипполит. — 396.
Брюн С. Л. — 380, 381, 383, 393, 396, 397.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924).— 118.
Буасье Гастон (1823—1908) —французский историк античности.— 169, 305.
Бублик Василий Дмитриевич (наст. фам. Тяпу-Тяпу-Табунец-Жбан-Жлоба-Буб-
лик-Погорельский) — деятель украинского национального движения, краевед, составитель «Справочной книги по Киеву и губернии» (1885—1899), «Путеводителей по Киеву» (1888—1902), в 1895—1906 — основатель и издатель «Киевского календаря». — 195.
Бублик (в замужестве Шульгина) Лидия Васильевна (1888—?) — врач. Киевлянка. По окончании Киевской министерской женской гимназии, поступила в Женский медицинский ин-т (Петербург), который окончила в 1914.— 195, 198, 200.
Букреев Борис Яковлевич (1849—1959) — математик. Профессор Киевского ун-та Св. Владимира и Киевского Политехнического ин-та. — 82.
Букреев Евгений Борисович (1891 — ок. 1985) — врач. В Первой Киевской гимназии учился в 1901—09. По окончании поступил на медицинский ф-т Киевского ун-та Св. Владимира. — 82.
Букреева (в замужестве Толпыго, <1889—?) Татьяна Борисовна — библиотекарь. В 1907 окончила Киевскую частную женскую гимназию А. Т. Дучинской, в 1914 ВЖБК по группе русской истории. С 1930-х жила в Днепропетровске, заведовала там библиотекой. — 195, 198, 200, 211.
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940). — 82.
Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944). — 324.
Бурже Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский писатель. — 113.
Бурчинский Владимир Иосифович. — 84, 87.
Буш Вильгельм (1832—1908) — немецкий писатель и художник. — 46.
Бьернсон Бьернстьерне Мартиниус (1832—1910) — норвежский писатель, театральный и общественный деятель. — 218, 219, 233.
Вагнер Вильгельм Рихард (1813—1883).— 136, 239.
Вайнингер (Вейнингер) Отто (Леопольдович, 1880—1903) — австрийский философ и психолог. — 142.
Вайнцеейг (Вайнцвайг) Александр Самойлович (1890—1970-е)—экономист. Из семьи киевского дантиста. Окончил Киевский политехнический ин-т. Работал в системе коммунального хозяйства, занимался экономикой промышленности строительных материалов и строительства, стал кандидатом технических наук. Ряд его инженерно-экономических брошюр конца 1920-х — начала 1930-х издан в типографиях ОГПУ. С конца 1930-х жил в Москве. — 104, 122—125, 129, 134, 142, 143.
Валентиниан I (321—375) — римский император. — 65.
Ван Дженсун. — 330.
Ван Эйк Ян (ок. 1390—1441) — нидерландский живописец. — 195.
Василий Великий (Василий Кесарийский, ок. 330—379) — христианский церковный деятель, один из Отцов Церкви. — 174.
Васильев Павел Дмитриевич (1884—1929)—певец и музыкант. Служил в Ма-риинском театре. В 1920-е несколько раз подвергался аресту. По делу Мейера получил 3 года. Умер на Соловках. — 318, 325, 337, 342.
Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — живописец. — 55.
Ватто Антуан (1684—1721) — французский живописец и рисовальщик. — 33, 268.
Введенский Александр Иванович (1856—1925)—философ-неокантианец. Профессор Петербургского ун-та с 1890. — 155.
Введенский Александр Иванович (1889—1946) —церковный и общественный деятель. Реформаторскую деятельность в Церкви начал в 1911. С 1921 — протоиерей, организатор и участник многочисленных публичных диспутов с материалистам (в т. ч. с Луначарским до 1929). С 1922—лидер обновленческого движения в Русской Православной Церкви. Подробно о нем и об обновленческом движении см.: Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. Кюзнахт, 1977. Т. 1—3. Попытки авторов этой книги создать возвышенный образ. В. («Романтик в рясе1») выглядят сомнительными в контексте всего обильно представленного ими материала. См. также прим. 69 к части пятой и прим. 30 к части седьмой. — 213.
Вебер Георгий Карлович (1876—1941) — историк и педагог. — 176.
Вегнер Вильгельм (1800—1886) — немецкий историк Древнего Рима. — 64.
Вейс (Вейсс) Игорь Дмитриевич (1906—1941) —органист, ученик А. Ф. Гедике. Осужден К ОГПУ 9 июня 1930 по обвинению в «оказании помощи международной буржуазии» на 10 лет. По освобождении (1934) вернулся в Москву, работал
ассистентом Консерватории. Погиб в ополчении под Вязьмой. (Сообщено И. И. Чу-хиным и Л. И. Ройзманом.) — 383—385.
Вёласкес (Родригес де Сильва) Диего (1599—1660) — испанский живописец. — 33.
Верейская (урожд. Кареева) Елена Николаевна (1886—1966) —детская писательница. В 1904—11 — слушательница юридического отделения ВЖБК. — 164.
Верейский Георгий Семенович (1886—1962) —художник-график.— 164.
Вересаев (наст. фам. Смидович) Викентий Викентьевич (1867—1945) — писатель. — 111.
Вержбицкий — инженер на Медвежьей Горе, там жил на вольной квартире вместе с Л. К. Рамзиным. — 396, 397.
Вернадский Владимир Иванович (1863—1945).— 173, 174. Вернадский Георгий Владимирович (1887—1973) — историк, сын В. И. Вернадского, с 1920 — в эмиграции. — 174.
Верньо Пьер Виктюрньен (1753—1793) —деятель Великой французской революции, один из лидеров жирондистов, казнен трибуналом. — 267.
Веронезе Паоло (собств. — Кальяри, 1528—1588) — венецианский живописец. — 33, 296.
Верроккьо Андреа дель (наст. имя Андреа ди Микеле Чони, 1435 или 1436— 1488) — итальянский скульптор, живописец и ювелир. — 286.
Вертинский Александр Николаевич (1889—1957) — артист эстрады, поэт и композитор. Уроженец Киева. В 1919—1943 — в эмиграции. — 82.
Веспасиан (9—79) — римский император. — 65.
Вивденко (в первом браке — Белокопытова, во втором — де Клапье де Колонь) Ольга Михайловна («Эллмс», 1892 — не ранее 1971) — художница. Уроженка Киева. Окончила Фундуклеевскую женскую Мариинскую гимназию, поступив в ее выпускной класс (1910). Проведя следующий год в Париже, где обучалась живописи (Academic de la Grand Chaumiere) и слушала курсы истории в Сорбонне, поступила на ВЖБК (сначала на юридический ф-т, а потом на историко-филологический, где занималась в семинаре Н. И. Кареева). Весной И) 12, заболев туберкулезом, уехала лечиться за границу. В годы Первой мировой войны — сестра милосердия. После революции — в эмиграции (с 1923 — в Париже, с 1953 — в Испании). Главная тема живописных работ — женские образы в истории. Сотрудничала с Комеди Франсэз и др. театрами. В 1955 — персональная выставка в Нью-Йорке («Женщины трагической судьбы»), в начале 1960-х — организатор первой постановки пьес Н. Н. Евреинова в Испании (ЦГАЛИ СССР. Ф. 982. On. 1. Ед. хр. 381). Оставила воспоминания о Бестужевских курсах, оказавших сильное влияние на ее творчество: «И до сих пор пишу Прометея, Аполлона с музами, Аянта, Ариадну, вдохновленная не средиземной, а петербургской Элладой» (Наша дань Бестужевским курсам: Воспоминания бывших бесту жевок за рубежом. Париж, 1971. С. 13— 22). Отрывки из мемуарной прозы В. «Книга о любви и семи смертях», печатавшиеся в феврале 1964 в «Русской мысли», являют собой параллельный источник к воспоминаниям Н. П. о парижской поездке 1911. — 258—264, 268, 271, 273-277
Вигеланн (Вигелянд) Адольф Густав (1869—1943) — норвежский скульптор.—222
Вигель Филипп Филиппович (1786—1856) — чиновник, мемуарист. — 25. Вильгельм 11 (1859—1941) — король Пруссии, император Германии. — 58, 188, 225, 229, 273.
Вилъчинский Ян Марианович (Иван-Сигизмунд Марьянович-Яковлевич, 1891—7) — биолог. Окончил естественное отделение физико-математического ф-та СПб ун-та (1912). В 1911 слушал лекции в Гейдельберге «в связи с возникшими в Петербурге беспорядками». Затем продолжил занятия биологией (в 1913—14 — ассистент Краковского ун-та), поступил «для продолжения научного развития в области, смежной двум факультетам (психология, психология животных)» на историко-филологический (1915), но не окончил его. После революции и Гражданской войны обосновался в Варшаве, где преподавал в университете. В 1939—43 преподавал в Вильно, затем оказался в Германии, где его застал приход советских войск. В 1946 или 1947 перебрался в американскую зону, затем преподавал в польском университете в Лондоне, оттуда переехал в Канаду, в середине 1950-х преподавал в Ливане по контракту. Дальнейшая судьба и место смерти неизвестны.
(Сведения о жизни В. после 1917 сообщены Т. Н. Камендровской). — 85, 86, 102, 105, 106, 113, 118, 133, 137, 157, 185, 194, 198, 359. Винниченко Владимир Кириллович (1880—1951) —украинский писатель и политический деятель. Подробно о нем см.: Дружба народов. 1989. № 12. С. 147—160. — 194.
Вирениус (в замужестве Мацулевич) Жаннета Андреевна (1890 — не ранее 1973) — искусствовед. Историко-филологический ф-т ВЖБК окончила в 1914 и была оставлена у Д. В. Айналова. Гревс писал о ней, что она «была присоединена к экскурсии по ходатайству Оттокара, у которого она занималась; веселая и бойкая, она стремилась к Италии как к наслаждению, но интересовалась и искусством» (Л. 6). В 1920 — нач. 1950-х — сотрудник Эрмитажа, специалист по скульптуре, выставки которой организовывала в Петрозаводске, Ульяновске, Куйбышеве, Воронеже и др. Доктор исторических наук, профессор, преподавала в художественных вузах Ленинграда, член правления Академии художеств. Оставила небольшие воспоминания об итальянской экскурсии 1912, где писала, что «ее познавательное и воспитательное значение было огромно и оставило в умах и сердцах слушательниц неизгладимое впечатление» (1873). — 280.
Висковатые, семья. — 207.
Витте Сергей Юльевич (1849—1915). — 102.
Витте, семья. — 37.
Вихляев Николай. — 22.
Вожжинский. — 382.
Войцеховский (псевдоним: Вербатов) Лев Болеславович — актер, окончил Первую киевскую гимназию в 1899. — 59, 210, 214.
Вольдемар (Вольдемарас) Август Осипович (Аугустинас, 1883—1942) — политический деятель и историк. Сын крестьянина. Окончил городское училище, служил писцом. Гимназическое образование завершил в 22 года. В 1911 окончил историко-филологический ф-т Пб ун-та, где специализировался по древней истории и классической филологии под руководством М. И. Ростовцева, отзывавшегося о В. неизменно высоко. Одновременно публиковал работы по литовской истории и языку. В 1912 оставлен по кафедре классической филологии. Преподавал латынь в Училище Правоведения. В 1914—16 — приват-доцент Пг ун-та, в 1916—18—его Пермского отделения. С 1916 — основатель литовских национальных партий. В 1918 и 1926—29 — глава литовского правительства. В 1920—26 преподавал в Каунасе. С 1929 вел безуспешную борьбу за власть в Литве, неоднократно арестовывался и высылался. В начале 1940 сослан за границу, жил во Франции. Вернулся 18 июня 1940, был арестован НКВД и сослан, жил в Орджоникидзе, где в 1942 был вновь арестован и погиб в заключении. — 158, 213.
Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ, 1694—.1778). — 354.
Волырсон Илья Владимирович (1882—1950) — руководил созданным им в 1922 кооперативным издательством «Время» вплоть до своего ареста в 1930. После освобождения в середине 1930-х работал в издательстве «Химия». — 350. Воронин. — 330, 349.
Врубель Михаил Александрович (1856—1910). — 37. 112.
Вукотич Анастасия Ивановна (1890 — не ранее 1969) — преподаватель и библиотекарь. Окончила историко-филологический ф-т ВЖБК (1916). После революции— руководитель детской колонии в Красной Славянке. Затем — в других детских учреждениях. С 1930-х — сотрудник Центральной детской библиотеки им. Пушкина. — 314, 318.
Вульфиус Александр Германович (1880—после 1931) —историк Западной Европы. До ареста 19 апреля 1930 — профессор ЛГУ. Его арест помимо «дела Академии наук» был связан с разгромом существовавших еще в Ленинграде немецких общественных организаций. Постановлением К ОГПУ 8 августа 1931 выслан в Западную Сибирь на 3 года. В 1967 — реабилитирован. — 364.
Вышомирский Евгений Брониславович. — 85, 86.
Габаев Георгий Соломонович (1877—1956) — военный историк, в 1926—37 — с коротким перерывом — в заключении. В сценарии «дела Академии наук» ему предназначалась роль военного министра. — 361.
Гадди ди Аньоло (7—1396) — флорентийский живописец, сын Т. Гадди. Важнейшая работа — роспись собора Санта Кроче. — 292.
Гадди Тадео (?—1366) — флорентийский живописец школы Джотто. — 292.
Галенко Екатерина Александровна (1866—1933). — 59, 72.
Галенко Николай Александрович. — 60.
Галле Владислав Францевич (1862—?) — полицейский чиновник, в 1890—1900-е — автор наставлений для дворников и швейцаров и иной муниципальной литературы. — 185, 188, 189.
Гамсун Кнут (наст. фам. Педерсен, 1859—1952). — 141, 194, 218, 219, 235.
Ганзен Петр Готфридович (1846—1930) и Анна Васильевна (1869—1942) — семья литераторов-переводчиков. — 233.
Гарелина С. А. см. Анциферова С. А. Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — 284.
Гаттамелата (собств. Эразмо да Нарни, 1370—1443) — итальянский военный деятель, кондотьер. — 286.
Гауф (Хауф) Вильгельм (1802—1827) — немецкий писатель. — 35, 53.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831). — 12, 377.
Гейден Петр Александрович, граф (1840—1907) — общественный деятель, один из основателей Союза 17 октября, а затем—по выходе из него—Партии мирного обновления. Депутат Государственной думы 1-го созыва. — 106.
Гейерстам Густав (1858—1909) — шведский писатель. — 194.
Гейне Генрих (1797—1856) — 15, 125; 127, 139, 163, 204, 247.
Гейнике Николай Александрович (1874—не ранее 1954)—краевед, педагог и историк, один из создателей московской школы экскурсионистов. Н. П. в юбилейном адресе к 70-летию Г. писал: «I) о редком взаимном понимании между москвичами и ленинградцами в области экскурсионной работы; 2) о том, что ему удалось создать свою школу экскурсионистов с ярко выраженным характером; 3) о его изумительном мастерстве нахождения и показа «микроландшафтов»; 4) о нем как историке-реалисте, умеющем любить старину без всякой идеализации, во всей ее конкретности (вещественности)». (Из письма к Т. Б. Лозинской 16 января 1945. Архив Н. М. и Н. А. Толстых). — 397.
Гелъвеций Клод Адриан (1715—1771) — французский философ. — 28, 193.
Генле Ф. Г. Я. см. Гепле.
Генрих IV (1050—1106) — германский король. - 84. Генрих V (1081—1125) — германский король. — 84. Георгиевский Михаил Александрович (1888—?) — историк церкви. Уроженец Брянска. Сын народного учителя, после смерти которого мать перебралась в Петербург и служила кастеляншей в Воспитательном доме. По окончании Выборгского реального училища и досдачи необходимых экзаменов поступил на историко-филологический ф-т Пб ун-та, который окончил в 1914. Был оставлен для приготовления к профессорскому званию под руководством И. Д. Андреева. В 1916 перешел на кафедру всеобщей истории. Летом 1918 избран приват-доцентом по кафедре истории церкви. В 1917—18 командировался в Архангельск, Орел, Пермь, Саратов, Нижний Новгород. Вероятно, из последней командировки не вернулся, и 23 ноября 1918 его было постановлено считать выбывшим. — 203, 207.
Гепле: правильно Генле Фридрих Густав Якоб (1809—1885) — немецкий анатом и патолог, учитель И. И. Мечникова. — 378.
Гераклит Эфесский (кон. VI — нач. V в. до н. э.) — 224, 225, 236. Герман Вера Петровна (1902—1942) — преподавательница литературы и истории, дочь известного педагога П. А. Германа. Перед арестом — корректор Комитета по делам изобретений. Осуждена К ОГПУ 22 июля 1929 на три года. Освобождена в декабре 1931. Затем жила в Ленинграде, где и умерла в блокаду. — 342. Герцен Александр Иванович (1812—1870). — 15, 17, 89, 119, 120, 137, 150, 169, 174, 175, 214, 236, 245, 252, 258, 267, 271, 275, 284, 323, 334, 359, 378.
Герцен (урожд. Захарьина) Наталия Александровна (Nathalie, 1817—1852) — жена А. И. Герцена. — 21, 149, 175, 360.
Герцен Наталия Александровна (Тата, 1844—1936) — старшая дочь А. И. Герцена. — 265, 267.
Герцен (в замужестве Моно) Ольга Александровна (1850—1953) — дочь А. И. Герцена. — 267.
Герценштейн Михаил Яковлевич (1859—1906)—экономист и земский деятель, депутат Государственной думы 1-го созыва. Убит черносотенцами. — 106.
Гершберг (урожд. Шефтель) Серафима Михайловна (1883—?) — историк. Исто-рико-филологическое отделение ВЖБК окончила в 1907. Гревс писал о ней: «...хорошая моя ученица, старше других, уже окончившая курс, серьезно работающая научно, болезненная, со смешными привычками, но удивительно добрая и приятная, непритязательная» (Л. 6). В 1930 вышла популярная брошюра Г. «Как люди научились считать». Дальнейшая судьба неизвестна. — 280. Гершензон Михаил Осипович (1869—1925)—философ и литературовед.—85, 324.
Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.) — древнегреческий поэт. — 135.
Гессель Александр Евграфович. — 145.
Гессель Лидия Гавриловна (ум. в 1920-е) — тетка Т. Н. Оберучевой. — 120, 129, 134, 138, 139, 145—151.
Гесслер Герман — граф, наместник австрийского императора в Швейцарии, в 1307, по народному преданию, убит Вильгельмом Теллем. — 255.
Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832). — 227. 386.
Гизетти, род. — 202.
Гизетти Александр Алексеевич (1888—1938?) —литератор и общественный деятель. Окончил историко-филологический ф-т Пб ун-та (1913). С 1910—организатор студенческого «кружка по внешкольному просвещению» (впоследствии — Эрмитажного). Был оставлен при ун-те, одновременно преподавал в средних учебных заведениях и занимался литературным трудом: сотрудничал в журнале «Голос минувшего», участвовал в разработке наследия Михайловского, Бакунина и Лаврова и т. п. Магистерская работа Г., выполненная под руководством Гревса, «К вопросу о средневековом миросозерцании („De civitate Dei" и „Divina Comedia")» (1919) осталась, по-видимому, незащищенной (ЛО ААН. Ф. 726. On. 1. Ед. хр. 222). Членство в партии социалистов-революционеров (с сер. 1910-х) имело своим следствием неоднократные аресты: как до (1916), так и после революции (1919, 1921). В 1917 — член Учредительного собрания. В 1920-е он, помимо литературных занятий, — сотрудник БАН, чистка в которой в 1929-30 (см. подробнее Перченок Ф. Ф. Академия наук на «великом переломе»//3венья: Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991) поставила его в трудное положение:
Г. одинаково были чужды и «гонители» — большевики, и «гонимые» — старые академические кадры (см. его письма к Ф. И. Витязеву — ЦГАЛИ СССР. Ф. 106. On. 1. Ед. хр. 35). В 1933 был арестован по делу Иванова-Разумника и, вероятно, погиб в заключении или ссылке. Реабилитирован в 1989. — 202—206. Гизетти (полная фамилия Гизетти ди Капофиерри) Алексей Викторович (1850— 1914) — экономист и историк. Отец А. А. Гизетти. Домашний учитель, а затем друг И. М. Гревса. Окончил юридический ф-т Пб ун-та (1872). Оставлен там по кафедре политической экономии. С 1885 — организатор народных читален, затем — член Комитета грамотности, кандидат в члены «Приютинского братства». Был близок с историками А. А. Шаховым и В. О. Ключевским. — 176. Гизетти (урожденная Флеккель) Елена Осиповна — историк и искусствовед. Жена А. А. Гизетти. В 1920 — начале 1930-х занималась историей рабочего движения, сотрудничала в издательстве Общества политкаторжан. В 1933—34 — научный сотрудник Академии искусствознания, где занималась историей пространственных искусств. Арестована не позднее 1935. Дальнейшая судьба неизвестна. — 203. 205.
Гизетти (урожденная Бекарюкова) Наталия Дмитриевна (1859 — не ранее 1926) —врач, писательница (псевд.: Барвенкова; Т. Б.), переводчица. Мать А. А. Гизетти. Двоюродная сестра И. М. Гревса и близкий друг его с детства. — 176, 203.
Гиляров Алексей Никитич (1856—1938) — химик, философ, и историк философии.—113.
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945). — 324—326.
Гирландайо (собств. ди Томмазо Бигорди) Доменико (1449—1494) —итальянский живописец — 292.
Гиттис И. В. см. Берман И. В.
Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — поэт, декабрист. — 386.
Глинкин Владимир Павлович — 377, 394.
Глоба-Михайленко Николай Георгиевич (1888—не ранее 1933) — юрист. Сын
нотариуса. Товарищ Н. П. по Первой киевской гимназии (окончил в 1907). Окончил юридический ф-т Пб ун-та (1912), во время обучения на котором возглавлял Киевское студенческое землячество. В 1930-е жил в Виннице, где, вероятно, служил юрисконсультом в больнице. — 190.
Гнесин Михаил Фабианович (1883—1957) — композитор, педагог, музыкальный деятель. В 1901—09 учился в Пб Консерватории, откуда в 1905 его исключали за участие в забастовочном движении. С 1908 — организатор музыкально-просветительных рабочих кружков в Петербурге и провинции. Ранние произведения связаны с поэзией символизма. Впоследствии — профессор Московской и Ленинградской консерваторий и др. — 136.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 85, 124, 222, 253, 308, 378. Голицын Лев Сергеевич, князь (1845—1915) —владелец крымских виноградников, специалист по виноградарству и виноделию. — 48. Головань Богдан Адамович (1891—?) —оратор на студенческой сходке в 1914. Сын таможенного чиновника из Поти. По окончании Новороссийской гимназии (1909) поступил на юридический ф-т Пб ун-та. В феврале 1912 арестован в административном порядке как «активист эсеровской студенческой фракции», исключен из ун-та. В 1912—13, служа в армии, неоднократно обращался с прошениями об обратном приеме в ун-т, указывая в них, что «ни устройство сходок, ни активное препятствие занятиям» ему в вину не ставились, а обвинения, вмененные ему, лишены оснований, т. к. во время студенческих волнений 1912 он отсутствовал в ун-те, занимаясь организацией студенческого вечера в Дворянском собрании. Эти ходатайства были удовлетворены: в июне 1913 он был восстановлен на юридическом ф-те. В октябре 1914 перевелся в Ярославский Демидовский юридический лицей. — 188.
Головань Владимир Александрович (1872—?) —историк-медиевист, искусствовед. Ученик Гревса. В 1920-е преподавал в Институте истории искусств. Уволен оттуда около 1930. Дальнейшая судьба неизвестна. — 280—282, 285, 292, 294—296, 298, 307, 343.
Гольбах Поль Анри (1723—1789) — французский философ. — 193.
Гольдман. — 372.
Гомер. — 26, 56, 158, 160.
Горелик. — 392.
Горецкий Гавриил (Гаврила) Иванович (1900—1988) — геолог-географ, академик АН БССР с 1928, один из ведущих специалистов отечественной палеопатамоло-гии — науки о реках прошлого. Осужден ОСО ОГПУ в мае 1931 на 10 лет. В 1931—41 — сперва заключенным, а затем вольнонаемным — работал в инженерно-геологических экспедициях Гидропроекта на строительстве различных каналов и ГЭС. — 377, 386, 393, 394, 396, 397.
Горский Александр Константинович (псевдоним А. Горностаев, 1884 или 1886— 1943) — поэт и эссеист, искусствовед. Арестован в 1929 (или в 1931 ?) и получил 10 лет лагеря. По выходе из лагеря (1937) жил в Калуге. Вновь арестован в 1943 после освобождения города советскими войсками как ранее репрессированный и находившийся на оккупированной территории, умер в пересыльной тюрьме в Туле. (Сообщено К. М. Поливановым, альтернативные даты рождения и ареста сообщены И. И. Чухиным). — 377—379.
Горький М. (Пешков Алексей Максимович, 1868—1936).— 160, 378.
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822). — 227, 253.
Гоццоли Беноццо (собств. ди Лезе ди Сандро, Беноццо; 1420—1497) — итальянский живописец Раннего Возрождения, уроженец Флоренции. — 297, 301, 302.
Гракхи, братья: Тиберий (162—133 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.) —римские народные трибуны. — 64.
Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855)—историк и общественный деятель. — 106, 166, 378.
Гревс Александра Ивановна (Шурочка, 1894—1910) — младшая дочь И. М. Гревса. - 175, 177, 294.
Гревс Екатерина Ивановна (1887—1942) — старшая дочь И. М. Гревса. Окончила историко-филологическое отделение ВЖБК в 1917, специализировалась по духовной культуре позднего средневековья и дантологии. По специальности не служила. В 1914 сдала экзамены за курс Пг Консерватории, к которым была допущена в
качестве «постороннего лица»: специализировалась по классу фортепьяно, получила звание свободного художника. Много болела, служила в канцелярии, библиотеке, была без работы. В итальянской экскурсии 1912 участвовать отказывалась, о чем жалел ее отец: «Ее просил настойчиво и я, и сердечно приглашали знавшие ее участницы. Но она не решилась преодолеть замкнутость своего характера. До сих пор горюю об этом» (Л. 7). Умерла в блокаду. — 174—177, 394.
Гревс Иван Михайлович (I860—1941) —историк, специалист по Римской империи и средневековью, выдающийся педагог, краевед и общественный деятель, профессор Петербургского-Ленинградского ун-та и ВЖБК. Н. П. был преданнейшим его учеником. Это ценил и сам Г. Интересен его отзыв о Н. П., относящийся ко времени итальянской экскурсии 1912: «особенно тесно со мной сошедшийся, с которым я чувствовал настоящее внутреннее сродство во многих стихиях души и которого я знал тогда (...) лучше всех других, был настоящим человеком, нужным для экскурсии: хорошо литературно образованный, любящий науку и искусство, идеалистически мыслящий, религиозный и воодушевляющийся, он обладал уже известным заграничным опытом и определенно настроенными на Италию духовными вкусами. По привычкам он был несколько избалован семейным комфортом, но умел и преодолеть эти привычки под влиянием энтузиазма и вдохновения, и искреннего коллегиального чувства. Мне не только приятно, но и важно было видеть его рядом, чувствовать, как сердце его бьется в созвучии с моим и как он горит желанием, чтобы все шло хорошо, является горячим патриотом экскурсии и деятельным помощником» (Л. 6 об. — 7).
В 1920-е Г. и его ученики подвергались нападкам за «идеализм». Г. — теоретик и проводник экскурсионного метода в преподавании истории, в 1921—24 возглавлял Гуманитарный отдел Пг Экскурсионного института. Потеряв работу в ун-те (1923), занимался литературным трудом, а с 1925 постоянно сотрудничал в Центральном бюро краеведения. В 1930 был ненадолго арестован. С 1934 до конца жизни преподавал в ун-те, вел там аспирантов и т. п. Свою версию причин благополучного окончания судьбы Г. предлагает в неопубликованных воспоминаниях его ученица А. И. Хоментовская: «Один из немногих уцелевших старых профессоров, он этим обязан был в 1935 году заступничеству Дыбенко, своего бывшего слушателя, но ученики его почти все рассеялись: кого рок давно и безвозвратно увлек на запад, кого—на восток. Его старость была омрачена». — 159, 164—178, 202—205, 207, 243, 277—283, 286, 288—291, 293, 294, 296, 298, 300, 301, 303, 304,306—309, 327, 333, 337, 342, 355, 356, 362, 393, 397.
Гревс (урожд. Зарудная) Мария Сергеевна (1860—1942) — учительница, потом библиотекарь. С 1885 — жена И. М. Гревса. Окончила гимназию (1878), затем училась на ВЖБК (1879—83). Участвовала в Комитетах грамотности и народной литературы, входила в группу основателей «Приютинского братства». Умерла в блокаду. — 175—177, 394.
Гревсы, семья. — 175—177. 394.
Грегоровиус Фердинанд (1821—1891) — немецкий историк, занимался античностью и средневековьем. — 305.
Гржебин Зиновий Исаевич (1869—1929) —книгоиздатель, с 1923—в эмиграции. — 326.
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829). — 252.
Григ Эдвард (1843—1907). — 217, 223, 309.
Григорий Назианзин (он же — Богослов, ок. 330 — ок. 390) — греческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель. — 174.
Гримм, братья: Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859) —немецкие филологи и писатели. — 35.
Гримм Давид Давидович (1864—1941) — правовед, специалист по римскому праву. Окончил юридический ф-т Пб ун-та в 1885, в 1891—1913 и 1917—20 — его профессор. Одно время—декан юридического ф-та и ректор ун-та (1910—11). Преподавал также в Училище Правоведения, Александровской Военно-юридической академии. Юрьевском (Тартуском) ун-те (1889—91 и 1927—34). С 1907— член Государственного Совета по выборам от АН и российских ун-тов. 5 сентября 1919 был арестован. По освобождении уехал в Киев, а затем в Прагу, где в 1920— 27 был профессором Русского юридического ин-та. — 162, 176.
Гримм Эрвин (Александр) Давидович (1870—1939 или 1940) —историк. Пб ун-т
окончил в 1891 и был оставлен при нем. С 1894—приват-доцент Пб ун-та, в 1896—98 — Казанского, затем после заграничной командировки—снова в Петербурге (с 1903 — экстраординарный, с 1907 — ординарный профессор всеобщей истории). В 1908—10—проректор, в 1911—18 — ректор ун-та. Основные работы посвящены истории Западной Европы и международных отношений. В 1899—1916 одновременно преподавал на ВЖБК. По возвращении из эмиграции одно время жил в Москве, сотрудничал в Ин-те востоковедения, консультировал в НКИД. Дополнительная информация и меткие характеристики Гримма содержатся в неопубликованных воспоминаниях его ученицы А. И. Хоментовской (1941): «Э. Д. Гримм был столько же умен и остроумен, сколь неустойчив, как в науке, так и в общественно-политической жизни. Он нисколько не походил на немца; в своей широте и гибкости он усвоил русский стиль; в остроумии, скепсисе и тонкости равнялся по французам. Дорогу он не раз менял и не слишком обдуманно. Перед февральской революцией все его историческое образование не помешало ему принять участие в подозрительной «Русской Воле» Протопопова, в 1918 году он входил в состав крымского правительства Врангеля, эмигрировал в Болгарию, в 1925 году вернулся, причем волна то опускала его вниз — на библиотечную работу — то снова возносила наверх: в 1933 году, когда по смерти Покровского клапан несколько освободился и он был привлечен в Академию истории материальной культуры на работу над вузовскими учебниками. Смерть его в начале 1940 г. была трагична и таинственна». См. также прим. 10 к части пятой. — 162—164, 188, 189.
Грифцов Борис Александрович (1885—1950)—литературовед, искусствовед и переводчик. Его совместные с П. П. Муратовым труды посвящены Риму и творчеству художника Н. П. Ульянова. — 307.
Гришин-Алмазов А. Н. — полковник, член эсеровских правительств в Сибири в 1918—19.—214. Громов. — 322.
Гросман Ксения Владимировна (1888—1923) — историк. Историко-филологическое отделение ВЖБК окончила в 1912 по группе русской истории, но была оставлена у И. М. Гревса, который писал о ней: «оригинальная идеалистка, полная своеобразной энергии, самостоятельная и настойчивая, представляла ярко выраженную личность, которая встречается не каждый день, влагала в дело, в котором участвует, собственную мысль и почин. Она была не без чудачеств, но в общую жизнь вносила специфический, хорошо дополняющий ее обстановку цвет. Она после нескольких лет прекрасной работы педагогом, потом на фронте сестрою милосердия— скончалась (...) от тяжелой психической болезни» (Л. 6 об). — 280, 299, 309.
Грушевский. — 329.
Грюнвальд (Гринвальд, Гринберг) Маргарита Константиновна (1891—1968) — преподавательница английского языка, историк внешней политики Англии, ученица и друг академика Е. В. Тарле. Окончила историко-филологическое отделение ВЖБК в 1916. Арестована в 1928, срок (5 лет) отбывала на Соловках, затем была в ссылке, после войны преподавала в Ленинграде, стала кандидатом исторических наук. — 339.
Гулисов. — 372.
Гумилев Николай Степанович (1886—1921). — 28.
Гуреев Александр Митрофанович (ум. не ранее 1960-х?). — 377, 380, 381, 383, 387, 389. 390. 393, 396.
Гюго Виктор Мари (1802—1885). — 94, 113, 121, 212, 260.
Гюйо Жан Мари (1854—1888) — французский философ и теоретик искусства. — 85.
Данилович — мать А. А. Фортунатовой. — 61.
Данте Алигьери (1265—1321). — 26. 133, 143. 160, 169—172, 175, 254, 277—280, 286—292. 294, 333.
Дантон Жорж Жак (1759—1794). — 267, 276.
Дарвин Чарльз Роберт (1809—1882). — 71.
Дашкевич Иосиф Семенович. — 84.
Дега Илер Жермен Эдгар (1834—1917)—французский живописец-импрессионист. — 269.
Деген-Ковалевский Борис Евгеньевич (1894—1941) — историк. Работал в Государ
ственной Академии истории материальной культуры, умер в блокадном Ленинграде. — 373.
Демулен Камиль (Камилл, 1760—1794) — деятель Великой французской революции. — 266. Джорджоне (собств. Джордже Барбарелли де Кастельфранко, 1476 или 1477 —1510) — итальянский живописец. — 293.
Джотто ди Бондоне (1266 или 1267—1337) — итальянский живописец. — 205, 254, 277, 278, 286, 292, 305. Диккенс Чарльз (1812—1870). — 68, 101.
Дилъ Эрих Васильевич (Эрих-Вильгельм Вильгельмович, 1890—1952) —филолог-классик. Уроженец Двинска. Из семьи инженера-технолога. Окончил историко-филологический ф-т Пб ун-та по отделению древних языков (1913) и был оставлен по кафедре классической филологии под руководством Ф. Ф. Зелинского, отмечавшего также, что Д. был его главным помощником во время экскурсии в Грецию в 1910, подчеркивавшего его заслуги во время археологических раскопок в Ольвии под руководством Б. В. Фармаковского. Важнейшие публикации Д. времени его подготовки к профессорскому званию сосредоточены в тогдашнем журнале петербургских античников «Гермес». В 1916—17 Д. — приват-доцент Пг ун-та, в 1917—22 —Томского, в 1922—38 —доцент в Риге. Защитив докторскую диссертацию, весной 1939 избран профессором Латвийского ун-та. В эти годы он часто публиковался, составил греческо-латышский словарь, ездил с лекциями и для научных занятий в Германию, состоял членом многих латышских и немецких научных обществ, активно популяризовал классическую филологию в Латвии. Вероятно, в годы Второй мировой войны попал в Германию, умер в Йене. — 158.
Дино Компаньи (ок. 1260—1324) — итальянский хронист. — 279.
Дицман Николай Иванович. — 341, 349.
Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874—1939) — историк-медиевист, ученица Гревса, первая в России женщина-доктор по всеобщей истории (1918), член-корреспондент Академии наук (1929), основательница отечественной школы латинской палеографии. В апреле 1929 ей было предъявлено обвинение по 58-й статье, однако вскоре дело было прекращено. — 175, 178, 270, 343.
Добролюбов Николай Александрович (1836—1861).— 116, 191.
Доде Альфонс (1840—1897) — 113.
Дойникова А. В. — 217.
Долгушин Павел. — 108.
Долгушин Петр. — 108.
Долинский — 49.
Донателло (собств. ди Никколо ди Бетто Барди, ок. 1386—1466) итальянсский кульптор. — 286.
Достоевский Андрей Андреевич (1863—1938) —секретарь Русского географического общества, редактор «Известий РГО». До ареста в 1930 — научный сотрудник Пушкинского Дома. «Тройкой» ПП ОГПУ Л ВО 10 февраля 1931 приговорен к 5 годам лагеря. Освобожден в мае 1931 по случаю 50-летия со дня смерти его двоюродного деда Ф. М. Достоевского. — 389.
Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864) —писатель.—23.
Достоевский Николай Михайлович (1831—1883) —инженер-архитектор.—23.
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881). — 23, 61, 68, 76, 79, 87, 93, 126, 129, 137, 199—201, 238. 278, 296, 378, 379, 385, 388.
Доу Джордж (1781—1829) — английский живописец. — 133.
Драга Машинова — сербская королева, вторая жена Александра Обреновича. — 69.
Дрейер Николай Николаевич (Ника, 1889—1975) — педагог. Друг киевских лет Т. Н. и Н. П. Анциферовых. С 1908 учился на агрономическом отделении Киевского политехнического ин-та. В годы Первой мировой войны служил эфицером. С 1920 — в эмиграции: сначала в Константинополе, затем в Праге, где работал воспитателем в русской школе. По словам Т. Н. Камендровской, «все его воспитанники в один голос восхищались им, его знаниями, умением понять психологию молодежи, прямотой и честностью». Хлопоты Д. о переводе попавшей в 1942 в Германию дочери Н. П. в пражскую гимназию не увенчались успехом. Вероятно, уже после смерти Н. П. (в начале 1960-х) Д. приезжал в СССР и встречался с
С. А. Гарелиной. Его воспоминания о Н. П. хранятся в ОР ГПБ (Ф. 27). — 114, 122—125, 129, 133, 134, 139—143, 147, 149, 192, 201.
Дроздов Анатолий Николаевич (1883—1950)—музыкант и педагог. Учился на юридическом ф-те Пб ун-та, в Сорбонне, в Пб Консерватории (окончил ее в 1909). В последней — один из активных участников студенческого революционного движения. В 1911—16 возглавлял музыкальное училище в Екатеринодаре, в 1918—20—профессор Саратовской, в 1920—24—Московской консерватории. В 1920—1930-е концертировал в Поволжье, с конца 1930-х осел в Москве, преподавал и занимался музыкально-литературной работой. —136, 239.
Дружинин Алексей Серафимович. — 81.
Дружинин Серафим Николаевич. — 81.
Дружкин Самуил Львович — скрипач, ученик Л. С. Ауэра, арестован в 1928. После освобождения в 1930-х жил в Саратове. — 341.
Дузе Элеонора (1858—1924) —итальянская драматическая актриса. В России выступала в 1891-92 и 1908. — 217, 265.
Дункан (Данкан) Айседора (1878—1927)—американская танцовщица, одна из первых противопоставившая свободный пластический танец канонам классического балета. В России жила в 1907-13 и 1921-24. — 159.
Дуччо (Дуччио) ди Буонинсенья (ок. 1255—1319) — итальянский живописец, основположник сиенской школы живописи XIV в. — 303.
Евреинов Николай Николаевич (1879—1953)—режиссер, драматург, теоретик и историк театра. С конца 1920-х — в эмиграции. Умер в Париже. — 81.
Еврипид (около 480—406 до н. э.). — 56.
Екатерина II (1729—1796) — императрица — 23, 24.
Ермоловы, семья сановника. — 37.
Ернштедт (Эрнштедт) Елена Викторовна (1889 или 1890—1942) — археолог и историк искусства. Из семьи профессора-античника. Окончила ВЖБК по группе всеобщей истории (1913) и была оставлена там под руководством М. И. Ростовцева. Занималась и у Гревса, т. к. «тяготела к Италии». «Талантливая и увлеченная классическим миром, — писал о ней Гревс, — экспансивная и яркая, совсем молодая, самоуверенная, но отходчивая, розовая блондинка с великолепными волосами, нравственно строгая, но и своевольная, она являлась отличным элементом брожения и инициативы, но склонна была и к эгоистическим и расстраивавшим порядок выходкам и потому требовала сдерживающего, осторожного "воспитательного" воздействия» (Л. 6—боб). По завершении образования преподавала, работала в Эрмитаже и Институте истории материальной культуры АН. В 1930 была арестована, и ее подруга М. М. Левис вспоминала свое изумление, когда в камеру ЛенДПЗ ввели Е. — «все такую же красавицу-блондинку с греческой прической и золотым обручем на голове». После пятилетнего срока лагеря ил»Г ссылки Е. вернулась в Ленинград, где и умерла в блокаду. Будучи ученым «академического склада, — по словам М. М. Левис, — Е. временами подшучивала над Н. П. за его разбросанность, хотя и уважала его безмерно и глубоко ценила его человеческие качества». — 159, 160, 162, 280, 287, 288, 295, 299.
Ершова Елизавета Владимировна (1880—?)—историк. Уроженка Московской губернии, дочь генерал-майора. Окончив «с шифром» Оренбургский ин-т Николая I (1897), спустя 10 лет поступила на ВЖБК, которые окончила по группе всеобщей истории в 1914. Занималась у М. И. Ростовцева. Е. — «скрытный и сдержанный, — по словам Гревса, — но вдумчивый и серьезный человек, строгий по внешности, но в сущности полный веселости, держалась замкнуто и молчаливо, но могла только содействовать деловитости и углубленности работы» (Л. 6). По окончании ВЖБК, Е. еще год проучилась на них по группе русской филологии, но потом ушла и некоторое время преподавала в Петрограде, а потом (1918) жила в Крыму. Дальнейшая судьба неизвестна. — 280. Ефремов Алексей Павлович (1892—?)—бухгалтер. Уроженец Тамбовской губернии. Перед арестом жил в Белоруссии. «Тройкой» ОГПУ осужден по обвинению в «уклонении от мобилизации» и «сопротивлении властям» на 3 года. Освобожден из СЛОН в апреле 1931 и выслан в Северный край. — 341, 349.
Жданов. — 366, 371.
Железное Владимир Яковлевич (1869—1933) — экономист. — 122, 123.
Жигачев.—333—335.
Жижиленко Александр Александрович (1873 — не ранее 1928) — правовед, юрист-криминолог, профессор Пб ун-та. Преподавал там и в советские годы. — 173.
Жмакин Анатолий Николаевич. — 85.
Жорес Жан (1859—1914) —деятель французского и международного социалистического движения, историк. — 274.
Жуковы: братья Сергей и Александр Ивановичи. — 82.
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852). — 57, 66.
Завалишина Людмила Федоровна — историк. После Петрозаводской и Пензенской гимназий поступила на ВЖБК, которые окончила в 1911 по группе всеобщей истории. В нач. 1920-х вторая жена А. Э. Серебрякова. — 159, 160, 203, 204.
Зальманов (Зелиманов) Александр Михайлович (1891—?) —в 1920-е инструктор Ленгубсуда, осужден по обвинению в злоупотреблении и мошеничестве. — 329, 330, 336. Заозерская Елизавета Ивановна (1897—1974) — историк, ученица С. Ф. Платонова и С. В. Рождественского. — 369.
Заозерский Александр Иванович (1874—1941) —историк России XVII века, ученик С. Ф. Платонова, в 1920-е — ученый хранитель Рукописного отдела БАН, арестован в 1929, освобожден в середине 1930-х. — 335, 369.
Зарудный Александр Сергеевич (1863—1934) — юрист. Окончил Училище правоведения (1883), служил по судебному ведомству, затем был адвокатом. С 1885— член Комитетов народной литературы и грамотности. В 1917 — сенатор, товарищ министра юстиции. — 176.
Зарудный Сергей Иванович (1821—1887) — юрист, специалист по гражданскому праву и процессу, видный деятель эпохи реформ 1860-х, с 1869 — сенатор. Переводчик Данте и Беккариа. — 176.
Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944) — филолог-классик. Окончил Лейпциг-ский классический семинарий (1879). В 1885—1921 — профессор Пб-Пг ун-та. С 1921 —профессор Варшавского ун-та.— 137, 157—161, 166, 203, 205, 240, 295. Зелинский Феликс Фадеевич (1886—?) — ботаник. В 1903-09 учился на естественном отделении физико-математического ф-та Пб ун-та, одновременно в 1904-08 — в Мюнхенском ун-те. В 1909-11 участвовал в экспедициях по заданию Переселенческого управления (Западная Сибирь). После революции преподавал в ун-тах Германии. — 160.
Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—1936) —323.
Зиссерман Петр Иванович — пушкинист, до революции — офицер Лейб-гвардии Егерского полка, в Гражданскую войну служил у Колчака, за что в 1920-е отбыл заключение. Затем ученый-хранитель Пушкинского Дома. В последний раз арестован 1 декабря 1929. Расстрелян. — 371.
Зичи Михай (Михаил Александрович, 1827—1906) — венгерский рисовальщик и живописец. В 1847-74 и с 1880 работал в России. — 44.
Знаменская Александра Алексеевна (1889—не ранее 1970) —учительница. Уроженка Пскова. Из семьи учителя математики. Гимназическое образование завершила в Новгороде, где ее наставником был А. И. Анисимов. ВЖБК окончила в 1914 по группе всеобщей истории. В последние годы обучения занималась в семинарии Гревса. «Лекция Гревса, — писала она сестре по свежему впечатлению, — любимого профессора — с идеализмом, глубоко верящего в духовное человека <«..) Он так умеет заглянуть в душу и оценить истинно ценное в ней, несмотря на темные пятна. После этой лекции выхожу совершенно просветленной» (ОР ГПБ. Ф. 1088. Ед. хр. 116. Л. 30—30 об). Вспоминая об экскурсии 1912, Гревс писал о 3.: «К компании до экскурсии не принадлежала <...>, но вошла в зерно группы быстро и хорошо, работала усердно и срослась с дружеством на будущие времена. Она отличается спокойным характером, справедливостью и добрым товарищеским нравом» (Л. 6 об.). Эта привязанность не утратила силы и после окончания 3. ВЖБК: еще в 1916 она принимала участие в домашнем кружке Гревса по изучению Ромена Роллана. С 1914 3. преподавала историю в Петроградской учительской семинарии, а с 1919 — в школах города. Когда преподавание истории было прекращено, 3. стала учительницей начальной школы, затем библиотекарем, секретарем учебной части. С 1933 вновь преподавала историю, была районным и городским методистом по этому предмету, автором пособий для учителей истории. С 1942 сотрудничала в Ин-те усовершенствования учителей.
В I960 стала заслуженной учительницей РСФСР. Оставила небольшие воспоминания о своей педагогической деятельности. Передала архив своей семьи в ОР ГПБ. — 309.
Золя Эмиль (1840—1902).— 121.
Зорины. — 146.
Ибсен Генрик (1828—1906). — 79, 108, 123, 133, 194, 217, 218, 222, 228, 233, 284. Иваницкий. — 345—347,
Иванов Александр Андреевич (1806—1858). — живописец. — 308.
Иванов Борис Сергеевич — соученик Н. П. по Первой Киевской гимназии, которую окончил в 1908.— 82.
Иванов Варсонофий Николаевич (1859—не ранее 1911) — преподаватель математики. Уроженец Курска. Окончил Киевский ун-т Св. Владимира. .Преподавал в средних учебных заведениях Малороссии. В Первой киевской гимназии — с 1903.
Автор задачников и очерков об экскурсии с учащимися по Балканскому полуострову. — 84.
Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт. С 1924 — в эмиграции. — 132, 158, 179.
Иванов Евгений Павлович (1879—1942) — друг А. Блока, в 1900—1910-х — сотрудник символистских изданий, детский писатель. В 1920-е работал библиотекарем и статистиком. По делу «Воскресения» был сослан на 3 года в Великий Устюг. Затем ссылку продлили еще на год. По возвращении в Ленинград работал счетоводом, табельщиком, рабочим, а в последние годы кассиром в Консерватории. Умер от голода во время блокады. — 332.
Иванов Сергей Алексеевич (1856—не ранее 1928) —ученый-ветеринар. В 1900-1910-е—профессор Киевского политехнического ин-та, в 1920-е—сельскохозяйственных вузов Киева. Депутат Государственной думы 3-го созыва. — 82.
Иванов-Разумник (наст. фамилия Иванов) Разумник Васильевич (1878—1946) — литературовед и социолог. Окончил физико-математический ф-т СПб ун-та. Автор работ о Михайловском, Герцене и Белинском. В 1910 — нач. 1920-х был близок к эсерам (с 1917 — к левым), арестовывался и ссылался. В последний раз, вероятно, в 1933. В 1941 оказался на оккупированной территории (в Детском Селе), затем в Германии, где и умер. — 132.
Извеков Дмитрий Петрович (1849—не ранее 1909) —преподаватель математики и физики. Уроженец Орла. Окончил Киевский ун-т Св. Владимира (1874) и сразу стал преподавать в Первой Киевской гимназии. В августе 1908 был уволен по прошению, а еще год спустя ушел в полную отставку по болезни. Был членом физико-математического общества, комиссии народных чтений, Киевского о-ва грамотности, принимал участие в постройке «Народного дома». По отзыву воспитанника — «добрый идеалист, изо всех сил старавшийся заинтересовать своим предметом». — 84.
Изгоев (наст. фам. Ланде) Александр (Арон) Соломонович (1872—1935) —публицист, историк и социолог. Правый кадет. Сотрудник «Речи», «Современного слова», «Русской мысли» и др. Участник сборника «Вехи». В 1922 выслан за границу. Сотрудничал в газете «Сегодня» (Рига) и др. Умер в Эстонии. — 212.
Измайлов Николай Васильевич (1893—1981) — филолог-пушкинист, зять С. Ф. Платонова. С 1923 — зав. Рукописным отделом Пушкинского Дома, старший ученый хранитель. Арестован 14 ноября 1929. По постановлению К ОГПУ 8 августа 1931 получил 5 лет лагеря. До 1934 — в заключении. С 1957 до ухода на пенсию вновь зав. РО ПД. В ходе реабилитационного дела «дважды допрошенный во время дополнительной проверки (...) показал, что фактически о существовании антисоветской организации ничего не знал и в течение шести месяцев своей вины не признавал, однако под воздействием примененных к нему незаконных методов психического воздействия вынужден был оговорить себя». (Сообщено Д. Юрасовым). Реабилитирован в 1967. — 351, 371, 373.
О.Иоанн — иосифлянский священник в Кеми. — 349.
О.Иоанн Кронштадтский (в миру Иоанн Ильич Сергиев, 1820—1908) — проповедник и писатель. — 48.
Иоанн III (1440—1505) — царь. — 19.
Иоанн IV Грозный (1530—1584) — царь. — 19.
Иогансон Оскар Федорович (1858—не ранее 1914)—преподаватель немецкого языка,
куплетист и композитор. Уроженец Риги. Звание учителя немецкого языка получил в 1882. Преподавал в Суроже, Новозыбкове, Новгороде-Северском, Полтаве. С 1893 - в Первой Киевской гимназии. Автор драм и романсов. «Учился я у него отвратительно, — вспоминает литератор Н. П. Михайлов, — среди множества «I» и «2» попадаются изредка «4» и «5». Это за стихи! О. Ф., сам поэт, композитор, человек талантливый, Ценил и поощрял мое творчество. С 6 класса я бросил учить немецкий язык, но моя дружба с О. Ф. не только не уменьшилась, но, напротив, окрепла». В тех же тонах описывает его и Паустовский. — 84.
Иосиф митрополит Ленинградский (в миру Иван Семенович Петровых, 1872 — кон 1930-х) - православный иерарх, именем которого совершалось одно из самых мощных движений неповиновения верующих власти в 1920-е. — 349, 352. Истомин Владимир Иванович (1809—1855) —контр-адмирал, герой обороны Севастополя. — 39.
Йоргенсен Йохан — датский историк, см. прим. 28 и 30 к части шестой. — 305.
Кавальери Лина (1874—1944) —итальянская оперная певица, в Петербурге гастролировала в 1901. 1907-10. 1914. - 207.
Казанский Борис Васильевич (1889—1962) —литературовед и переводчик. Окончил историко-филологический ф-т Пб ун-та (1913), оставлен по кафедре классической филологии. С 1917 преподавал в вузах, с 1920 — профессор Пг-Лен. ун-та. Автор исследований по античной литературе, театру, языкознанию. Кроме того исследователь творчества Пушкина и литературы пушкинской поры. — 158.
Калайда Феофан Климентьевич (1864—1942)—биолог, специалист по садоводству и земледелию. -44.
Кальвин Жан (1509—1564) — деятель Реформации. — 331.
Камендровская (урожд. Анциферова) Татьяна Николаевна (Танюша, род. 1924) — дочь Н. П., во время войны была угнана в Германию, затем оказалась в США, стала известней радиожурналисткой («Голос Америки»), В настоящее время— в Вашингтоне.- 14, 17, 41. 65, 66, 334, 336, 337. 353, 355, 372, 373, 388, 389, 395.
Каменев (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883—1936). — 323.
Каменская Татьяна Давыдовна (1890 — между 1969 и 1973) — историк искусства. Уроженка Петербурга. Из семьи врача. По окончании Петровской женской гимназии поступила на ВЖБК, которые окончила в 1913 по группе всеобщей истории. Занималась у Карсавина, потом у Гревса, который писал о ней: «живая, добрая, общительная, скромно приветливая, выдающаяся музыкантша» (Л. 6). Подруга сестер Знаменских с 1913. С 1919 — сотрудник Эрмитажа, где участвовала в составлении каталогов, вела массовую работу, работала в библиотеке Эрмитажа, заведовала Отделением рисунка Отдела графики, стала кандидатом исторических наук и получила звание профессора. Выпустила большое число работ, посвященных западноевропейской графике, пастелям, акварелям и др. Кроме ВЖБК, окончила и Консерваторию. Эрмитаже проработала до конца 1960-х, была там секретарем Ученого Совета, сотрудничала в БСЭ. Совместно с В. П. Андреевой-Георг оставила воспоминания об И. М. Гревсе, хотя «вспоминать» и не особенно любила: «Воспоминаний — вещь тяжелая, — писала она В. А. Знаменской в 1967, — возвращаться к старым переживаниям — тягостно — будь они даже сами по себе понятными» (ОР ГПБ. Ф. 1088. Ед. хр. 123. Л. 13—14). — 280, 295.
Е Иммануил (1724-1804). - 126. 155.
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826). — 291.
Кареев Николай Иванович (1850—1931) —историк. В своих воспоминаниях характеризовал себя как ученого и гражданина следующим образом: «Из двух видов исторической работы меня всегда более привлекала работа синтетическая, обобщающая и объединяющая, нежели аналитическая, детальная и изолирующая. Вопрос не в том, нужнее и ценнее <...>, а в том, какая работа более соответствовала складу моего ума и моим влечениям, среди которых не последнее место занимает с детства еще мне присущее передавать другим накопленные знания. <...> Если мне пришлось признать себя мало пригодным для политической деятельности требующей особых качеств, необходимых во всякой борьбе, то способность к совместной с Другими мирной работе меня не оставляла, и я никогда не отказывался от участия в деле, которое было для меня симпатично, в котором я мог быть сколько-нибудь полезным». — 131, 157, 163—165, 168, 173, 176, 180, 193, 258, 267, 269.
Карл Великий (742—814) — франкский король (с 768) и император (с 800). — 84.
Карлейль Томас (1795—1881) — английский историк и философ. — 155.
Карпаччо Витторе (ок. 1455 или 1465 — ок. 1526) — итальянский живописец. — 284—292.
Карпинский Александр Петрович (1846—1936) — геолог, академик с 1886, в 1917—36 — президент АН. — 374.
Карсавин Лев Платонович (1882—1952)—философ и историк-медиевист. В 1922 выслан за границу, работал в Литве, после установления там советской власти — арестован, попал в лагеря и там погиб. — 177, 178, 279, 281, 343.
Карсавина Тамара Платоновна — см. прим. 4 к очерку «По Италии в 1912...» части шестой. — 281.
Карский. — 185.
Касса Лев Аристидович (1865—1914) — министр народного просвещения России в 1911—14.— 187, 214.
Кастальская. — 222.
Кастелуччо Клаудио (1870—1927) —каталонский живописец, жил в Париже.— 259.
Качалов (наст. фам. Шверубович) Василий Иванович (1875—1948). — 260.
Кельнер (в замужестве Твалчрелидзе) София Александровна (1876—?) — историк. Уроженка Пятигорска. Дочь генерал-лейтенанта. Среднее образование завершила в Москве (1893). Проучилась 7 семестров на Московских высших женских курсах. В 1905—06 привлекалась в Москве к суду по политическому делу. В 1912 окончила ВЖБК по группе всеобщей истории. «Симпатичная трудолюбивая работница, — характеризовал ее Гревс, — не очень близкая к остальной компании, но искренно занимавшаяся среднею историею и одаренная спокойно благожелательным нравом» (Л. 6). К. была оставлена на ВЖБК под руководством Гревса и ещё в течение нескольких лет занималась в Дантовском семинарии. Выйдя замуж, перебралась в Тифлис. Судьба после 1928 — неизвестна. — 280.
Кипарисов Николай Аркадьевич (Заяц, 1885 — не ранее 1950) — родственник Курбатовых, впоследствии — доктор экономических наук, автор исследований и учебников по бухгалтерскому и балансовому учету, преподавал в экономических вузах Москвы. — 99, 100.
Кипарисов Петр. — 95.
Кипарисовы, семья. — 22.
Кирилл Владимирович, вел. князь (1876—1936) —после революции—в эмиграции. — 368.
Киричинский Владимир Сергеевич — сын киевского городского санитарного врача. — 85, 102, 105—107, 113, 118, 133, 359.
Киров (наст. фамилия Костриков) Сергей Миронович (1886—1934) — 20, 367, 389.
Китченер Гораций Герберт (1850—1916) —британский военный деятель, в 1900— 1902 — главнокомандующий британскими войсками во время англо-бурской войны. — 58.
Клермон-Тоннер Станислав граф де (1747—1792) —политический деятель, основатель «Монархического клуба», противник якобинцев. Растерзан толпой. — 266.
Книговский Николай Александрович. — 102.
Книпович Борис Николаевич («товарищ Борис», 1880—1924) — экономист и статистик, социал-демократ. В 1908—10 — студент юридического ф-та Пб ун-та, откуда был исключен в связи с демонстрациями по случаю похорон Л. Н. Толстого. В 1911 арестован и выслан за границу. С 1917 — в Наркомземе, с 1922— в Госплане. — 185, 186.
Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) —историк, юрист, социолог. Академик с 1914. В 1887—1905 — за границей, в 1905—16 — профессор СПб ун-та. Депутат Государственной думы 1-го созыва (1906).— 131, 156. Ковригин Всеволод Данилович (О.Всеволод, 1893 — не ранее 1933) — священник. В 1913—18 учился в Пг ун-те на естественном отделении физико-математического и историко-филологическом ф-тах. Изучал биологические и философские дисциплины, древнееврейский, египетский и коптский языки. Около 1918 принял священство, служил в Орле, откуда в 1923 был выслан. Затем служил в Ленин-
граде, где в 1928 был арестован и сослан в Великий Устюг. В 1931 получил новую ссылку в Коми АССР. Судьба после 1933 неизвестна. — 332, 350.
Коган Лазарь Иосифович (1889—?)—деятель ГУЛАГа. Среднее образование получил экстерном. Участвовал в революционных событиях в Херсоне, с 1918 — в РКП(б). В 1929—31 — начальник ГУЛАГа, в 1931-32 — начальник Белбалтлага, в 1932—36—начальник строительства канала Москва—Волга (Дмитрлаг). В 1936—37 — замнаркома лесной промышленности. Старший майор госбезопасности. (Сообщено Н. В. Петровым). — 375.
Козлов Алексей Александрович (1831—1901) —философ, один из первых персоналистов. — 195.
Колеони Бартоломео (1400—1476) — итальянский кондотьер. — 286.
Колонна Просперо (1452—1523) —итальянский кондотьер.— 175.
Колчак Александр Васильевич (1874—1920). — 214.
Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910). — 105, 107, 183, 197, 217.
Конашевич Владимир Михайлович (1888—1963) —художник-иллюстратор.—334.
Кондратьев Николай Дмитриевич (1892—1938)—экономист-аграрник.—366.
Кононов: возможно, Конанов Григорий Панкратович, прапорщик 1-го Егерского пехотного полка, рязанский дворянин. — 23, 45.
Кононова Екатерина. — 23, 24, 42.
Кононовы — 23, 24.
Константин Константинович, вел. кн. (1858—1915). — 354.
Корень (наст. имя Бабин-Корень Борис Вячеславович, 1886—1937) — публицист, социолог. В 1910-е — чл. ЦК ПСР. В 1917—18 — депутат Учредительного Собрания. В 1920-е исследователь научной организации труда. Неоднократно арестовывался и ссылался, погиб в заключении. — 185.
Корнель Пьер (1606—1648) — французский драматург. — 262.
Корнилов Александр Александрович (1862—1925)—историк и писатель.—173.
Корнилов Владимир Алексеевич (1806—1854) — военно-морской деятель, герой обороны Севастополя. — 39.
Коро Камиль (Камилл, 1796—1875) —французский живописец.—268.
Короленко Владимир Галактионович (1853—1921).—66, 111, 184.
Корсакова (в замужестве Исаченко) Анна Ивановна (1888—?)—историк, ученица М. И. Ростовцева. По окончании ВЖБК (1915) представлена к оставлению на них. По отзыву Гревса: «тихая, скромная, благожелательная, трудолюбивая и серьезная, являлась прекрасным рядовым сочленом общего дела. Выдвигаться она не любила, но работала как следует» (Л. боб.). В 1920-е сотрудничала в Петроградском Экскурсионном ин-те. В 1950-е — библиотекарь Политехнического ин-та. — 280.
Корчак-Чепурковская Вера Авксентьевна (1886—?)—педагог. Уроженка Константинограда. Из семьи известного врача-эпидемиолога и гигиениста. Среднее образование получила в Киевской частной женской гимназии А. Т. Дучинской. ВЖБК окончила в 1912 (поступила в 1905) по группе русской истории. Затем преподавала в средних учебных заведениях. — 195, 198.
Косминский Евгений Алексеевич (1886—1959)—историк-медиевист, специалист по историографии средних веков, академик с 1946. — 177.
Костюхина Алена. — 109.
Котовский Григорий Иванович (1881—1925). — 316.
Кочергина Ольга. — 395.
Кочеткова Евдокия. — 109.
Красовская (в замужестве Померанцева) Валентина Павловна — библиотекарь. Окончила ВЖБК в 1914. В 1920—50-е работала в районных библиотеках Ленинграда. — 187, 194, 203, 210.
Крачковский Игнатий Юлианович (1883—1951) — арабист, академик с 1921. — 380.
Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921). — 267.
Круг (Крук) Александр Михайлович. — 338, 342, 345.
Круглевский Владимир Николаевич (1887—1952). — 382.
Крусман Владимир Эдуардович (1879—1923) — историк, ученик Гревса, впоследствии — доцент Новороссийского ун-та (Одесса). Подробно о нем см.: Анналы. 1922, № 2. С. 255—258. — 303.
Крюгер Стефанус Йоханнес Паулус (1825—1904) — президент Трансвааля в 1883—1902.— 58.
Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859—1927) —публицист, юрист, профессор Военно-юридической Академии. Земский деятель, депутат Государственной думы 1-2-го созывов. В 1919 — министр юстиции в правительстве Юденича. Умер в эмиграции в Париже. — 131.
Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1886—1959) — юрист. Сын В. Д. Кузьмина-Караваева. На юридическом ф-те Пб ун-та учился в 1904—09. По окончании занимался адвокатской практикой. В частности, стряпчий «Цеха Поэтов». Еще будучи в России, принял католичество, стал священником. В эмиграции служил библиотекарем в Ватикане. (Сообщено А. Б. Устиновым). См. также прим. 31 к части пятой. — 179.
Кульбин Николай Иванович (1868—1917) — художник, литератор и врач. Был близок к футуристам и к Блоку. Один из известных персонажей литературно-художественной жизни Петербурга — Петрограда 1910-х. — 136.
Куприн — возчик в детской колонии в 1919. — 321.
Курбатов Дмитрий Иванович (1883—не ранее 1958) —инженер-строитель, впоследствии кандидат технических наук. — 94, 95, 97, 110, 111.
Курбатов Иван Ильич (ум. 1925) — врач. — 22, 48, 93—95, 97, 112.
Курбатов Михаил Иванович (1890—не ранее 1928) — биолог, в 1920-е преподаватель физиологии растений Среднеазиатского ун-та (Ташкент).— 94, 95.
Курбатов Николай Иванович (1885—не ранее 1948) — агроном. В 1900—20-е занимался хлопковым земледелием Средней Азии, преподавал общее земледелие, полеводство и почвоведение в Ташкенте (профессор). В 1943—48 работал в Уфе.—94, 95, 97, 100, 110, 111.
Курбатов Федор Иванович (1878—?) —агроном в центральных областях России, автор книг и брошюр (1912—25).—94.
Курбатова (в замужестве Бер) Антонина Ивановна (ум. не ранее 1954).— 94, 108.
Курбатова (урожд. Вихляева) Антонина Николаевна—22, 89, 94, 96, 97, 111. Курбатова Екатерина Ивановна. — 94—97.
Курбатова Наталия Ивановна (1880 — не ранее 1954) — художница. В 1918— чл. Союза художников Москвы. В 1950-е жила в Подмосковье. — 94—96, 100, 101, 105—110, 112, 134, 135.
Курбатова (в замужестве Богданова) Татьяна Ивановна (ум. не ранее 1953) — 94, 95, 97—100, 107, 108.
Курбатова Христина Ивановна. — 69, 94, 96, 109.
Курбатовы, семья.—22, 48, 93—97, 110—112, 134, 135, 179, 240, 394, 397.
Курилко Игорь Александрович (1893—1930) —поручик царской армии, в 1920— 23 служил в органах ВЧК-ОГПУ Оренбурга. Затем осужден К ОГПУ на 5 лет концлагеря «за агитацию». Был в СЛОН на командных должностях. Арестован комиссией А. М. Шанина в мае 1930 и расстрелян. (Сообщено И. И. Чухиным). — 338, 344—348.
Курццус Эрнст (1814—1896) — немецкий историк античности. — 144. Кучина (в замужестве Малинина) Александра Дмитриевна — историк. Среднее образование получила в Гродно и Житомире. На ВЖБК принадлежала к кружку Л. И. Новицкой и поначалу занималась у Карсавина, потом в Дантовском семинарии (1911). Гревс вспоминал: «Не выдаваясь ничем особенным, была просто симпатичная и мягкая девушка, интересующаяся духовными благами» (Л. 6). Окончила ВЖБК в 1913 по группе всеобщей истории. Приступила к преподаванию. Выйдя замуж, вскоре утонула в Днепре около Киева (не позднее 1923). — 280, 309.
Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — 101, 128. Лагун Иван Филиппович (1889—?)—соученик Н. П. по Первой Киевской гимназии (окончил в 1906) и СПб ун-ту. Уроженец г. Несвиж Слуцкого уезда Минской губ. Среднее образование начал получать в Ларинской гимназии в Петербурге, затем переехал в Киев, где по окончании гимназии поступил на физико-математический ф-т Ун-та Св. Владимира. Оттуда в сентябре 1907 уволен за участие в студенческих беспорядках без права поступить обратно. Пытался продолжить образование в Юрьеве, с 1909 — в Пб ун-те (сначала на физико-математи
ческом, потом на историко-филологическом ф-те). 31 января 1911 был арестован в университетском коридоре околоточным надзирателем за то, что сорвал кем-то вывешенное воззвание. В результате был исключен из ун-та и выслан из столицы на 2 года с воспрещением жительства в учебных центрах империи. Как он писал в дальнейшем в прошениях о восстановлении, его «намерение было неверно истолковано» (вменяли «преступную агитацию, имеющую целью путем забастовок в вузах оживить революционное движение в России»). С осени 1911 служил вольноопределяющимся в Минской губ. Переписка о его восстановлении в ун-те продолжалась до осени 1913, когда, наконец, МВД заявило об отсутствии препятствий к тому со своей стороны. Был ли восстановлен, а также дальнейшую судьбу — установить не удалось. — 191.
Лактанций Луций Целий Фирмиан (ок. 250—317) — христианский богослов, один из Отцов Церкви. — 168.
Лалли-Толлендаль Трофим Жерар граф де (1751—1830) —публицист. В 1789— депутат от парижских дворян в Учредительное Собрание. Защищал там прерогативы короля и английскую двухпалатную парламентскую систему. Эмигрировал затем в Англию, вернулся во время Реставрации. — 266, 267.
Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1869) — французский поэт-романтик, политический деятель и историк. — 267.
Ламенне Фелисите Робер де (1782—1854) —французский публицист и философ, аббат, один из родоначальников христианского социализма. — 213, 326.
Лаппо-Данилеиский Александр Сергеевич (1863—1919) — историк и источниковед, академик с 1899. — 157, 176, 202, 206.
Лаптевы — хозяева дома, в котором собирался кружок Н. В. Станкевича. — 194.
Лапшин Иван Иванович (1870—1952)—русский философ и психолог, ученик А. И. Введенского, неокантианец. В 1906—18 — профессор Пб (Пг) ун-та, в 1922 — выслан из СССР, преподавал в Праге. -— 155.
Лебедев Сергей Васильевич (1874—1934) — химик, академик с 1932. — 270.
Лев Х (в миру — Джованни де Медичи, 1475—1521) — Папа Римский с 1513. Сын Лоренцо Великолепного Медичи. Отлучил от Церкви М. Лютера. — 288.
Лев XIII (в миру — Венченцо Джаккино Печчи, 1810—1903) — Папа Римский с 1878. — 69.
Леванда Дмитрий Дмитриевич — морской офицер. — 47, 69.
Леванда Дмитрий Семенович—растениевод. В 1890— 1900-х — директор Уманского училища земледелия и садоводства. — 26, 130, 131, 218.
Леванда (урожд. Петрова) Мария Максимовна. — 23, 24, 26, 47, 48, 130, 131.
Левдикова Алла. — 174.
Левдикова Фелия Михайловна. — 174.
Левинсон-Лессинг Франц Юльевич (1861—1939) — геолог-петрограф, академик с 1925. Знакомый Н. П. с 1910-х. — 377.
Левис Мария Михайловна (р. 1890) — историк. Дочь часовых дел мастера. Среднее образование получила в петербургских гимназиях М. Д. Могилянской и М. Н. Стоюниной. ВЖБК окончила по группе всеобщей истории в 1913. Занималась в семинариях Ростовцева и Хилинского (изучала эпоху Перикла), а также — историей искусств под руководством Б. В. Фармаковского. Затем преподавала историю в частных гимназиях Петербурга (Петрограда). Участвовала в Эрмитажном кружке. «Я покончила с религией, — вспоминала она, — в 12 лет. Потом я все думала, почему Коля (Н. П.—Публ.) —такой талантливый, такой умница, такой нравственный (среди всей нашей компании он всегда был высочайшим нравственным авторитетом)... — почему он—религиозен, а я нет? Кто из нас прав? <…>. Если сравнивать с ним А. П. Смирнова, то последний был гораздо уже и сосредоточеннее. Коля — шире». (Запись беседы с публикатором 11 ноября 1989). С момента основания Музея революции Л. работала в нем. Организовала там экспозицию «Великая французская революция». В 1921 уезжала из Петрограда на полгода в Ташкент, где жила у подруги, преподававшей в тамошнем ун-те. В 1923 уехала лечиться в Германию и Швейцарию. Около года провела в Базеле у своей подруги Э. Э. Малер. В это время продолжила начатое в студенческие годы изучение черно- и краснофигурных ваз. Вернулась в 1924 и продолжила работу в Музее революции. Вместе с сестрой Раисой в 1930 была арестована. В основе
обвинения — гимназическое знакомство с женой арестованного ранее флотского офицера и какие-то «детские стихи». Сослана на три года в Енисейск. Работала там в местном краеведческом 'музее. По окончании срока ссылки вернулась в Ленинград. Попытки восстановиться в Музее революции не были успешны. Поэтому с тех пор работала по договорам библиографом, библиотекарем, переводчиком и т. п. В 1942—44 была в эвакуации. В последние годы перед пенсией служила в должности главного редактора Отдела эстампов ГПБ под началом О. Б. Враской. В 1970-е написала воспоминания о «жизни обыкновенной женщины в необыкновенную эпоху». — 203, 208.
Левит Арон Хаимович (1866—?) — торговец лошадьми. Уроженец Витебска. Осужден Псковским губсудом 23 июня 1926 по обвинению в «пособничестве бандитам, не связанном с насилием», на 8 лет. В СЛОН был управляющим Лесоэкспортной конторой. Фигурировал в показаниях обвиняемых по делу комиссии А. М. Шанина в 1930 как «известный спекулянт». Освобожден 28 июня 1930 и убыл в Ленинград, дальнейшая судьба неизвестна. (Сообщено И. И. Чухиным). — 345, 347.
Левитан Исаак Ильич (1860—1900). — 222.
Левченко Николай Иванович. — 55. Левыкин Федор Вонифатьевич — московский купец. — 147.
Лемонье: правильно — Леганье Ж. — французский механик, совершивший 11 октября 1909 первый демонстрационный полет на самолете «Вуазен», пролетев 1,5 км на высоте 10 м над военным полем в Гатчине. В Москве его полет был более удачен. — 196.
Ленин В. И. — 20, 323, 333.
Леонардо да Винчи (1452—1519). — 268.
Ленин Луи Жан Батист (1846—1933) — французский государственный деятель, в 1893—97 и 1899—1912 — префект полиции. — 275.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841).— 124, 223.
Леру Пьер (1797—1871) — французский философ. — 326.
Лескевич Георгий Иосифович — 84, 86.
Лесков Николай Семенович (1831—1895).— 147, 195.
Летурно Шарль (1831—1902)—французский этнограф, философ и социолог, историк цивилизации. — 85.
Либих-Липолъд: вероятно, у Н. П. речь идет о Либталь Маргарите Эмильевне (1889—?), преподававшей в 1920-е немецкий язык в Педагогическом ин-те им. Герцена, а затем арестованной, вероятно, по одному из ответвлений «дела Академии наук». — 380. Либкнехт Карл (1871—1919). — 333.
Либталь М. Э. см. Либих-Липолъд.
Лихачев Николай Петрович (1862—1936) — историк, палеограф, искусствовед. Академик с 1925. Создатель одной из крупнейших в русской истории коллекций древностей, легшей в основу Палеографического музея АН СССР, директором которого Л. был до своего ареста 28 января 1930. Постановлением К ОГПУ от 8 августа 1931 выслан на 5 лет и до 1933 был в астраханской ссылке. Реабилитирован в 1967. См. Платонов С. Ф. — 373.
Лихтерман Александр Яковлевич (1891—7) —историк русского права. Сын присяжного поверенного. Среднее образование получил дома, сдав экзамены экстерном при 10-й Пб гимназии (1908). Поступив тогда же на юридический ф-т. Пб ун-та, одновременно слушал лекции в Археологическом ин-те, участвовал в деятельности Псковского археологического общества, напечатал ряд работ о памятниках русского права (1911—14). В марте 1911 исключен из ун-та за участие в студенческих волнениях, продолжил образование во Фрейбургском ун-те (Баден), а в 1913 сдал выпускные экзамены в Пб ун-те и был оставлен по кафедре государственного права на год. В 1918 восстановлен в числе оставленных по кафедре истории русского права. — 183, 186.
Лишкина Анна Леонидовна (1896 или 1898—1982) — педагог, ученица А. А. Мейера по Ин-ту им. Лесгафта, где Мейер преподавал эстетику. Арестована по его делу 24 декабря 1928, получила 3 года Соловков (Постановление К ОГПУ 22 июля 1929), после освобождения (11 декабря 1931) жила в Вологде, служила бухгалтером и счетоводом. С 1960-х — в Ленинграде. — 342, 345.
Лозина-Лозинский (Любич-Ярмолович) Алексей Константинович (1886—1916) —
поэт. Сын врача. Среднее образование получил в гимназии Императорского Человеколюбивого общества. В 1905 поступил на юридический ф-т Пб ун-та, в 1906 перевелся на историко-филологический. О событиях его жизни 1908—09 см. прим. 28 и 30 к части пятой. Весной 1910 восстановлен в числе действительных студентов, но 5 февраля 1911 вновь исключен. В августе 1911 ему был разрешен экстернат на предстоящий учебный год, но 22 ноября 1911 он был обыскан и арестован. В 1912—16 предпринял ряд длительных поездок по стране и за границу, его произведения появлялись на страницах периодики и сборников. Покончил с собой в Петрограде. — 179, 181.
Лозинская (урожд. Шапирова) Татьяна Борисовна (1885—1955) — историк и экскурсионист, жена поэта и переводчика М. Л. Лозинского, ближайший друг всей жизни Н. П. Окончила ВЖБК по группе всеобщей истории в 1909. Активная участница Дантовского семинария. После революции при всех арестах Н. П. ездила к нему на свидания, заботилась о детях, хлопотала о его освобождении. В 1933 сама была ненадолго арестована. — 280, 337, 355, 388—390, 393, 397.
Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955) — поэт и переводчик. — 287, 397.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765).— 19.
Лорек. — 372.
Лосев Алексей Федорович (1893—1988) — философ и филолог. В начале 1930-х — в заключении, затем вернулся к научно-педагогической деятельности, преподавал сначала в провинциальных вузах, с 1942 — профессор МГПИ им. Ленина. — 385, 386, 389.
Лосева Валентина Михайловна (ум. 1954) — жена А. Ф. Лосева, астроном и математик, в 1930-е — сотрудница Астрономического ин-та, затем доцент Московского авиационного ин-та. — 385, 389.
Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) —философ. Приват-доцент (с 1900) и профессор (с 1916) Пб (Пг) ун-та. В 1922 выслан за границу, до 1945 — в Чехословакии, в 1947—50 — профессор Русской духовной академии в Нью-Йорке. — 125, 155, 156, 170, 186.
Лукьянов Сергей Сергеевич — филолог-классик, историк искусства и публицист. Сын сенатора. Окончил историко-филологический ф-т Пб ун-та. Специализировался по истории римской литературы под руководством М. И. Ростовцева. С 1916 преподавал на ВЖБК, с 1918 — в университете. Сотрудничал также в Российской академии истории материальной культуры. Осенью 1920, отправившись в командировку на Юг России, эмигрировал. В 1920-е жил в Праге, участвовал в сборнике «Смена вех». — 158.
Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933). — 213, 367. Лурье Даниил Савельевич (1891—1916) —сын врача. Среднее образование получил в Эриванской гимназии, выпускные экзамены сдавал при Третьей Киевской (1910). Дальнейшую судьбу см. прим. 55 к части пятой. — 104, 125, 126, 128, 134, 139, 194. 197, 199—201.
Лущик Зенон Адамович — библиотековед и библиограф. В гимназические годы — организатор благотворительной и общеобразовательной ученической организации 5-ой Пб гимназии (с 1905), в которой сотрудничали также А. А. Гизетти и Б. П. Брюллов (последний уже преподавал там). С 1908 Л. — один из создателей ученической революционной социал-демократической организации. По сведениям С. Дианина, в 1911 Л., уже будучи студентом ун-та, был завербован «охранкой» и стал провокатором (кличка—«Медведь»). Разоблачен после февраля 1917.— 188.
Любушины. — 22.
Людовик IX Святой (1214—1270) — король Франции.— 261. Люксембург Роза (1871—1919). — 333.
Лютер Елизавета Андреевна (Элли, 1887—1940-е ?) — историк искусства, сестра известного электромашиностроителя Р. А. Лютера. Окончила Женский Педагогический ин-т, ВЖБК по группе всеобщей истории, позднее — Пг ун-т по историко-филологическому ф-ту. «Фрейддинг и Лютер, —писал Гревс, — были новыми моими ученицами, обе редко серьезные идеалистки, которых я выделял из младшего моего семинария и которые оказались замечательно хорошими членами экскурсии, а затем и членами сплотившегося дружества» (Л. 6). По отзывам современников, Л. обладала превосходным слухом и музыкальной памятью. После
революции она работала в Русском музее, специализируясь по древнерусской живописи; преподавала в шкалах. — 297, 299, 309.
Лютер Мартин (1483—1546) —деятель Реформации. — 331.
Лятошинский Николай Леонтьевич (1861 — ?) — педагог. Сын врача. Окончил историко-филологический ф-т ун-та Св. Владимира (1884); преподавал историю и географию в Немирове и Житомире. В 1896—1906—историю в Первой киевской гимназии, до 1910 был директором гимназии в Немирове и Златополье. Автор популярных исторических очерков. Отец известного украинского композитора. — 191.
Мазаччо (собств.: Томмасо ди Джованни ди Симоне Кассаи (Гвиди), 1401— 1428) — итальянский живописец. — 297.
Майков Аполлон Николаевич (1821—1897). — 368.
Майсурадзе Александр Николаевич (1896—?) —хозяйственник. К концу 1920-х имел две судимости за растрату, в последний раз был осужден ОСО при К ОГПУ как социально-вредный элемент на 3 года концлагеря. В СЛОН был на административных должностях, арестован комиссией А. М. Шанина в мае 1930, получил 7 лет лагеря. (Сообщено И. И. Чухиным). Впоследствии — на административных должностях в Дальстрое НКВД. — 345.
Макаренко Антон Семенович (1888—1939). — 318.
Макаров Степан Осипович (1848—1904)—флотоводец, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал (1896). Погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине. — 70.
Малиновский. — 342.
Малое Михаил Яковлевич (1790—1849)—профессор права в Московском ун-те в 1828—31. См. прим. 32 к части пятой. — 181.
Мальфетано (Мальфитано) Джиованни (1872—1941)—итальянский общественный деятель, сотрудник Ин-та Пастера. — 272.
Мане Эдуард (1832—1883) — французский живописец. — 269.
Мантенья Андреа (1431—1506) — итальянский живописец. — 286.
Мануйлов Александр Аполлонович (1861—1929) — экономист. С 1901 — зав. кафедрой Московского ун-та, в 1908—11 —его ректор. В 1900-е — член ЦК кадетской партии, в 1917 — министр просвещения Временного правительства. После Октября — в эмиграции, но затем возвратился, с 1924 — член правления Госбанка, преподавал в вузах. — 271.
«Манца» см. Брик М. И.
Марат Жан Поль (1743—1793). — 377.
Мариенгоф — начальник Дорстройотдела СЛОН. — 345—348.
Мария Стюарт (1542—1587) —королева Шотландии. — 231.
Маркс К. — 98, 102, 129, 156, 166, 175, 333, 350.
Марр Николай Яковлевич (1864—1934)-—филолог и археолог, академик, член Президиума Центрального бюро краеведения. — 352.
Мартини Симоне (1284—1344) — итальянский живописец. — 287, 303, 305.
Матафтина Ксения Петровна — историк. Окончила ВЖБК в 1912. Участница Дантовского семинария (1911) и исторического кружка Н. И. Кареева (1911—12), под руководством которого занималась историей общественного мнения во Франции в эпоху революции. Несмотря на прохладный отзыв Гревса, по словам которого М. «наружно выделялась видными туалетами, огромными шляпами и кокетливою внешностью» (Л. боб.), теплое отношение к учителю сохранила и в дальнейшем. — 280, 281, 285, 309.
Матвеев Алексей. — 97, 98, 111.
Матео ди Джованни (иначе Матео да Сьена, не позднее 1435—1495) — итальянский живописец сьенской школы. — 303.
Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930). — 378.
Медведь Филипп Демьянович (1890—1943) — в 1931 — начальник ЛенОГПУ. Погиб в заключении. — 374, 389.
Медичи Джулиано (1479—1516) — в 1512—13 — номинальный правитель Флоренции (при фактической власти его брата Джованни—Папы Льва X). С 1515— герцог
Немурский. — 297.
Мезенцов Николай Владимирович (1827—1878) — с 1876 — шеф жандармов и начальник Третьего отделения. Убит С. М. Кравчинским в ответ на казнь революционера И. М. Ковальского. — 214.
Мейендорф А. Б. — 380.
Мейер Александр Александрович (1875—1939) — философ и переводчик. Марксист в молодости, за что преследовался царским правительством, в 1907 — один из теоретиков «мистического анархизма». Затем — деятель Петербургского религиозно-философского общества, с середины 1920-х близок к православной церковной традиции. Талантливый лектор, автор значительного массива философских рукописей, в СССР пока не опубликованных. Наиболее важные из них — «Три истока» и «Размышления при чтении «Фауста» Гете». В 1910—30-х — активный пропагандист христианских культурных ценностей, вдохновитель Нескольких религиозно-философских объединений Петрограда — Ленинграда. Арестован 11 декабря 1928 по обвинению в создании контрреволюционной организации. Постановлением К ОГПУ от 22 июля 1929 осужден на 10 лет лагеря. Был на Соловках и Медвежьей Горе. После освобождения по зачетам в 1934 жил в Московской и Калининской обл. Умер в Ленинграде. Подробно о нем см.: Мейер А. А. Философские сочинения. Париж, 1982. — 195, 313, 324—328, 332, 336, 337, 361, 365, 386.
Мейер Эдуард (1855—1930)—немецкий историк древности, в 1902—23—профессор в Берлине. Автор пятитомной «Истории древности». В основу изложения социальной и экономической истории им были положены политические события и история государственности. — 162.
Мейзенбуг Мальвида Амалия фон (1816—1903) — немецкая мемуаристка и переводчица, участница демократического движения в период революции 1848, с 1852 — в эмиграции в Лондоне, с 1853 — воспитательница дочери Герцена Ольги. — 267.
Мельхталь Арнольд фон — вождь кантона Унтервальден, представлял его на переговорах в Рютли в 1307 или 1291. — 244.
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941). — 206, 324—326.
Мериме Проспер (1803—1870).— 26.
Метерлинк Морис (1862—1949) —бельгийский драматург и поэт.— 120, 123.
Метсю Габриель (1629—1667) —голландский живописец-жанрист.—268.
Мечников Илья Ильич (1845—1916) —биолог и патолог, с 1882—в демонстративной отставке, с 1887 работал в Париже. Ироничную характеристику его политических взглядов см. в воспоминаниях С. Ю. Витте (Т. 3. С. 372—374).—238, 257, 269—272, 276.
Мечникова (урожд. Белокопытова) Ольга Николаевна (1858—1944) — художница и мемуаристка, жена И. И. Мечникова. — 238, 269—272.
Мещерские, князья — 392. Мещерский Иван Сергеевич — 392.
Микельанджело Буонарроти (иначе — Микельаньоло ди Лоловико ди Лионардо ди Буонарроти Симони, 1473—1564).— 175, 297.
Миллер Лидия Сергеевна — историк, окончила ВЖБК. Гревс писал о ней: «Нервно-болезненное, капризное, существо, являла образец неустойчивости настроения; самое отношение к науке у нее было колебательное: между античностью и средними веками выбора она еще не сделала. Но по душе это был хороший человек, по складу еще очень молодой, легко увлекающийся и этим увлечением хорошо действующий на других» (Л. 6 об.). В октябре 1948 встречалась с Н. П. в Москве. — 162, 280, 288, 289, 296, 297, 301, 304—309.
Милль Джон Стюарт (1806—1873) —английский философ, экономист и общественный деятель. — 123.
Минье Франсуа Огюст Мари (1796—1884) —французский историк, исследователь Великой французской революции и медиевист. — 266.
Мирабо Оноре Габриэль Рикети, граф (1749—1791) — консервативный деятель Великой французской революции, секретный агент королевского двора. — 164, 267.
Мирский — в 1910-е — студент Пб ун-та. — 197.
Мисюревич Владимир Михайлович (1890—?)—офицер царской и Добровольческой армии. Уроженец Одессы. В середине 1920-х жил на ст. Зима Иркутской губ., преподавал. 19 июня 1925- осужден ОСО К ОГПУ на три года лагеря по обвинению в «участии в организации, противодействующей советскому учреждению в контрреволюционных целях». В СЛОН был зам. начальника ЭКО, остался на этом
посту и после освобождения в сентябре 1927 (Сообщено И. И. Чухиным). — 339, 345, 347, 348.
Митроцкий Михаил Владимирович (1883—после 1930)—священник, в 1913— 17 — член Государственной думы 4-го созыва, в 1920-е служил в церкви и преподавал в богословских учебных заведениях..— 351.
Митюков Андрей Калиникович (1871—не ранее 1928—правовед. Сын профессора-юриста. Среднее образование получил в Первой киевской гимназии (1889), высшее — на юридическом ф-те ун-та Св. Владимира (1896). Был оставлен по кафедре римского права. С 1900 — приват-доцент, с 1906 — профессор того же ун-та. Кроме того, преподавал законоведение в Первой киевской гимназии (1905— 1907), гражданское право и судопроизводство в Киевском коммерческом ин-те (с 1911) и др. Автор работ по римскому и современному гражданскому праву. После революции преподавал зарубежное гражданское право в Киевском ин-те народного хозяйства. — 118.
Михайлов Адриан Федорович (1853—1929) —революционер-народник. Арестован в 1878, в 1880 приговорен к смертной казни, раскаянием добился ее замены на каторгу (БСЭ, 3 изд.). Сам трактовал иначе: «"Диктатура сердца" заменила нам обоим т. е. с женой Е. Н. Добрускиной — Публ.} казнь каторгой». (Энциклопедия Гранат. Т. 40. С. 278). — 214.
Михайлов Иван Адрианович («Ванька-Каин», 1891—1946) — политический деятель. Сын А. Ф. Михайлова. Родился на Каре. Среднее образование получил в Одессе (1909). Окончил юридический ф-т Пб ун-та (1913), оставлен там по кафедре политической экономии (с 1914—см. прим. 70 к части пятой). В 1914 был арестован по политическому обвинению, но дело вскоре было прекращено. В числе оставленных числился до 1 января 1919, стипендию то назначали, то отменяли (научный руководитель-«реакционер» упрекал своего подопечного в том, что тот мало прочел Маркса). О деятельности в годы Гражданской войны, и после см. в тексте. — 213, 214.
Михайлова Вера Михайловна (1889—?) —историк античности. Среднее образование получила в Коломенской гимназии Петербурга (1907). Историко-филологический ф-т ВЖБК окончила в 1914: в 1908—09 занималась в семинарии Н. С. Враской мемуарами Сен-Симона, тогда же — XVIII веком русской истории у М. А. Полиевктова, в 1909—10 — латинским языком и палеографией средних веков у И. И. Холодняка, в 1911—14—у М. И. Ростовцева топографией Древнего Рима, а в 1912—13 — у Гревса — наследием Блаженного Августина. Доклад М. «Религиозная жизнь Остии» был высоко оценен Ростовцевым, и она была рекомендована им к оставлению на ВЖБК. Во время революции уехала в Швейцарию, где вместе с Эльзой Малер работала в Базельском ун-те под руководством профессора-античника Ван дер Мюллера. По словам М. М. Левис, М. и умерла в Базеле. — 203, 208—210.
Михайловский Николай Константинович (1842—1904)—социолог и публицист-народник. — 101, 116, 128.
Мишель см. Бибиков М. А.
Мищенко Глеб Федорович — в 1906 ученик Второй киевской гимназии, сын филолога Ф. Г. Мищенко. — 104.
Мияковский (Миаковский) Владимир Варламович (1888 — не ранее 1928) — историк общественного движения (преимущественно на Украине). Среднее образование получил в Первой киевской гимназии (1906), поступил на юридический ф-т Ун-та Св. Владимира, в следующем году перевелся на тот же ф-т в Петербурге, а в 1908—на историко-филологический ф-т Пб ун-та. 4 февраля 1911 исключен из ун-та за участие в студенческих волнениях, а 18 ноября принят обратно по ходатайству И. А. Бодуэна де Куртене, А. А. Шахматова и В. Б. Сиповского. Окончил ун-т в 1913, представив зачетное сочинение о жизни и творчестве Радищева. Работа была выполнена под руководством Сиповского. Преподавал в средних учебных заведениях Киева. .После революции возглавлял Киевский центральный исторический архив. — 191.
Молочковский Николай Алексеевич (1886—1964) —врач-невропатолог. Уроженец Краснослободска Пензенской губ. Друг А. П. Алявдина, с которым учился вместе в Пензенской семинарии. Участвовал там в волнениях учащейся молодежи. Окончил медицинский ф-т Харьковского ун-та. В 1920-е практиковал в Ленинграде.
Арестован в 1928 за участие в религиозно-философских кружках. По постановлению К ОГПУ 22 июля 1929 получил три года лагерей, был в Белбалтлаге, освободился в марте 1932. Стал жить в Бологом. С 1935 работал в санаториях Зеленого Мыса на Черном море. Затем переехал в Чувашию. В 1941—46 служил в военных госпиталях. Демобилизован на Дальнем Востоке. Поселился в Рыльске (Курская обл.) и работал в местной больнице. Выйдя на пенсию в 1957, продолжал бесплатный прием больных на дому. Умер в том же городе. — 396.
Моммзен Теодор (1817—1903) — немецкий историк Древнего Рима. — 166, 281.
Моне Клод Оскар (1840—1926) — французский живописец-пейзажист, один из основателей импрессионизма. — 269.
Монис Александр Эммануэль Эрнест (1846—1929) —французский политический деятель, в 1911 — председатель Совета министров. — 272, 274.
Моно Габриэль (1844—1912) —французский историк, специалист по источниковедению и историографии, распространил во Франции семинарский метод работы со студентами. — 267.
Моно О. А. см. Герцен О. А.
Мопассан Ги де (1850—1893).— 113, 118, 235.
Мордухович. — 372.
Морозова (урожд. Соковнина) Феодосия Прокопиевна (1632—1675)—боярыня, раскольница. — 94.
Мунье Жан Жозеф (1758—1806) — французский политический деятель, публицист и юрист. Раскрепощение Генеральных Штатов навело его на мысль изучить политические установления Англии. 28 сентября 1789 — президент Собрания, неделю спустя отказался от мандата. Один из первых историков Французской революции. С 1790 — в эмиграции в Веймаре, в 1801 возвратился. Автор «Разыскания о причинах, помешавших французам стать свободными». — 266.
Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1795—1826) — декабрист. — 59.
Муратов Павел Павлович (1881—1950) — писатель и искусствовед. В эмиграции с начала 1920-х. До 1925 его книги одновременно выходили в СССР и за границей. Во время Второй мировой войны жил в Англии, где выступал как военный историк и обозреватель. — 303, 307.
Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910) — юрист, публицист и политический деятель. В 1906 — председатель Государственной думы 1-го созыва. — 106, 182, 183.
Мут см. Фортунатов Г. А.
Мэйнар Франсуа (1582—1646) — французский поэт. — 306.
Мэкуся см. Оберучева Л. Н.
Мясоедов Марк Николаевич (1887—?)—юрист. Сын судейского чиновника. Среднее образование получил в Новгороде, но — не окончив гимназии — в 1906 был взят оттуда по прошению родителей и сдавал выпускные экзамены в Пензе. Поступил на юридический ф-т Пб ун-та. В декабре 1910 арестован за принадлежность к студенческим революционным фракциям, исключен из ун-та и выслан в Вологодскую губ. под гласный надзор полиции. В 1912-13 сдал государственные экзамены экстерном. — 183—186.
Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922) — криминалист и политический деятель. — 106.
Навашин Андрей Андреевич — поэт, автор популярного очерка по истории авиации (1924), в начале 1920-х — посетитель мейеровского кружка. — 330, 331.
Навашин Дмитрий Сергеевич (1889—1937) —финансовый деятель. Окончил юридический ф-т Ун-та Св. Владимира. Перед Первой мировой войной разбогател на финансово-промышленных операциях в Сибири. С начала нэпа — директор Советско-французского банка. По отзыву родных, главным мотивом его деловой активности была не выгода, а жажда политической и коммерческой авантюры. С начала 1930-х — невозвращенец, но сохранял близость к советским дипломатическим кругам, в частности, к М. М. Литвинову. Убит в Париже. Советская пресса возлагала ответственность за это убийство на агентов гестапо и международный троцкизм. Зарубежная — не исключала участия НКВД. Семейная версия оспаривает последнее предположение («иначе вырезали бы всю семью»; «стилет — чисто европейское орудие убийства»; «закат Литвинова еще не стал свершившимся фактом») и склоняется к тому, чтобы видеть в этом убийстве чисто
уголовный сюжет, лишенный политического пбдтекста. — 53, 55, 62, 63, 75—78, 80, 82, 83, 87—89, 118.
Навашин Михаил Сергеевич (1896—1973) — цитолог и цитогенетик, кроме того — оптик, создатель домашних телескопов, вдохновитель движения астрономов-любителей. Окончил агрономический ф-т Киевского политехнического ин-та (1918). Работал в Тбилисском политехническом ин-те (1920—24), затем— в Биологическом ин-те им. Тимирязева в Москве (1924—37). В 1927—29 стажировался в Беркли (Калифорния). В 1934—37 возглавлял Ботанический сад Московского ун-та. С 1937 — в академических ин-тах Москвы и Ленинграда. — 54, 75.
Навашин Сергей Гаврилович (1857—1930) —ботаник и цитолог, академик с 1918. В 1894—1915 — профессор Ун-та Св. Владимира. В 1923—29 —основатель и директор Биологического ин-та им. Тимирязева в Москве. — 25, 53, 54, 63, 75, 82, 87.
Навашина (урожд. Сметанина) Александра Савельевна (1861—1929)—жена С. Г. Навашина. — 53, 54, 75, 80.
Навашина Татьяна Сергеевна (1891 или 1894—1976) — редактор и филолог. Училась на ВЖБК, но не окончила их. В начале 1920-х — замужем за военным юристом А. Рогалиным. В 1930—60-е — научный редактор журнала «Природа». Знала пять европейских языков, занималась художественным переводом для себя, «лингвист-в-себе», пурист слова, которое значило в ее жизни едва ли не больше, чем все остальное. Всю жизнь писала стихи. Атеистка, «чеховская героиня», дворянский стиль жизни в реальности советской коммунальной квартиры. В конце жизни — демонстративная вера, иконы, завещание об отпевании. — 54, 55, 75—77, 80, 89, 331. .
Навашины, семья — см. о них также прим. 10 и 12 к части третьей. — 54, 56, 62, 75, 82, 87, 89, 95, 101, 118.
Назаров Борис Михайлович (1884—?)—военно-морской инженер, в 1917— старший лейтенант флота, в 1920-е работал инженером-механиком в Ленинграде. 23 марта 1929 арестован, получил 10 лет лагеря по «делу Мейера». Освобожден из СЛОН по зачетам в 1937. Жил в Хвалынске Саратовского края. — 335, 336, 349.
Наполеон I (1769—1821) —император Франции. — 45, 169. Нарышкин Петр Александрович (1886—?) —сын сенатора. Уроженец Орловской губ. Среднее образование получил в гимназии К. Мая в Петербурге (1905), поступил на юридический ф-т Пб ун-та, где пробыл до 1911. Затем перешел в военное училище, дальнейшая судьба неизвестна. — 182. Нарышкины, семья сановника. — 37.
Нахимов Павел Степанович (1802—1855) — флотоводец, адмирал. — 39.
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877). — 57, 145.
Некрасов Николай Виссарионович (1879—1940) — инженер-технолог, политический деятель. В 1921—30 — зав. отделом и член правления Центросоюза, преподавал в Московском ун-те и Ин-те народного хозяйства (1924—1930). Погиб в заключении. — 390.
Нектарий — в 381—394 константинопольский патриарх. — 175. Нерва (30 или 35—98) — римский император. — 64.
Неслуховская Мария Константиновна (1892—1975) — театральный художник, кукольный мастер, декламатор. Жена Н. С. Тихонова. — 325.
Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) — живописец. — 149.
Нечаева Елена Николаевна (1885—?) —историк и переводчица. Из семьи присяжного поверенного. Дочь известной деятельницы женского образования и педагога О. К. Нечаевой. Среднее образование получила в гимназии Л. С. Таганцевой (1903). Окончила ВЖБК по группе всеобщей истории в 1911, но продолжала заниматься в Дантовском семинарии и еще в течение нескольких лет осваивала философский цикл наук. Гревс писал о ней: «Очень способная и пылкая, ищущая, но не уравновешенная, по характеру «богема», известна мне была с детства как девочка (подруга Александры Гревс.—Публ.), потом как ученица (Г. возглавлял Педагогический совет гимназии, в которой училась Н.—Публ.), вносила в экскурсию большой интерес, но и несколько нежелательный уклон колеблющегося настроения, не всегда чистого от внешних наблюдений, и страстных выходок. Я надеялся на свое влияние, т. к. она относилась ко мне с любовью и уважением и признает мой авторитет. Я и не ошибся» (Л. 6). В 1920-е препо
давала, занималась литературной работой. — 175, 280, 296, 297, 299, 304, 307, 308. Николаева Вера Николаевна (ум. не позднее 1923) — историк. Среднее образование получила в Петровской женской гимназии в Петербурге. ВЖБК окончила в 1913 по группе всеобщей истории. Принадлежала к кружку Л. И. Новицкой и поначалу занималась у Карсавина, затем (с 1911)—в Дантовском семинарии у Гревса. Он характеризует ее, как и Кучину (см.). Умерла от туберкулеза. — 280.
Николай 1 (1796—1855) — император,— 20.
Николай И (1868—1918) — император. 102, 185.
Никольский Юрий Александрович (1893—1922) — поэт и литературовед. С 1921 — в эмиграции, там был близок к евразийцам. — 170, 314.
Нил Сорский (в миру Майков Николай, ок. 1433—1508) — церковный и общественный деятель, глава нестяжателей. — 250.
Ницше Фридрих (1844—1900).— 71.
Новалис (наст. имя и фамилия Фридрих фон Харденберг, 1772—1801) — немецкий поэт и философ, представитель раннего романтизма в Германии (из круга йенских романтиков).— 168.
Новинская Мария.— 109, 110.
Новинский Никита. — 108, 109.
Новицкая (в замужестве Олавская) Лидия Иосифовна (1888—не ранее 1969) — библиограф и библиотекарь. Из семьи крупного государственного служащего. Среднее образование получила в гимназии кн. Оболенской (1906). Окончила ВЖБК по группе всеобщей истории (1912). В 1914 оставлена там у И. М. Гревса. В 1917—35 и 1945—60 сотрудница Публичной библиотеки: сотрудница кабинета новой иностранной литературы, потом (с 1925) заведующая этим кабинетом; организатор Консультативно-справочного отдела и первая его заведующая, создательница Справочной библиотеки ГПБ. Специалист по иностранной библиографии, в 1928—35 вела соответствующий курс на Высших курсах библиотековедения ГПБ. Гревс, с которым Н. связывала многолетняя дружба, писал о ней: «Я так сильно люблю ее полною отеческою привязанностью, что мне, пожалуй, нелегко говорить о ней всю правду: будут думать, что я преувеличиваю от любви. Но совесть моя подсказывала, что я сужу о ней по справедливости. (...) В ней нет показного блеска и героизма; и наружность ее с первого взгляда незаметная: маленький рост, неправильные черты лица; но мне ощущается и в них, в глазах ее (...) своеобразная, милая, притягивающая красота. Особенно же внутри ее покоится и мягко сияет кругом на других дарованная ей особая благодать. (...) Если прав Ромен Роллан, когда сказал, что гений есть доброта, то в Лидии Иосифовне — искра гениальности: я никогда не встречал в человеческом личном одушевлении такого торжества деятельного добра, природного, неистощимого альтруизма. Это доброта делает ее чуткою, проницательною и в научной работе, и в восприятии искусства, и в пониманий жизни, и в отношении к людям: необычайная в ней наблюдательность и победоносная интуиция. Все это покрывается любовью. Общение с нею — прямо благословение Божье. И при всем этом изумительная, беспристрастная простота, полное незнание своих достоинств и строгое отношение к себе, постоянное искание и чувство Бога в душе, недовольство достигнутым, стремление вверх, отсутствие всякой чопорности, при застенчивости громадная активность, смелость при робости, при кротости уменье протестовать против зла. (...) При всем том она не какая-нибудь воплощенная идея или принцип, общественная добродетель, а настоящий живой человек в многоцветной игре многообразных качеств (...). Она обладает еще своеобразным комическим талантом, и чистый ключ ее веселости не иссушен был в ней тяжелыми испарениями жизни (...). Выросла в очень интеллигентном семействе полу польского, полурусского происхождения, но она тяготеет всецело к России. Отец ее был крупным деятелем на государственной службе, в конце концов товарищем министра финансов. Я его не знал, но, по всем данным, это был очень хороший человек, удивительной (как говорят знавшие его) простоты и доброты, имевший на нее сильное влияние. Семья была состоятельная, но надутого аристократизма и светской пустоты в ней не было; воспринята была внешняя тонкость и изящество, которые составляли лишь обличье внутренней деликатности, свойственной ее нравственной природе (...). Правдивость моей характеристики подтверждается общим отношением к
ней как окружающих — сверстников, профессоров, потом сослуживцев, знакомых (...). Она всех к себе притягивает. Общая любовь—верный признак хорошего человека. Лидию Иосифовну могут не любить только безнадежно злые люди» (Л. 4 об. — 5 об.). В апр. 1935 Н. выслана в Чкалов, служила там калькулятором, преподавала в школах. Вернуться в Ленинград удалось только в 1945. — 280, 298. Новоселов Александр Ефремович (1884—1918) — русский писатель. Из семьи казачьего офицера. С 1905 работал в сельских школах Алтая, с 1907 —воспитатель Омского пансиона казачьего войска. В 1918 — эсер, министр внутренних дел Сибирского временного правительства. Расстрелян после колчаковского переворота. — 214.
Ньютон Исаак (1643—1727). — 99.
Оберучев Константин Михайлович (1864—1929) —ученый-артиллерист. Его работы по военным вопросам пользовались европейской известностью. С ранней юности (1880-х) примыкал, к революционному движению. Финансировал заграничную деятельность социал-демократов. В 1917 — генерал-майор. При Временном правительстве — командующий войсками Киевского военного округа. Автор ряда работ по военному строительству. После революции — в эмиграции. Организовал в Нью-Йорке Литературный фонд. В предисловии к его воспоминаниям, изданным там же в 1930 группой почитателей его памяти, сказано: «В эти тяжелые годы, когда на поверхность русской жизни всплыли и над всем доминируют черты крайней жесткости и безразличия к людям, когда своеобразно понятая «любовь к дальнему» затемнила целиком любовь к живому, к конкретному, к «ближнему», К. М. Оберучев был напоминанием того, что в глубине русской народной души живут и движутся другие, более значительные, исторически непреходящие черты. Он любил человечество, и верой в его будущее было озарено его народническое мировоззрение. Но вместе с тем он любил также и тех живых, конкретных людей, которые жили вокруг него, и в свете и тепле его души грелись не только его единомышленники и друзья, но часто и те, кому его мировоззрение и подвижничество его жизни было почти чуждо». (Цит. по письму Т. Н. Камендровской к публикатору от 5 декабря 1988). — 116, 128.
Оберучев Михаил Константинович (1889—1966) — инженер-электрик. Электротехническое образование завершил в Бельгии. Возглавлял Главэнерго в Саратове, потом в Свердловске (главный инженер). Будучи арестован в 1930-е, приговорен к расстрелу, но спасен благодаря заступничеству Орджоникидзе.— 104, 114—117, 122, 125—128, 132, 134, 135, 139, 142, 214.
Оберучев Николай Михайлович (ум. 1916) — армейский офицер. Погиб, спасая своих солдат. Награжден посмертно орденом Св. Георгия и произведен в генералы. — 114, 116, 117, 146.
Оберучева Анна Николаевна (ум. 1982) — свояченица Н. П., после его ареста и смерти сестры растила их детей. Вместе с племянницей Татьяной (см. Камендровская Т. Н.) после войны оказалась в США, где и умерла. — 114, 121—123. 125, 139, 140, 372, 395.
Оберучева (урожд. Покровская) Екатерина Михайловна (1870—19387) — теща Н. П.— 114, 116, 117, 121, 123, 129, 130, 140, 144, 147, 200, 201, 395.
Оберучева (в замужестве Добровольская) Людмила Николаевна (Мэка, Мэкуся, 1897—1932?) — свояченица Н. П., физиолог. С 1920-х — замужем за врачом Е. Е. Добровольским. Жили в Киеве, потом в Харькове. Умерла от туберкулеза. — 114, 116, 121, 124, 139, 140, 149, 201.
Оберучевы, семья— 114—117, 124, 132, 134, 139, 141, 144.
Обновленский Авенир Петрович (1885—1980) —библиотекарь, богослов, латинист. Перед революцией — чиновник Синода и один из организаторов русской секции Международной ассоциации молодых христиан (YMCA). В 1920-е—преподаватель и сотрудник БАН. Арестован весной 1928 как организатор религиозно-философского кружка среди молодежи. До 1936 находился в лагерях и ссылках, в 1950-е вернулся в Ленинград. — 349, 350.
Овидий (Публий Овидий Назон, 43 до и. э. — около 18 н. э.) — римский поэт. — 160.
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920)—литературовед и лингвист. — 127, 132, 156, 183, 186, 234.
Огарев Николай Платонович (1813—1877). — 89, 106, 150, 174, 175, 245.
Олавская Л. И. см. Новицкая Л. И.
Олар Франсуа Виктор Альфонс (1849—1928)—французский историк Великой французской революции. — 266, 267, 275.
Олъденбург Сергей Сергеевич (1888—1940) — историк царствования Николая II. С 1920 — в эмиграции. — 174.
Олъденбург Сергей Федорович (1863—1934) — востоковед-индолог, академик с 1900. Непременный секретарь Академии наук (1904—29). В 1920-е, кроме того, возглавлял Центральное бюро краеведения. — 173, 174, 352.
Олъденбург Федор Федорович (1862—1914)—педагог, один из основателей «Приютинского братства». С осени 1887 — директор Тверской женской учительской школы. — 165, 173, 174.
Орбели Леон Абгарович (1882—1958) — физиолог; с 1935 — академик. — 325.
Орканья Андреа (собств. ди Чоне; впервые упоминается в 1343 или 1344 — ум. 1368) — итальянский живописец, скульптор и архитектор. Из флорентийской школы Треченто. — 292.
Орлов-Давыдов, граф. — 48.
Островский Александр Николаевич (1823—1886).—322.
Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871—1955) — гравер и живописец-акварелист, автор оформления книг Н. П. о Петербурге. И ее работах он писал: «Это действительно особый мир, полный ясной и женственно нежной прелестью, мир тихий, глубоко задумчивый, светлый и строгий». (ОР ГПБ. Ф. 1015. Ед. хр. 460. Л. 1 об.) — 270.
Оттокар Жанетта Петровна (1878—?) —сестра Н. П. Оттокара, историк. Окончила ВЖБК по группе всеобщей истории в 1913. «Уже замужняя молодая женщина, — писал о ней Гревс, — деятельно работавшая в моем семинарии, умная, способная и зрелая, трезвая, не без юмора, могла внести в экскурсию много хорошего <...>, и я рад был ее участию: в Италии она уже была за год перед тем с братом» (Л. 6).— 280.
Оттокар Николай Петрович (1884—1957)—историк-медиевист, ученик Гревса. В 1917—19—приват-доцент кафедры всеобщей истории Пермского отделения Пг ун-та и преподаватель немецкого и итальянского языков. В 1921 эмигрировал, работал во Флоренции. — 178, 279, 280, 290, 291, 296, 301—304, 306, 307, 343.
Оттон 111 (980—1002) —германский король (с 983) и император (с 996) Священной Римской империи. Пытался осуществить утопический план воссоздания римской «мировой империи» с центром в Риме. — 305.
Павлищев (псевд. Берсенев) Иван Николаевич (1889—1951)—актер и режиссер. — 59, 82.
Павлов Александр. — 81.
Пальма Веккьо (Старший) Якопо (собств. Негретти, ок. 1480—1528) — итальянский живописец. — 33, 296.
Паникаровские. — 22.
Патер (Пейтер) Уолтер (1839—1894) — английский писатель. — 46, 47.
Патылицин В. М. см. Петров В. М.
Паулин Ноланский (в миру—Понтий Меропий Аниций Паулин, 353—431)— консул, поэт, впоследствии—монах и епископ Нолы (с 409). Уроженец Бордо. Из семьи галльского преторианского префекта. Счастливый брак П. с богатой испанкой Терезой был омрачен смертью в детстве единственного ребенка, что заставило П. уйти в Церковь с обетом воздержания от плотской любви. Аскетизм П. и его склонность помогать бедным создали ему репутацию святого. — 168, 169, 378.
Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968). — 82.
Пейроне Доминик Поль (1872—1943) — французский художник. — 221, 222.
Пергамент Михаил Яковлевич (1866—1932) — правовед, профессор Пб ун-та. Арестовывался ВЧК в 1919. В 1920-е преподавал в советских вузах. — 176.
Перельман Арон Филиппович (1876—1954) — издатель и редактор, просветитель, автор популярных брошюр. Уроженец Одессы. Сын служащего спичечной фабрики, признанного после смерти гаоном (праведником). Закончил еврейское училище (хедер) и сдал экзамены за курс гимназии. В 1895 уехал продолжать образование в Германию. В немецких и швейцарских ун-тах учился в течение 10 лет, вел там буршский образ жизни. В 1906, получив диплом химика в Базельском
ун-те, вернулся в Россию. Поселился в Петербурге. Еще в Цюрихе заинтересовался политикой и сочувствовал социал-демократам. В России сблизился с той частью кадетской партии, которую интересовали вопросы еврейского просвещения и устройства в России. Вместе с Дубновым и Ефройкиным возглавлял Комитет по просвещению евреев при кадетской партии. П. почти не писал по политическим вопросам, а занимался организационной стороной дела. Второй его страстью, прошедшей через всю жизнь, был Пушкин и все, что с ним связано. С 1906 — сотрудник издательства «Брокгауз и Ефрон» (начал с младшего редактора), журнала «Еврейский мир» и пр. В 1915 стал директором изд-ва, возглавлял издание «Нового Энциклопедического словаря», а в 1918 — после эмиграции младшего Ефрона — и владельцем всего предприятия. В начале 1920-х Гржебин, знавший его с детства, уговаривал эмигрировать. П. отказался: просвещавшиеся им евреи (как, впрочем, и русские, которых он любил не меньше) оставались в России: «Я не уезжаю из своего городка, чтобы он не стал еще меньше». Издательство частично было расположено в Германии (оттуда поступала бумага, там базировалась часть производственного процесса), с годами контакты все усложнялись, работать становилось труднее. Время от времени забирали в ЧК, но вскоре отпускали. В 1923 компаньон Ефройкин, выманив у П. значительную часть средств, бежал в Англию. С середины 1920-х издательству было запрещено издавать все, кроме учебных пособий, а около 1928 оно прекратило свое существование. В 1930— 40-е П. работал по договорам, был составителем альбомов о Пушкине, в 1942—45 — редактор Ленрадиокомитета, с 1950 — на пенсии. С 1940-х до конца жизни работал над воспоминаниями (ныне хранятся в Архиве АН СССР). (Сообщено Е. Г. Рабинович). — 168.
Перикл (ок. 490—429 до н. э.) — древнегреческий политический деятель. — 84.
Петр. I Карагеоргиевич (1844—1921) — в 1903—1921 сербский король. — 69.
Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931) — теоретик права. В 1898—1918— во главе кафедры энциклопедии права Пб (Пг) ун-та. Депутат Государственной думы 1-го созыва (кадет). С 1918—в эмиграции, руководил кафедрой социологии права Варшавского ун-та. — 131, 156, 173.
Петри Алексей Георгиевич (Летик, 1919—1942?) — сын Г. Э. Петри, перед войной — студент геологического ф-та Ленинградского ун-та. В 1941 в составе ускоренного выпуска определен в минометное училище. Пропал без вести. — 373.
Петри Георгий (Карл-Юлий) Эдуардович (1888—1942) — историк, ученик Гревса, с университетских лет — друг Н. П. Уроженец Петербурга. Сын профессора-географа. Среднее образование получил в гимназии К. Мая (1907). Окончил историко-филологический ф-т Пб ун-та (1912). Оставлен по кафедре всеобщей истории (1913—16). Занимался под руководством Гревса историей политической борьбы в средневековой Италии. С 1913 преподавал историю в средних учебных заведениях Петербурга (Петрограда). В 1920-е—директор школы, сотрудник Экскурсионного ин-та и Гос. ин-та научной педагогики, сверхштатный доцент ун-та, преподавал экскурсионное дело на ф-те языка и мышления. Аналогичный курс читал и в Коммунистическом ун-те, летом вел семинарии экскурсоводов в пригородах. В июле 1929 уволен из ун-та за то, что «ведя курс экскурсионного дела, совершенно не в состоянии построить его на основах марксистского метода». (ЦГИА Ленинграда. Ф. 14. On. 1. Ед. хр. 1078а. Л. 73). Следующим летом арестован, присоединен к «делу Академии наук», провел год в карцерах и одиночках ДПЗ и «Крестов» и был сослан в Архангельск на 3 года. Там работал экономистом. В 1933 вернулся в Ленинград, служил в Музее религии и атеизма, преподавал в школе историю. В блокаду заболел и умер на пути в эвакуацию. (Сообщено Н. Г. Петри). — 203, 207, 280, 281, 296, 373.
Петри Мария Александровна (1892—1942) — жена Г. Э. Петри, учительница русского языка и литературы, затем библиотекарь. Окончила ВЖБК. В 1920— 30-е работала в школах Ленинграда. Умерла по дороге в эвакуацию. — 373.
Петри Наталья Георгиевна (р. 1923) — дочь Г. Э. Петри. Учительница математики. — 373.
Петров (Патылицын) Василий Максимович — дядя Н. П. — 23, 38.
Петров Максим Петрович — дед Н. П. — 22—24.
Петрова Е. М. см. Анциферова
Е. М. Петрова М. М. см. Леванда М. М.
Петрова (урожд. Андреева) Прасковья Андреевна—бабушка Н. П.—22—24, 29, 48, 130, 131, 313.
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878—1939). — 325.
Петровский Алексей Сергеевич (1882—1958) — переводчик и музеевед, антропософ. Перед арестом в 1930 — библиотекарь. По постановлению ОСО ОГПУ от 8 сентября 1931 получил три года лагеря. Освобожден в мае 1933. (Сообщено И. И. Чухиным). — 375—377, 386, 388.
Петроний Гай (? — 66 н. э.) — римский писатель. — 329.
Петрункевич Иван Ильич (1843—1928) — политический деятель. Один из основателей и председатель ЦК партии к.-д. (1909—15). С 1919 — в эмиграции. — 106.
Печерип Владимир Сергеевич (1807—1885) — поэт и мыслитель. — 250.
Пигулевская (урожд. Стебницкая) Нина Викторовна (1894—1970)—историк, сириолог. В 1920-е — сотрудница Отдела рукописей ГПБ. Арестована 11 декабря 1928, получила срок 5 лет, отправлена на Соловки, где служила регистратором Учраспредотдела. В 1931 была актирована по болезни и переведена в ссылку в Архангельск, в 1934 вернулась в Ленинград. С 1946 — член-корреспондент АН. — 336.
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868).— 132.
Платон (428 или 427—348 или 347 до н. э.) — 20, 105, 135.
Платонов Сергей Федорович (1860—1933) —историк Московской Руси, академик с 1920. До ареста (12 января 1930) —директор Пушкинского Дома и Археографической комиссии. По обвинению в создании контрреволюционной организации «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России» постановлением К ОГПУ от 8 августа 1931 выслан на 5 лет. Умер в ссылке. Реабилитирован в 1967.— 144, 156, 206, 350, 351, 353, 354, 361, 362, 365, 368, 371, 373.
Плохое Павел Максимович (?—1916)—офицер, литератор, предприниматель и общественный деятель. В 1870—1910-х—автор популярных изданий для солдат, в 1900-е — гласный городской думы Киева, член городской управы. — 141.
Плахова Мария Павловна — дочь Плахова П. М. — 141.
Плевб Вячеслав Константинович (1846—1904)—государственный деятель, в 1902—04 — министр внутренних дел, убит Е. С. Созоновым. — 185.
Плинер — впоследствии инженер Большого театра. — 319, 320.
Плутарх (ок. 45 — ок. 127). — 135.
Победоносцев Константин Петрович (1827—1907)—государственный деятель, обер-прокурор Синода. — 48, 49.
Подшибякин Михаил Флорович (1886—?)—в 1906—11 — студент юридического факультета СПб ун-та. — 180, 186.
Покровский Александр Михайлович (1868—1929) —географ, антрополог и этнограф. Окончил Киевский ун-т Св. Владимира (1896). После революции преподавал в вузах Украины. — 116.
Покровский Иосиф Алексеевич (1868—1920) —правовед и историк права. Окончил Киевский ун-т Св. Владимира (1984), где был оставлен по кафедре римского права и служил приват-доцентом. В 1900—10-е — проф. СПб ун-та и ВЖБК, декан юридического ф-та СПб ун-та. В преподавании и научной деятельности большое внимание уделял нравственным проблемам. Представлял себе своих слушателей «звездами большой и малой величины. Но даже самая маленькая звезда должна светить окружающим своим неотраженным светом, излучая людям добро, честность и знание». Ему принадлежит представление о национализме как «политическом эросе» (1916) и критический анализ этатических построений П. Б. Струве. В 1917 преподавал на курсах подготовки народных лекторов в Московском коммерческом ин-те. — 176.
Покровский Михаил Александрович (Мися, 1906—1974) — горный инженер, специалист по бурению и добыче черных руд. — 116, 124, 139.
Покровский Михаил Николаевич (1868—1932) — историк-марксист, академик с 1929, в 1918—32 — замнаркома просвещения РСФСР. Возглавлял государственные акции против «буржуазно-дворянских» историков. — 368.
Покрышевская (урожд. Леванда) Мария Дмитриевна — двоюродная сестра Н. П., в 1952 еще жила в Киеве, где Н. П. с ней встречался. — 47, 130.
Покрышевский Михаил Александрович. — 130.
Покрышевский Михаил Михайлович (Мишук).— 130.
Полежаев Александр Иванович (1804—1838) — поэт. — 386.
Ползикова Ольга Николаевна—мать К. В. Ползиковой-Рубец, в 1890—1900-е— сотрудница Павловского ин-та, литератор. — 396.
Ползикова-Рубец Ксения Владимировна (Киса, 1889—1949) — педагог, экскурсионист. Среднее образование получила в Павловском ин-те (1906). Затем слушала лекции в Сорбонне. Окончила ВЖБК (1912) по историко-филологическому ф-ту. Работала в средних учебных заведениях Петрограда—Ленинграда. В 1920-е— сотрудница Экскурсионного ин-та. С 1939 — руководила школьным кружком Эрмитажа. Друг Н. П. — 335, 397.
Поллак Айзик Мошкович (Озя) — 85, 105, 113, 118, 133.
Половцева Ксения Анатольевна (1886 или 1887—1948) — художник-график, архитектор. Дочь сенатора. В 1915—17 — секретарь Совета С.-Петербургского религиозно-философского общества. После революции преподавала в школах рисование и черчение. Арестована вместе с А. А. Мейером 11 декабря 1928, срок (7 лет) отбывала на Соловках и в Белбалтлаге. Освобождена по зачетам в 1933. Затем жила в Калинине и Калязине. Сохранила архив Мейера. Ее биографии посвящен неопубликованный роман А. В. Бенсфельд «Ирина. Ее жизнь». (ОР ГПБ. Ф. 1001. Ед. хр. 497). — 313, 316, 318, 324—327, 332, 386.
Полуянов. — 383.
Поляк Юрий Маркович. — 139—144.
Померанцева В. П. см. Красовская В. П.
Помпеи Секст (ок. 75—35 до и. э.) — римский полководец. — 161.
Попов Александр Петрович (1890—1968) — инженер-экономист. Сын уманского нотариуса. Среднее образование получил в Киевском реальном училище (будучи исключен из последнего класса, экзамены сдавал в Виннице экстерном в 1909). Окончив 3 курса механического отделения Киевского Политехнического ин-та, перешел в Киевский коммерческий ин-т, который также не закончил. Работал в Киеве на инженерских должностях. Был арестован в 1922, но вскоре выпущен. После ареста в 1929 выслан на 3 года сначала в Алма-Ату, затем в Семипалатинск. Служил там экономистом в Казахском геологоразведочном управлении. В 1933—35 жил в Свердловске. В 1950—54 — вновь в заключении (Озерлаг, Бамлаг). Умер в Семипалатинске. Был женат на сестре Ники Дрейера — Наталье Николаевне (1894—1988).—59, 60, 62, 68, 71, 72, 88, 104, 113—115, 118, 120—124, 134, 139, 141, 143, 144, 149.
Попов-Гигило: вероятно, имеется в виду Попов-Татива Николай Михайлович (1883—?) — японист и китаист. — 386.
Попова Е. А. см. Галенко Е. А.
Попова Полина Петровна (Лина) — сестра А. П. Попова. — 62.
Потоцкая (урож. Клавоне) София Константиновна (1764—1822)—см. прим. 5 к части первой.— 24, 25.
Потоцкий Станислав Феликсович, граф. — 24.
Прево д'Экзиль Антуан Франсуа (1697—1763)—французский писатель.—113.
Прушакевич В. В. см. Табунщикова В. В.
Пумпянский Лев Васильевич (1891—1940) —филолог. В 1920-е—участник многих философских объединений Петрограда—Ленинграда. —325, 327.
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920)—политический деятель, монархист и националист. — 186.
Пуссен Никола (1594—1665) — французский живописец. — 193.
Путилов (Путилов-Янович) Алексей Сергеевич (1876—1931?)—до 1917 — крупный чиновник МВД, в 1920-е — зав.. архивом Академии наук. — 366, 371.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837). — 15, 17, 26, 128, 132, 137, 165, 224, 234, 252, 388, 395.
Пшибышевский Станислав (1868—1927)—польский писатель-символист.—123, 222.
Пьеро делла Франческа (около 1420—1492) — итальянский живописец. — 296.
Пятаков Юрий (Георгий) Леонидович (1890—1937) — политический деятель. До 1910 примыкал к анархистам, позднее — большевик. В 1911 исключен из Пб ун-та, где учился на юридическом ф-те. После революции — государственный и партийный деятель. Расстрелян по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». Реабилитирован.—192, 202, 214.
Рабо Сент-Этьен (наст. имя. Жан-Поль, 1743—1793) — французский политический деятель. Член Учредительного Собрания, а затем Конвента. Один из первых историографов Великой Французской революции. Казнен. — 266.
Радзиевская (урожд. Белокопытова) Ксения Николаевна (1870—1942).—238,
270. Радзиевский Алексей Григорьевич (1864—1934)—хирург и бактериолог. Окончил медицинский ф-т Киевского ун-та Св. Владимира. В 1894—1900 работал в клиниках Франции, Швейцарии и Германии. Затем работал и преподавал в Киеве. После революции — профессор Киевского медицинского ин-та. — 238, 270. Радлов Сергей Эрнестович (1892—1958) — театральный режиссер. В 1915 был оставлен по кафедре классической филологии у Ф. Ф. Зелинского. О его судьбе см. прим. 4 к части пятой. — 158, 214.
Раздольский (Раздольский-Ратошский) Владимир Сергеевич (1907—?) — педагог. Уроженец Ростова-на-Дону. В 1928 приговорен К ОГПУ к 10 годам заключения. Освобожден в 1934. (Сообщено И. И. Чухиным). — 385.
Разин Степан Тимофеевич (ум. 1671). — 365.
Райков Борис Евгеньевич (1880—1966) — биолог, историк естествознания и педагог. Окончил Пб ун-т (1905). В 1920-е и 1945—48 — профессор ЛГПИ им. А. И. Герцена. Кроме того, в начале 1920-х возглавлял школьную Биостанцию в Детском Селе, где жили Анциферовы. — 25.
Ранке Леопольд фон (1795—1886) — немецкий историк. Основную задачу своей науки видел в установлении того, «как собственно все происходило». — 164, 166, 281.
Расин Жан (1639—1699) —французский драматург.—262.
Распутин (наст. фам. Новых) Григорий Ефимович (1872—1916). — 331.
Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (1700—1771). — 64, 237.
Рафаэль (собств. Раффаэлло Санти) (1483—1520). — 268.
Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943). — 295.
Регул (? — ок. 248 до н. э.) — римский полководец. — 68.
Рембрандт Хармес ван Рейн (1606—1669). — 268, 289, 394.
Ренан Эрнест Жозеф (1823—1892)—французский писатель и историк.—305.
Ренуар Пьер Огюст (1841—1919) —французский живописец, график и скульптор, один из основателей импрессионизма. — 269.
Ренье Анри Франсуа Жоэеф де (1864—1936)—французский писатель.—26.
Репин Илья Ефимович (1844—1930). — 336.
Репнин Дмитрий Вадимович, князь (1890—?)— соученик Н. П. по Первой Киевской гимназии, которую окончил в 1908. Позднее учился в Александровском лицее и Мюнхенском ун-те. — 82.
Рерих Николай Константинович (1874—1947)—живописец, археолог, путешественник, общественный деятель. — 254, 305.
Рескин (Раскин) Джон (1819—1900) — английский теоретик искусства, художественный критик, историк, публицист. По-видимому, Н. П. была близка его романтическая критика буржуазной цивилизации, враждебной искусству, понимаемому как синтез природы, красоты и высокой нравственности. Симпатична для Н. П. была и деятельность Р. среди английских рабочих. — 202.
Ржепецкая Юлия Федоровна. — 113.
Рид Джон (1887—1920) — американский журналист. — 316, 323.
Ризель Вениамин Наумович (парт. псевдоним «тов. Генрих», 1885—1909) —эсер, деятель студенческого движения. В 1903—06 — студент Новороссийского ун-та (Одесса), в 1907—09 — юридического ф-та Пб ун-та. — 179—181.
Робеспьер Максимильен Мари Изидор де (1758—1794) — деятель Великой французской революции. — 267.
Роден Рене Франсуа Огюст (1840—1917). — 260.
Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) — политический деятель, с 1911 — председатель Государственной думы. — 317.
Родзянко Пантелеймон Анатольевич — племянник М. В. Родзянко, соученик Н. П. по Первой Киевской гимназии, которую окончил в 1908. — 317.
Родичев Федор Измаилович (1854—1933) — политический и общественный деятель. Один из лидеров земского движения, затем — кадетской партии. После
1917 — в эмиграции. Умер в Швейцарии у приютивших его Герценов. Автор воспоминаний, изданных в 1983 Колумбийским ун-том (США).— 106.
Роде Сесил Джон (1853—1902) — английский колониальный деятель, один из инициаторов англо-бурской войны 1899—1902. — 58.
Рождественский Дмитрий Сергеевич (1876—1940)—физик, академик с 1929.— 270.
Рождественский Сергей Васильевич (1868—1934)—историк народного просвещения в России, ученик и ближайший сотрудник С. Ф. Платонова, с 1925 — его заместитель по Библиотеке АН, одновременно — профессор ун-та. Уволен в ноябре 1929, арестован 1 декабря, постановлением К ОГПУ от 8 августа 1931 выслан на 5 лет по делу Платонова (см.), умер в ссылке. Реабилитирован в 1967. — 356.
Розанов Василий Васильевич (1856—1919) —философ, писатель и публицист.— 324, 344.
Розенталь Лазарь Владимирович (1894—1990) —искусствовед. Среднее образование получил в Тенишевском реальном училище в Петербурге (1912), высшее — на историко-филологическом ф-те Пг ун-та (1918), где специализировался под руководством Д. В. Айналова. В 1919—22 — возглавлял Художественный музей в Нижнем Новгороде, там же преподавал историю искусств. С осени 1922 поселился в Москве, где работал при экскурсионной секции МОНО и преподавал в Пречистенском Практическом ин-те. С янв. 1925 — научный сотрудник Третьяковской галереи. Автор ряда популярных изданий об искусстве (1937, 1947). — 267.
Розенталь Николай Николаевич (1892—?) —историк Западной Европы. Среднее образование получил в Тенишевском училище (1910), высшее—на историко-филологическом ф-те Пб ун-та, где специализировался под руководством И. М. Гревса. В 1920-е годы продолжал заниматься медиевистикой и историей Нового времени, позднее — сосредоточился на развитии «марксистских взглядов» на происхождение и сущность христианства. — 178.
Роллан Ромен (1866—1944).— 171—173, 269, 356, 377.
Ромейко Елена Александровна — подруга Т. Н. Анциферовой-матери в 1920-е. — 395.
Ромен Жюль (1885—1972) — французский писатель. — 328.
Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952) — историк античности и археолог. В 1901—18—профессор Пб ун-та, одновременно—на ВЖБК, слушательницы которых вспоминали о нем: «Небольшого роста, совсем неприметной внешности, (...) умел так увлечь (...) своим предметом, что обычно читал в самой большой аудитории, всегда переполненной, и было у него столько энтузиазма, столько знаний, что рисуемые им картины Рима и римской культуры вставали перед глазами как живые. Мы, завороженные, забывали о том, что живем в XX веке, а не в римскую эпоху». С 1918 Р. — в эмиграции, преподавал в США, где создал Мировую школу историков античности. — 161, 162, 186, 203, 208, 211, 213, 280.
Ротшильды — династия финансовых магнатов, существует с XVIII в. — 272.
Ру Жак (1752—1794) —деятель Великой французской революции, один из руководителей «бешеных». За критику якобинского правительства «слева» был дважды арестован, покончил с собой в тюрьме. — 266.
Рубин Исаак Ильич — меньшевик, политэконом, до ареста — сотрудник Института Маркса-Энгельса. В 1930-х—в тюрьмах и ссылках, погиб в заключении.—366.
Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881). — 23.
Рублев Андрей (ок. 1360-70 — ок. 1430). — 34, 336.
Руденко Татьяна — знакомая гимназических лет Н. П., впоследствии скульптор. — 140.
Руднев Никон (Фадеевич?) — сын С. Д. Рудневой, впоследствии музыкант. — 159.
Руднева Степанида Дмитриевна (1890—?) — педагог. Окончила ВЖБК в 1913 и в 1914 оставлена при них под руководством Б. В. Фармаковского, специализировалась по истории римской скульптуры. — 159.
Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт-декабрист. — 382.
Сабатъе Поль (1858—1928) — французский историк. — 305.
Савонарола Джироламо (1452—1498) — флорентийский религиозно-политический деятель, поэт. — 213, 249, 292.
Сажин Михаил Петрович (псевд. Арман Росс. 1845—1934) —революционер-народник, в 1870—76—один из ближайших сотрудников М. А. Бакунина.—209.
Сажина (урожд. Фигнер) Евгения Николаевна (1858—1931) —сестра В. Н. Фигнер, с 1882 — замужем за М. П. Сажиным. — 209.
Сазонов Е. С. см. Сазонов Е. С.
Саломос: правильно — Сосломос — знакомый И. И. Мечникова, сотрудник электротехнического журнала в Париже. — 272.
Самойлова Юлия Павловна, графиня — см. о ней прим. 2 к части седьмой. — 313.
Санд Жорж (наст. имя Аврора Дюпен, 1804—1876). — 220, 222, 326.
Сано ди Пьетро (1406—1481) —итальянский живописец сьенской школы.—303.
Сафо (Сапфо, VII—VI вв. до н. э.). — 159.
Святский Даниил Осипович (1881—1940)—астроном, метеоролог, историк, проводил большую организаторскую работу в Русском обществе любителей мироведения и в Центральном бюро краеведения. В 1930—32 и 1935—40 — в лагерях и ссылках. — 361, 373, 386.
Северак Жорж Б. — французский теоретик социализма, синдикалист, переводчик на французский Вл. Соловьева, лингвист. — 222.
Селисский (Селлиский) Герман Абрамович (1888—1957) — инженер. — 104, 123, 124, 129, 134.
Селиханович Иосиф Брониславович (1881 —не ранее 1952) —философ и педагог, учитель юношеских лет Н. П. В 1903—05 — учился в Московском ун-те у С. Н. Трубецкого и П. Г. Виноградова, затем в Пб ун-те — у Г. В. Форстена и А. И. Введенского. Там же в 1911 был оставлен по кафедре философии. В 1920-е жил в Киеве, занимался историей педагогики, был научным сотрудником Кафедры педологии при Всеукраинской АН. — 132, 136—139, 144, 149, 165, 217, 219, 221, 226, 227.
Семенов-Тян-Шанский Вениамин Петрович (1870—1942) — географ, член Президиума Центрального бюро краеведения. — 352.
Сен-Жюст Луи Антуан (1767—1794) —деятель Великой Французской революции, сподвижник Робеспьера, один из руководителей якобинской диктатуры. Гильотинирован после термидорианского переворота. — 193.
Сенека Луций Анней (около 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский политический деятель, философ и писатель. — 169.
Сенкевич Генрик (1846—1916) — польский писатель. — 64.
Серафим Саровский (в миру Мошнин Прохор Сидорович, 1759—1833) — преподобный, старец-пустынножитель и затворник. — 250.
Сергиевская Наталия Александровна (1885—?) —историк, учитальница. Среднее образование получила в Калужской гимназии (1904), высшее—на ВЖБК, которые окончила по группе всеобщей истории в 1911. В следующем году была оставлена при ВЖБК под руководством Гревса, который, вспоминая об экскурсии в Италию, писал о С.: «Выделялась шумным поведением и надоедливыми, не всегда подходящими к делу. вопросами. Но и она ничего не портила и товарищества ничем не нарушала» (Л. 6 об.).—280, 299, 301.
Сергий, митрополит (в миру Страгородский Иван Николаевич, 1867—1944) — с 1925 — фактический глава русской церкви, проводил политику ее примирения с советской властью. — 352.
Серебряков Анатолий Эсперович (1890—1938?)—историк культуры и переводчик. Сын народовольца-эмигранта, вырос в Англии. Учась на историко-филологическом ф-те Пб ун-та, активно участвовал в семинариях Гревса и Ростовцева, а также в Эрмитажном кружке. По окончании (1915) был оставлен по кафедре всеобщей истории, одновременно стал преподавать историю в Коммерческом училище в Лесном. В июле 1918 был командирован в Архангельскую и Вологодскую губернии «для осмотра состояния древних церквей Севера в связи с поручением Археологической комиссии». Служил младшим хранителем Художественного музея в Вологде. Весной 1920 был ненадолго арестован местной ЧК. По освобождении бежал за границу. «Я работать не могу, когда вокруг такое делается», — говорил он своей знакомой о красном терроре. В 1924 тайно вернулся в СССР, соскучившись по матери и друзьям. Был арестован при попытке возвращения в Финляндию на лыжах по льду залива. При аресте оказал вооруженное сопротивление пограничникам. Получил 10 лет Соловков. Был там научным сотрудником Соловецкого общества краеведения, затем переведен в пушхоз. По освобождении жил в Ленинграде. По свидетельству Д. С. Лихачева, уклоняясь от
неизбежного при переписи вопроса о вере в Бога (в 1937?), уехал в Петрозаводск. По данным Ф. Лурье (Нева. 1989. № 11. С. 165), в 1938 арестован и погиб в заключении. — 203, 207, 209.
Серов Валентин Александрович (1865—1911). — 270.
Сеттесолис Якоба де — богатая римская вдова, благодетельница францисканцев, оказывавшая гостеприимство Св. Франциску, пережила его на 50 лет. — 175. Сибирцев Михаил Иванович (1824—1912) — педагог и библиотекарь. Сын причетника. Учился в Архангельской духовной семинарии (1837—43) и Горыгорецкой земледельческой школе (1843—46). Затем преподавал естественную историю, сельское хозяйство, латынь и др. в Архангельске, сотрудничал в епархиальных изданиях. — 21, 47.
Сибирцев Николай Михайлович (1860—1900) — почвовед, сподвижник В. В. Докучаева, с 1894 возглавлял кафедру почвоведения Новоалександрийского ин-та сельского хозяйства и лесоводства. — 21, 25, 48.
Сибирцев Устин (Иустин, Юстин) Михайлович (1853—1933) — историк, археограф и краевед. Член-корреспондент АН с 1928. Среднее образование получил в Архангельской духовной семинарии (1872), высшее в Пб Духовной академии. Автор исследования по истории Русского Севера, северных городов (Архангельска и Холмогор), собиратель древних рукописей, первооткрыватель холмогорского периода жизни Ломоносова. В 1920—30-х работал в Архангельском доме книги. — 21.
Сибирцева (урожд. Анциферова) Юлия Григорьевна — дочь лесничего, «советника правления Северного округа корабельных лесов, коллежского асессора». — 21.
Сибирцевы, семья. — 179.
Сивере Александр Александрович, отец (1866—1954) — историк-генеалог, архивист. См. о нем: Аксакова-Сивере Т. А. Семейная хроника. В 2-х тт. Париж, 1988. — 346.
Сивере Александр Александрович, сын (1895—1929 или 1930) — в 1920-е — служащий «Моного—Лес», арестован (1924) и заключен в Соловки по «делу лицеистов» на 10 лет. Его трагическая судьба — сквозной мотив в воспоминаниях бывших соловчан. В СЛОН был нарядчиком роты, затем (с 1927) — зав. коммерческим отделом. Из лагерных характеристик: «Тип, приспособившийся к лагерной жизни» (1925); «Неисправимый каэр» (1926): «Труд и поведение хорошее» (1927); «...удовлетворительные» (1928). В 1929 по лагерному обвинению в «халатном отношении к своим обязанностям и пособничестве сокрытию злоупотреблений» приговорен к штрафизолятору на 1 месяц. 24 октября 1929 К ОГПУ «за участие в контрреволюционной организации» приговорен к расстрелу. По свидетельствам соловчан, приговор был приведен в исполнение немедленно, по данным лагерного дела — С. умер 30 марта 1930. (Сообщено И. И. Чухиным). — 346.
Сидоний Аполлинарий (начало 430-х —483?) —галлоримский писатель.—168.
Сикевич Владимир Мелентьевич (1834—1918) — автор пьес и стихотворений, предприниматель-полиграфист, общественный деятель. Окончил Киевский ун-т Св. Владимира (1861), служил в канцелярии генерал-губернатора в Петербурге, сотрудничал в «Петербургском листке». Затем — мировой посредник в Киевской губ., председатель Мирового Съезда в Сувалках. С. — родственник Галенко и Поповых, откуда и знаком с Анциферовыми. Упоминаемая Н. П. пьеса С. «Цветы просвещения» (М., 1894) была воспринята прессой как пародия на пьесу Толстого. Отказываясь признать в своем произведении прямой намек на Льва Николаевича, автор между тем отстаивал свое право полемизировать с его учением. «Исходная ложь учения, — заострял дискуссию рецензент С. Васильев, — может порождать только ложь на всем дальнейшем пути своего распространения». — 58.
Скартаццини Джованни Андреа (1837—1901)—итальянский дантовед, автор «Дантовой энциклопедии, критического и толкового словаря, до некоторой степени касающегося жизни и творчества Данте Алигьери» (В 2-х тт. Милан, 1896— 99). — 278.
Скотт Вальтер (1771—1832). — 62, 68, 238, 382.
Скрябин Александр Николаевич (1871—1915). — 251.
Смиренский Владимир Викторович (1902—1977)—поэт и литературовед.—386.
Смирнов Алексей Петрович (1889—1930) — историк, искусствовед. В 1915 оставлен по кафедре истории церкви Пг ун-та. В 1920-е — сотрудник Ленгосунивер-
ситета, Академии истории материальной культуры, хранитель отдела иконописи Русского музея. В 1925 административно высылался в Сибирь «за недоносительство». Вновь арестован в 1929 и 22 июля приговорен ОГПУ к 3 годам Соловков по «делу Мейера». По данным лагерного дела, 10 марта 1930 умер в санчасти I Отделения СЛОН от «нарастающего упадка сердечной деятельности» (сыпной тиф). «Место захоронения неизвестно». (Сообщено И. И. Чухиным). По другим сведениям — скончался в 1929. — 203, 207, 280, 281, 296, 299, 300, 309, 336, 337, 342, 343.
Смирнов Михаил Иванович (1869—1949) —историк-краевед, исследователь Перё-яславяя-Залесского. В 1931—33 — в заключении. — 361.
Смирнова Глафира Матвеевна — жена А. П. Смирнова. — 342.
Собинов Леонид Витальевич (1872—1934). — 285.
Сазонов (Сазонов) Егор Сергеевич (1879—1910)—эсер, убил министра внутренних дел В. К. Плеве. Отбывая бессрочную каторгу, принял яд в знак протеста против телесного наказания двух каторжан. — 185.
Сократ (ок. 470—399 до н. э.). — 185.
Соловцов (наст. фамилия — Федоров) Николай Николаевич (1857—1902) — актер, режиссер, антрепренер, с 1893 — руководитель одного из лучших провинциальных театров (Киев).—60.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — религиозный философ, поэт, публицист. — 29. 58, 70, 99, 171, 213, 368, 378.
Соловьев Сергей Михайлович (1885—1942) — поэт-символист. — 386.
Сологуб Федор (наст. фамилия и имя — Тетерников Федор Кузьмич, 1863— 1927).— 132, 136.
Соломин Георгий Константинович (1865 или 1867—около 1942)—искусствовед и педагог. Из семьи сельского священника. Окончил Орловскую семинарию. В 1919—40 преподавал ручной труд в школах и детских домах Петрограда— Ленинграда. Кроме монографии о Джотто (СПб, 1914), написал несколько пособий по столярному делу и другим ремеслам (1911—30). Вероятно, умер в блокаду: его архив по вымороку поступил в ОР ГПБ в 1943. — 205.
Сомов Константин Андреевич (1869—1939) — живописец. — 117.
Сосломос см. Саломос. Сосницкий — зам. нач. СЛОН. — 348.
Софокл (ок. 496 до н. э. — 406 до н. э.) — 56, 157.
Спасовские, семья. — 259.
Сперанский Валентин Николаевич (ум. не ранее 1922) — историк философии. В 1900—10-е — приват-доцент и профессор СПб и Московского ун-тов, а также ВЖБК, Психоневрологического ин-та и др. В начале 1920-х вел философский кружок в Пг ун-те, читал лекции на Центрохладбазе и др. Был в приятельских отношениях с Э. Ф. Голлербахом, в письмах к которому не щадил современных ему отечественных религиозных мыслителей: «Бесстыжая софистика Флоренского последовательно доводит до самоубийственной карикатуры все чаяния и упования Бердяевых, Булгаковых и Е. Трубецких». (ОР ГПБ. Ф. 207. Ед. хр. 91. Л. 15). — 181.
Спиноза Бенедикт (Барух, 1632—1677). — 77, 79, 99, 101, 112.
Спиридонова Мария Александровна (1884—1941) — лидер партии левых эсеров. Погибла в заключении. — 104.
Сребрный Стефан Самуилович (1890—1962) — филолог-классик. Среднее образование получил в Варшаве и Харькове (1907). Окончил историко-филологический ф-т Пб ун-та (1912). Оставлен по кафедре классической филологии. С 1916— приват-доцент Пг ун-та. В 1918 репатриировался в Польшу. Был профессором Католического ун-та в Люблине (с 1918), в 1923—39 — в Вильно, в 1945—60— в Торуньском ун-те. Специализировался по истории греческой драматургии, музыки и пластики, переводил Эсхила и Аристофана. — 158.
Ставровская (урожд. Достоевская) Мария Николаевна. — 23, 24.
Ставровские, семья. — 388.
Сталин И. В. — 333, 390.
Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — общественный деятель, философ и поэт. — 122, 194, 325.
Станюкович Владимир Константинович (1873—1939) — офицер, впоследствии ис-
кусствовед и писатель. В 1886—87 учился в гимназии Ф. И. Креймана в Москве вместе с В. Я. Брюсовым, затем — в 4-м Московском кадетском корпусе. В 1894 произведен в офицеры и назначен в Харьков, где был связан с революционным подпольем. В 1897 вышел в отставку, служил в страховом обществе в Харькове и Саратове. Печататься начал в 1900. Участвовал в русско-японской войне, за воспоминания о которой подвергался преследованиям царского правительства. Выйдя из армии, работал в страховом обществе в Петербурге. После революции заведовал Музеем дворянского быта («Дворец Шереметевых»), затем был главным хранителем Историко-бытового отдела Русского музея. — 321, 322.
Стахевич Ирина Львовна (Арыся, р. 1918) — дочь Т. С. Стахевич, инженер-технолог. Окончила химический ф-т Ин-та киноинженеров, получила направление в Шостку, но не поехала туда, т. к. завод был разрушен в первые дни войны. Работала на номерном заводе в Ленинграде, преобразованном впоследствии в НИИ. Перед уходом с работы возглавляла лабораторию. — 211.
Стахевич (урожд. Фигнер) Лидия Николаевна (1854—1919) —сестра В. Н. Фигнер, жена С. Г. Стахевича, за которого вышла замуж в Сибири. В 1917 жила с Анной Ивановной Фигнер, вдовой старшего брата Фигнеров — Петра Николаевича. —. 209.
Стахевич Сергей (1919—1941) — племянник Т. С. Стахевич» Студентом IV курса географического ф-та Ленгосуниверситета участвовал в финской войне, затем в Отечественной; служил в Разведуправлении Балтфлота, попал в плен и был расстрелян финнами в сент. 1941.—211.
Стахевич Сергей Григорьевич (1843—1918)—революционер-народник, был в ссылке с Чернышевским, член «Земли и Воли», мемуарист. — 209. Стахевич Татьяна Сергеевна (1890—1942) — историк. Окончила историко-филологический ф-т ВЖБК (1914), была оставлена там под руководством М. И. Ростовцева, вышла замуж за Л. Е. Чикаленко и уехала с ним на Украину (1916). После эмиграции мужа вернулась с детьми в Петроград (1921), работала в Музее революции. При начавшемся в 1929 разгроме Музея (аресты сотрудников и закрытие отделов «Каторги и ссылки», Великой французской революции) ушла оттуда. Преподавала латинский язык и занималась со студентами ун-та, куда ей помогла устроиться М. С. Ефименко. Затем преподавала латынь в Первом ленинградском мединституте. — 203, 206, 208—211.
Стахевич Ягна Львовна (1917—1983)—дочь Т. С. Стахевич, геолог, работала во ВСЕ ГЕИ, затем — Ин-те геологии Арктики, участвовала в алмазных разысканиях в Якутии. — 211.
Степняк С. (наст. фамилия и имя Кравчинский Сергей Михайлович, 1851— 1895) — революционер-народник и писатель. — 214.
Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — государственный деятель, в 1906— 1911 — председатель Совета министров. — 125, 187, 202.
Стриндберг Юхан Август (1849—1912) — шведский писатель, в начале XX в. наряду с Г. Ибсеном — властитель дум европейской интеллигенции, в т. ч. русской. — 194. Строганов — 145.
Стромин Александр (Альберт) Робертович (1902—1938) — в ВЧК — ОГПУ с марта 1920. В конце 1920 — начале 1930-х — старший следователь ЛенОГПУ, вел «дела» интеллигенции, под видом представителя Рабоче-крестьянской инспекции входил в комиссию по чистке Академии наук в 1929. С середины 1930-х — в центральном аппарате НКВД, начальник Саратовского УНКВД. Расстрелян. — 328, 332, 350—358, 361, 362, 364—369, 371, 374, 375; 387—389.
Стырикович — вероятно, имеется в виду Стырикович Владислав Львович — перед революцией — директор правления Русского акционерного общества соединенных механических заводов, в 1920-е — инженер-технолог. — 352—354.
Сунь Ятсен (1866—1925) — китайский политический деятель. — 386.
Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926) — военный и государственный деятель, в 1905—08 — генерал-губернатор киевский, волынский и подольский, в 1909—15 — военный министр. — 104.
Сципион Публий Корнелий Эмилиан Африканский Младший (около 185—129 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. — 64, 162.
Табунщикова (в замужестве — Прушакевич) Валерия Васильевна (1891—1970) —
учительница истории. Из семьи преподавателя Гатчинского сиротского ин-та. Мать — владелица частной женской гимназии в Гатчине. Среднее образование получила в Гатчинской гимназии (1908), высшее—на историко-филологическом ф-те ВЖБК (1914). Специализировалась по медиевистике. В начале 1920-х продолжила учиться на археологическом отделении ф-та общественных наук Пг ун-та. По окончании ВЖБК работала в гимназии своей матери, в Гражданскую войну — в интернате, затем в Музее революции. Одновременно преподавала историю в школах Петрограда. После отмены преподавания истории стала школьным библиотекарем. С 1934 — вновь преподавала историю. — 198, 203.
Таганцев Владимир Николаевич (1890— 1921) — географ. — 328.
Тагор Рабиндранат (1861—1941).— 138, 155.
Талейран-Пертор Шарль Морис (1754— 1838) —французский дипломат и государственный деятель. — 169.
Тарле Евгений Викторович (1875—1955) — историк Западной Европы и России XVIII—XX вв., академик в 1927—29 и с 1938. В молодости симпатизировал социал-демократам, в 1918—19 в публикациях по истории якобинской диктатуры косвенно осуждал послеоктябрьский красный террор, в 1920-е годы держался довольно независимо, заявляя о своей «внепартийности». До ареста 28 янв. 1930 — профессор ЛГУ. По «делу Платонова* (см.) выслан на 5 лет. К академической и преподавательской деятельности вернулся в 1936, однако формальная реабилитация произошла только в 1967. — 169, 191, 192, 350, 351, 353, 354, 361, 362, 365, 371, 373, 374.
Тацит Публий (Гай?) Корнелий (около 58 — после 117)—римский писатель-историк. — 161, 169, 177.
Тележинский Виктор Игнатьевич (1882—?) —химик. Уроженец Москвы. Осужден К ОГПУ 21 мая 1928 по обвинению в «халатности, даче взятки и возбуждении массовых волнений» на 6 лет СЛОН. Был там начальником подотдела строительства. Освобожден в январе 1933. (Сообщено И. И. Чухиным). — 340, 348.
Тентель (Тэнтэл, Тентелис) Август Адамович (1873 или 1876—1941) —историк. Уроженец Лифляндии, из крестьянской семьи. В 1894—97 — занимался в рижском семинаре валгаских учителей, в 1897—1902—учительствовал в Лимбажи, в 1904—06 — в Петербурге. Окончил историко-филологический ф-т Пб ун-та (1906—10), был оставлен там по кафедре всеобщей истории под руководством И. М. Гревса. Специализировался по медиевистике и вспомогательным историческим дисциплинам. В 1910—18 преподавал в Петришуле в Петербурге—Петрограде, в 1916—18 и 1919—20—приват-доцент ун-та (хронология средневековья). Одновременно (с 1913) преподавал латынь на Высших естественно-научных курсах Лесгафта и в гимназиях. В 1920 вернулся в Латвию, преподавал там в ун-те историю Рима и медиевистику. В 1925—27 и 1929—31 — ректор Латвийского ун-та, в 1928 и 1935—38 — министр просвещения Латвии, с 1936 —директор Ин-та истории Латвии. В списке репрессированных в 1940—41 латышей не значится. — 280, 281.
Терборх Герард (1617—1681) —голландский художник-жанрист. — 268. Тертуллиан Квинт Семптимий Флоренс (около 160 — после 220) — христианский богослав и писатель. — 71.
Тихонов Николай Семенович (1896—1979).—325.
Тициан (собств. Тициане Вечеллио, 1476—77 или 1480-е — 1576) — 33, 284, 296.
Тищенко Андрей Вячеславович (1890—1914) — историк и археолог. Сын химика — профессора ун-та. Среднее образование получил в Ларинской гимназии (1900—06) и гимназии Лентовской (1906—08). «Сохраняя народнические убеждения и строгость политической совести, никогда не участвовал в политической жизни». Высшее образование получил в Пб ун-те, поступив сначала на естественное отделение физико-математического и переведясь вскоре на историко-филологический ф-т. Интерес к русской истории сформировался у него под влиянием С. Ф. Платонова и А. Е. Преснякова. В 1909—10 сотрудничал в семинарии А. С. Лаппо-Данилевского. Окончил ун-т в 1913 и был оставлен по кафедре русской истории. Участвовал в раскопках в Псковской и Новгородской губерниях, выступал с докладом на Археологическом съезде в Стокгольме (1912). Будучи призван по мобилизации, отказался от хлопот по освобождению от службы и погиб в бою под Августовым. — 203, 204, 206, 207.
Толпыго Борис Николаевич (1889—?) — юрист. Сын кутаисского прокурора. Среднее образование получил в Кутаисской гимназии (1908), высшее—на юридическом ф-те Пб ун-та (1912). В конце 1920-х — начале 1930-х находился в заключении в лагерях ОГПУ. — 133, 137, 190—193, 198, 200, 210, 211.
Толпыго Татьяна Борисовна см. Букреева (в замужестве Толпыго)
Т. Б. Толстая Александра Львовна (1884—1979) —дочь Л. Н. Толстого, общественная деятельница. — 184.
Толстая (урожд. Берс) Софья Андреевна (1844—1919) — жена Л. Н. Толстого. — 184.
Толстая (в замужестве Сухотина) Татьяна Львовна (1864—1950)—художница, дочь Л. Н. Толстого. — 184.
Толстой Лев Николаевич (1828—19101. — 29, 64, 86, 87, 99, 118. 137, 172, 183—185, 235, 296, 378.
Томазо Челано (Фома из Челано, ум. 1255) — францисканский монах, биограф Франциска Ассизского, предполагаемый автор католического гимна «Dies irae». — 305.
Томашевский Анатолий Васильевич — судья Ленокрсуда в 1920-е. — 330.
Томилова (Наталия?) — историк. По отзыву Гревса: «Скромна и тихо деловита; стояла более на периферии, не нарушая общего интереса, но активно не воздействуя на группу» (Л. 6 об.). — 280.
Тразея — Клодий Тразея Пэт, Публий — сенатор, консул-суффект в 56 н. э., глава «стоической оппозиции» при Нероне; осужден на смерть и покончил с собой в 66 н. э. — 169. Трегубое Иван. — 108.
Трепав Дмитрий Федорович (1855—1906) — в 1896—1905 — московский обер-полицмейстер, в 1905—06 — петербургский генерал-губернатор. — 110.
Трофимов — следователь ОГПУ. — 345, 346.
Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920) — религиозный философ и правовед, общественный деятель. — 82.
Трубецкой Сергей Евгеньевич. — 82.
Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919)—экономист и историк, в 1895—99 — приват-доцент Пб ун-та, с 1913 — профессор Пб Политехнического ин-та. — 156.
Тур Евгения (наст. фам. и имя Салиас-де-Турнемир Елизавета Васильевна, 1815—1892) — писательница. — 64, 388.
Тураев Борис Александрович (1868—1920) — востоковед, основоположник отечественной египтологии, академик с 1918. — 156, 157, 203, 207.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883). — 20, 86, 87, 94, 98, 99, 111, 124, 142, 224, 252, 296, 343.
Тургенева Анна Алексеевна (Лея, 1890—1966) — художница, первая жена А. Белого. Умерла в эмиграции. — 386.
Тургенева (в замужестве Поццо) Наталия Алексеевна (1886—1942) — жена антропософа, юриста А. М. Поццо. Умерла в эмиграции. — 386.
Тургенева Татьяна Алексеевна (1896—1966) —жена С. М. Соловьева, сотрудница Литературного музея. — 386.
Тучков Александр Алексеевич (1778—1812) — генерал-майор (1808), убит во время Бородинского сражения. — 23.
Тучкова-Огарева Наталия Алексеевна (1829—1913) —вторая жена Н. П. Огарева, после приезда в Лондон (1856) стала женой. Герцена. — 267.
Тхоржевский Сергей Иванович (1893—1942) — историк, автор книг о народных движениях XVII—XVIII веков. Арестован 14 января 1930, провел несколько месяцев в одиночке, осужден (10 февраля 1931) на 10 лет. Освобожден досрочно в 1933 (в связи с окончанием строительства канала), до 1940 работал экономистом по вольному найму в управлении Бамлага. Умер от голода в Ленинграде во время блокады. — 365, 366, 373, 390.
Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943). — 314.
Тэн Ипполит Адольф (1828—1893)—французский философ, писатель и историк. — 85, 144, 266.
Тэнтэл А. А. см. Тентель А. А.
Тютчев Федор Иванович (1803—1873). — 206.
Унсет Сигрид (1882—1949) — норвежская писательница. — 230.
Успенский Глеб Иванович (1843—1902). — 268, 343.
Фаворов Михаил. — 103.
Федоров Владимир Аггеевич (1878—после 1936)—специалист по производственному краеведению, в 1920—30-е работал в Государственном ин-те научной педагогики. — 327.
Федоров Николай Федорович (1828—1903) — философ. — 378.
Федорович (урожд. Анциферова) Августа Григорьевна (ум. 1913) — тетка
Н.П.—21. Фермер Александр Николаевич (1886—1931)—знакомый детских лет Н.П.
Учился в Училище Правоведения. С 1914 — вольноопределяющийся в лейб-гвардии Уланском полку. После 1917 — участник Белого движения на Дону, ротмистр эскадрона. В эмиграции—военный инструктор абиссинской армии.—48.
Фермер (урожд. Перальта, во втором браке — Нежинская) Алиса Ивановна (?—1935) —вдова петербургского чиновника, умерла в эмиграции в Бад-Нау-гейме. — 48.
Феррер Гуардия Франсиско (1859—1909) — испанский просветитель, республиканец, близкий к анархистам. Арестован и расстрелян во время восстания в Барселоне. — 179, 302. Ферсман Александр Евгеньевич (1883—1945) — минералог и геохимик, академик, член Президиума Центрального бюро краеведения. — 352.
Фет (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892). — 98.
Фигнер (по мужу—Филиппова) Вера Николаевна (1852—1942). — 208, 209, 235, 263—265.
Фигнер Николай Николаевич (1857—1918) — певец. — 209.
Фиельструп (Фьельструп) Федор (Теодор) Артурович (1889—1933?)—историк-этнограф. Сын старшего механика Управления телеграфом в Пб. Среднее образование получил в Пб Коммерческом училище (1908), высшее — на историко-филологическом ф-те Пб ун-та. В 1914 отправился в научную экспедицию в Южную Америку, не смог вернуться своевременно из-за начала войны. После революции, не воспользовавшись правом на репатриацию, работал в Этнографическом отделе Русского музея. В 1920-е встречался с Н.П. в Детском Селе. Кроме Эрмитажного кружка, был близок к кружку В. М. Жирмунского в ун-те. Будучи в 1933 арестован по делу сотрудников Русского музея, умер в заключении «от сердечного приступа». «Сын датчанина и англичанки, — вспоминала о нем современница М. М. Левис, — он умер как русский человек... На допросе!». — 203, 207, 208.
Фиников. — 351.
Фирганг-Лоуэ. — 372.
Фирин Семен Григорьевич (1896—1938) — начальник Белбалтлага, в 1933— Дмитрлага (канал Москва—Волга). Погиб в заключении. — 385—387.
Флеккель Елена Осиповна см. Гизетти Е. О.
Флобер Гюстав (1821—1880). — 213.
Флоринский Дмитрий Тимофеевич (1889—7) —в 1899—1907 — учился в Первой Киевской гимназии, далее — на юридическом ф-те ун-та Св. Владимира. Впоследствии — дипломат. (См. Минувшее: Исторический альманах. Вып. 1. Париж, 1986. С. 97). — 60, 82, 104. Флоринский Михаил Тимофеевич — учился в Первой Киевской гимназии до
1913. — 60, 82. Флоринский Тимофей Дмитриевич (1854—1919) — славист, расстрелян ВЧК. — 60.
Флоровская (у Н.П. — Фроловская) Клавдия Васильевна — медиевистка, ученица Гревса, который писал о ней: «Это была несколько претенциозная натура, мечтавшая о научной славе, но обладавшая лишь скромным даром; ее сначала сбили с толка Карсавин и Оттокар, суля ей в Италии золотые горы, но потом стали теснить ее критикой, подрывая все ее доверие к себе и окрестив ее насмешливою кличкою «Дуду» (которая, грешен и я, казалась мне подходящею, рисующею ее манерный, обидчивый нрав). Но науку и Италию она искренне любила, и это уже немаловажное достоинство». (Л. 6). — 280.
Фогель. — 372.
Фор Огюст Луи Себастьян (1858—1942)—французский философ-анархист. Умер, будучи выслан немцами в Руан. — 272,. 273.
Фортунатов Александр Алексеевич (Саня, 1884—1949) —педагог и историк образования. Окончил Московский ун-т, где занимался под руководством А. А. Ки-зеветтера и Р. Ю. Виппера. Оставлен по кафедре всеобщей истории (1910), с 1912 — приват-доцент ун-та. Преподавал историю в гимназиях и историю искусств в ун-те Шанявского. После революции — преподавал в школах и Кустарном политехникуме. В 1923 защитил докторскую диссертацию в Баку на материале книги о трудовой школе. С 1930-х преподавал историю в педвузах. Автор пьес и режиссер ученических театров. В 1920-е организовал в имении М. К. Морозовой в Калужской губ. первую в стране опытную станцию по народному образованию, где развивались на практике педагогические идеи С. Т. Шацкого. Когда в 1925 станция, не угодившая начальству, прекратила свое существование, Ф. построил дом в Лосинке, где и прожил до конца жизни. — 66, 67, 82, 93.
Фортунатов Алексей Федорович (1856—1925) — статистик и географ-экономист. — 54, 57, 64, 66, 67, 166, 238.
Фортунатов Григорий Алексеевич (Гриня, Мут; 1891—1972) — психолог. С 1920-х преподавал психологию и историю педагогики в пединституте в Москве. Был доцентом. Научные интересы лежали в области дошкольной педагогики, теории литературы и эстетики. — 56, 57, 61—63, 66, 72, 135, 139, 217, 219—222, 228—236, 238, 242. 246, 252—255.
Фортунатов Константин Алексеевич (Костя, 1882—1915) — химик-органик и врач. За участие в революционных событиях 1905—06 арестован, исключен из Московского ун-та и сослан на 3 года в Псковскую губернию. Ун-т окончил в 1913. О гибели от тифа на фронте см. текст и примечания. — 56, 66, 221.
Фортунатов Михаил Алексеевич (1899—1984)—гидролог и лимнолог-ихтиолог. Арестован в 1929 по обвинению в «шпионаже» (работал на судне у берегов Камчатки). Освобожден в 1952, был в «минусах», откуда — по семейному преданию - его вызволил Папанин. Последние годы жизни работал в Борках под Рыбинском. — 67.
Фортунатов Степан Федорович (1850—1918) — историк, автор работ о США, преподавал в Московском ун-те. — 67.
Фортунатов Федор Алексеевич (Федя, 188—1965) — педагог и юрист, актер, преподаватель художественного слова. Окончил юридический ф-т Московского ун-та (1912), сдал экзамен на помощника присяжного поверенного, возглавлял частную гимназию в Москве. Увлечение театром стало частью жизни. Занимался орфоэпией, служил в Москонцерте и ВТО. Был близок к IV студии МХАТ, заведовал школой режиссеров, сам режиссировал, преподавал художественное чтение. Интересовался архитектурой и служил в строительной организации. — 56—58, 61—63, 66, 72.
Фортунатов Филипп Федорович (1848—1914) —языковед, индоевропеист и славист, академик с 1898. — 67.
Фортунатова (урожд. Данилович) Александра Александровна (1853—1916) — жена А. Ф. Фортунатова, окончила фельдшерские курсы в Пб. — 25, 54.
Фортунатова Мария Алексеевна (Маня, 1893—1918)—умерла в Ялте, будучи слушательницей Высших сельскохозяйственных курсов. — 72.
Фортунатовы, семья—25, 54, 56. 57, 59, 61—64, 66—68, 72, 89, 93, 95, 96, 134, 135, 238, 381, 394.
Фра Анджелико (около 1400—1455) — итальянский живописец. — 292, 299.
Фра Руджиеро — монах-францисканец. — 294.
Франк Семен Людвигович (1877—1950) — философ. — 324.
Франциск Ассизский (наст. имя Джованни Бернардоне, 1181 или 1182—1226) - итальянский религиозный деятель, с 1206 — проповедник евангельской бедности. Канонизирован в 1228. — 169, 170, 175. 250, 279, 280, 292, 293, 295, 305.
Фреди — вероятно, Бартоло да Фреди (наст. фам. Бартоло Баттилори, 1330— 1410) — сиенский (а не миланский, как у Н. П.) живописец. — 209.
Фрейд Зигмунд (1856—1939). — 37.
Фрейдков Израиль Лазаревич (1881—?) — в 1920-е торговец в Ленинграде. 16 января 1926 осужден Ленгубсудом по обвинению в «присвоении денег должностным лицом» на 10 лет лагеря. В мае 1933 освобожден с поселением в Смоленске. (Сообщено И. И. Чухиным). — 345.
Фрейдлинг Аделина Робертовна (1885—?) — историк. Уроженка Петрозавода, дочь
аптекаря. По окончании Екатерининского ин-та (1908), поступила на историко-филологический ф-т ВЖБК, который окончила в 1914. Гревс писал о ней, как и о Е. А. Лютер (см.) — 280.
Френкель Нафталий Аронович (1887—1958) — начальник Белбалтлага. Впоследствии — начальник Бамлага, работал в Центральном аппарате ГУЛЖДС. — 379, 380, 390, 392, 396.
Фридрих П. Штауфен (или Гогенштауфен, 1194—1250)—германский король с 1212, император—с 1220, сицилийский король—с 1197.—78, 168.
Фурсей Николай Андреевич — экономист, скрипач и художник, во время войны был арестован и погиб в заключении. — 342.
Фьельструп см. Фиельструп Ф. А.
Фюрст Вальтер — вождь кантона Ури в ходе борьбы за независимость, участник переговоров в Рютли в 1307 или 1291. — 244.
Фюстелъ де Куланж Нюма Дени (1830—1889) — французский историк. — 167, 168.
Хинзе. — 242.
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович, 1885—1922) — поэт, в 1905-11 учился на физико-математическом и историко-филологическом ф-тах Пб унта. — 192.
Холодковский Николай Александрович (1858—1921)—поэт-переводчик и зоолог. — 227.
Хоментовская (урожд. Шестакова) Анна Ильинична (1881—1942) — историк медиевист. Уроженка Ростова Великого. Дочь офицера-артиллериста. Окончила физико-математический (1899—1907) и историко-филологический (1912—16) ф-ты ВЖБК. Оставлена там по кафедре всеобщей истории. В 1919-23 преподавала новую историю в Пг ун-те в должности доцента, затем стала библиотекарем, в 1921-28 читала также историю итальянского гуманизма в Ин-те истории искусств. Одновременно работала в Палеографическом музее. Служила также в ленинградских архивах и Главной геофизической обсерватории, откуда в 1927 была командирована в Италию «для изучения истории геофизики». В марте 1935 арестована и выслана в Саратов, там в 1937 вновь арестована и после одиннадцатимесячного следствия помещена в инвалидный лагерь близ г. Пугачева Саратовской области. Весной 1940 освобождена по пересмотру дела и с тех пор жила в Вышнем Волочке, где и умерла. Кроме неопубликованных воспоминаний «Итоги жизни», оставила ряд рукописей по истории итальянского гуманизма, напечатанных частично. — 178.
Хомяков. — 330.
Хренникова Мария Митрофановна — 319.
Хюле Анна — 227—236.
Цвингли Ульрих (1484—1531) — деятель Реформации в Швейцарии. — 331.
Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.) — 328.
Цернциц, семья — 246.
Цернциц Адельгейде — 242, 245—247.
Цернциц Анна — 241, 242, 245—251. 255, 257.
Цернциц Гуго — 246.
Цернциц Жозефина — 245—251, 255—257.
Цернциц София — 246.
Цернциц Франц — 246.
Цицерон Марк Туллий (106 до н. э. — 43 до н. э.) — 174.
Цубина Эстер Григорьевна (1888 — после 1958) —филолог. Среднее образование получила в Гомеле (1907). Высшее—на историко-филологическом ф-те ВЖБК (1912). Участница Дантовского семинария Гревса (1911), который вспоминал о ней: «держалась обособленно, но всем интересовалась. Она деятельно участвовала в семинариях и известна была как отличная чтица стихотворных латинских текстов» (Л. 6 об.). В 1950-е преподавала немецкий язык в вузах. — 280.
Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — 168, 250.
Чайковский Петр Ильич (1840—1893). — 243, 336.
Чан Кайши (1887—1975) — китайский государственный деятель. — 341.
Чаянов Александр Васильевич (1888—1939) —экономист и писатель. Репрессирован в 1929 как глава мифической «Трудовой крестьянской партии». Погиб в заключении. — 366.
Челноков Михаил Васильевич (1868—1935) —московским городским головой был в 1914-17. Умер в эмиграции. — 369.
Челпанов Георгий Иванович (1862—1936)—психолог и философ, логик. Профессор Киевского (1892—1907) и Московского (1907—23) ун-тов.— 118.
Чемберлен Джозеф (1836—1914) — британский государственный деятель, в 1895— 1903 — министр колоний в консервативных кабинетах. — 58.
Черкунов Николай Трофимович (1844—1905) — преподаватель географии. Окончил Киевский ун-т Св. Владимира (1865). С 1870 служил в Первой Киевской гимназии. Автор ряда учебных пособий по географии и естественной истории. Создатель домашнего музея природных диковин. — 84.
Чернов Сергей Николаевич (1887—1942) — историк, декабристовед, в 1918—28 — профессор Саратовского ун-та. Один из организаторов краеведческого дела, член Центрального бюро краеведения от Саратова. Умер в оккупированном Детском Селе. — 368.
Черный Саша (наст. имя и фамилия Гликберг Александр Михайлович, 1880— 1932).— 179, 195.
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889).— 105, 116, 128, 209.
Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) — общественный деятель, публицист и издатель, близкий друг Л. Н. Толстого. — 184.
Чехов Антон Павлович (1860—1904). — 48, 55, 127, 137, 144.
Чибисова Мария Николаевна — художница. — 240.
Чикаленко Левко (Лев Евгеньевич, 1888—1965) — археолог и этнограф, политический и общественный деятель. Окончил Пб ун-т. В революцию и Гражданскую войну — член Украинской РСДРП, секретарь Центральной Рады и Малой Рады. С 1920 — в эмиграции. Жил в Польше, Чехословакии, Франции, Германии, с 1948 — в США. С 1932 — член Шевченковского научного общества, с 1945 — Вольной украинской академии науки и искусств. Преподавал в Украинском ун-те в Нью-Йорке. Автор ряда работ по искусству первобытного общества. — 157, 190, 192, 193, 198, 200, 203, 207—211.
Чирвинский Петр Николаевич (1880—1955) — геолог-петрограф, профессор. В 1931—33 — заключенный в Белбалтлаге, с 1943 — профессор Пермского ун-та. — 381, 383, 386, 389.
Чирсков Борис Федорович (1904—1966) —киносценарист, драматург. В 1920-х— экскурсовод и научный сотрудник в царскосельских дворцах-музеях. В 1931 был ненадолго арестован, в 1933 сослан в Нарымский край на три года. — 373.
Чирьев Иван Иванович (1857—?) —преподаватель математики. Окончил физико-математический ф-т Пб ун-та (1879). В 1903—07—инспектор Первой Киевской гимназии. С 1907—учитель математики в Каменец-Подольском среднем техническом училище. — 83, 104.
Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — писатель. Автор концепции «мистического анархизма», объединявшей символистскую основу с радикальными политическими устремлениями. — 199. Чуриков Иван Алексеевич — см прим. 21 к части седьмой. — 331.
Шалье Мари Жозеф (1747—1793)—деятель Великой французской революции, левый якобинец, гильотинирован после контрреволюционного переворота в Лионе. — 266.
Шасколъский Петр Бернгардович (Борисович) (1882—1918) —историк-медиевист. Окончил историко-филологический ф-т Пб ун-та (1903), преподавал в гимназиях, с 1908—приват-доцент Пб ун-та. В 1907—14—в длительных зарубежных командировках. Сотрудничал в энциклопедических изданиях Брокгауза-Ефрона. В 1917—18—деятельный член Петроградского комитета партии эсеров. О его смерти в письме Н. Н. Платоновой к В. С. Шамониной от 19 сентября (2 октября) 1918 из Петрограда: «Вчера умер от воспаления обоих легких, прохворав всего три дня. Он все это время скрывался, дома не ночевал, за ним была непрерывная слежка, так что он и захворал у чужих людей, и его, больного уже, несколько раз перевозили из одного места в другое, чтобы его не нашли, — вероятно, это его и сгубило. Надежда Владимировна не навещала его тоже из этого побуждения — он и умер без нее, в чужом доме — подумай, как все это ужасно». (Личный архив Н. Н. Федоровой. Сообщено Ф. Ф. Перченком). — 279, 306—308.
Шаховской Дмитрий Иванович (.1861—1939) — государственный и общественный
деятель, мыслитель, историк философии. В 1885—1905 — в земском движении, в 1905—17 — в кадетской партии, затем — в кооперативном движении, литератор. — 173.
Шварц Александр Николаевич (1848—1915)—в 1908—10—министр народного просвещения. — 134, 143, 144, 179.
Шебунин Андрей Николаевич (1887—1938) — историк-декабристовед и пушкинист. Освобожден в 1933, вновь арестован в 1938 и погиб в заключении. — 361.
Шевяков Владимир Тимофеевич (1859—1930) — зоолог, чл.-корр. АН с 1908. Окончил Гейдельбергский ун-т (1889). С 1899—проф. Пб ун-та, в 1910—15— товарищ министра народного просвещения. После революции — профессор в Омске (с 1919) и в Иркутстке (с 1920). — 156.
Шекспир Вильям (1564—1616). — 64, 76, 87, 230. 238, 316.
Шелли Перси Биш (1792—1822).— 175.
Шенкен Георгий — 181—183, 186, 331.
Шервинский Сергей Васильевич (1892—1991) — поэт-переводчик. — 23.
Шестов Лев (настоящ. фам. и имя Шварцман Лев Исаакович, 1866—1938) — философ и литератор. — 132.
Шецкий. — 180.
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805). — 240.
Шимкевич Владимир Михайлович (1858—1923) — зоолог. — 218.
Шляпкин Илья Александрович (1858—1918)—литературовед, книговед и палеограф. Чл.-корр. АН с 1907. — 156, 157.
Шмидт Алексей Викторович (1894—1934 или 1935) — археолог, финноугровед. Сын профессора-гистолога, доктора медицины Дерптского ун-та. Среднее образование получил в гимназии Видемана (1911), высшее — на историко-филологическом ф-те Пг ун-та (1916). В 1920-е служил в Коллегии востоковедов, заведовал отделом Африки в Музее антропологии и этнографии. Кроме того, работал в Академии истории материальной культуры, преподавал в Ин-те им. Герцена. Во время чистки АН уволен из МАЭ, но в феврале 1930 восстановлен по устному распоряжению руководившего чисткой Ю, П. Фигатнера. Однако новое партийное начальство МАЭ воспротивилось этому восстановлению. См. также о марксистских попытках Ш. в это время (1931) прим. 64 к части пятой. По неподтвержденным данным в 1933 был арестован по делу сотрудников Русского музея и умер во время следствия. — 203, 207, 209. Шмидт Отто Юльевич (1891—1956)—математик и географ, государственный деятель. — 323. Шмидт Петр Петрович (1867—1906)—лейтенант флота, революционер.—104.
Шницлер Артур (1862—1931) —австрийский драматург и прозаик.— 119.
Шондыш. — 365.
Шопен Фридрих (1810—1849).—28, 159.
Шопенгауэр Артур (1788—1860). — 118.
Шоу Джордж Бернард (1856—1950). — 230.
Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий философ. — 167.
Шпигель Александр Ильич (1891—?) — юрист, сын купца. Среднее образование получил в Киевской гимназии «Общества родителей» (1910). В 1910—14 учился на юридическом ф-те Пб ун-та, принимал активное участие в деятельности киевского студенческого землячества, в 1912 краткое время был под судом. В 1915 переведен на юридический ф-т Казанского ун-та. — 197.
Шрейдер Абрам Аронович (1903 или 1904—?) —в 1920-е — служащий, был комсомольцем, но выбыл из РКСМ из-за несогласия с НЭПом. Был осужден К ОГПУ за «контрреволюционную агитацию» на три года СЛОН. Там в мае 1930 был арестован комиссией А. М. Шанина и получил 8 лет концлагеря. (Сообщено И. И. Чухиным). — 338, 345, 347.
Штауффахер Вернер — вождь контона Швиц, участник переговоров в Рютли в 1307 или 1291. —244.
Штейнберг А. — 380.
Штейнер Рудольф (1861—1925) — немецкий философ, основатель антропософии. — 375.
Штерн Георгий Александрович (Гогус, 1905—1982) — историк и поэт, ученик Н. П. по Тенишевскому училищу, участник медиевистского семинария Гревса
в ун-те (1924), экскурсионистских семинаров в Детском Селе в 1920-е. Позже— преподаватель и экономист. В 1930—33 — в лагерях. Оставил проникновенные воспоминания о Н. П. — 361, 365, 367, 371, 372.
Шуберт Франц (1797—1828).— 243.
Шувалов Павел Андреевич, граф (1830—1908) — военный деятель и дипломат. — 25, 26.
Шульгин Александр Яковлевич (1889—?) — историк и политический деятель. Среднее образование получил в Первой киевской гимназии (1908). Высшее—в Пб ун-те, где учился на юридическом (1908), физико-математическом (1908—10) и исто-рико-филологическом (1910—15) ф-тах. Специализировался по истории Великой французской революции под руководством Н. И. Кареева. Оставлен по кафедре всеобщей истории (1915—18), с 1915—преподавал в Тенишевском училище С 1918 — на Украине, в правительстве Центральной Рады, с 1920 — в эмиграции. — 82, 133, 137, 142, 143, 190, 192, 193, 195, 198, 200.
Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — политический деятель и публицист. — 316.
Шульгин Яков Николаевич (1851—1911) —преподаватель литературы. Окончил историко-филологический ф-т Киевского ун-та Св. Владимира (1874), затем продолжил образование за границей (Вена, Мюнхен). В 1877—79 — преподавал географию и историю в Киеве и Одессе. Затем был на частных должностях, в 1893—1900 — служил в финансовом и железнодорожном ведомствах. В Первой Киевской гимназии преподавал с 1903. По словам Паустовского, «изящный старичок с белой вымытой бородкой и синими глазами ... отличался одним необыкновенным свойством: он не выносил бессмыслицы. ...Вообще же был кроткий и безответный старик. Русская литература в его передаче представлялась примитивной и безоблачной».— 133.
Шуман Роберт (1810—1856).— 191. 240.
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952)—писательница, переводчица зарубежной классической драматургии, мемуаристка. — 396. Щетинская: вероятно, Щитинская (урожд. Цветова) Лидия Константиновна (1885—1961)—учительница, позднее—администратор народного образования. В 1904—10 — училась на историко-филологическом ф-те ВЖБК, который окончила по группе русской истории. В 1940-е — снова учительница. — 323.
Эберман Василий Александрович (1899—1937) — арабист. По «делу Академии наук» был заключен в Белбалтлаг, в 1937 вновь арестован и погиб в заключении. По другим сведениям — второго ареста не было: утонул. — 380, 382, 388, 393, 397.
Эйкен Рудольф (1846—1926)—немецкий философ. Обращаясь к религии как абсолютной основе духовной жизни, критиковал ее исторические формы, отрицательно относился к церкви. — 250.
Эйнштейн Альберт (1879—1955). — 385.
Эйхендорф Йозеф фон (1788—1857) — немецкий писатель-романтик. — 253.
Элоиза (1101—1164) —возлюбленная П. Абеляра. — 264, 265.
Эмме Мария Федоровна. — 112.
Энгельгардт Борис Михайлович (1887—1942) —литературовед. Перед арестом по «делу Академии наук» работал в Рукописном отделении Библиотеки АН и Институте истории искусств. — 398.
Энгельс Фридрих (1820—1895). — 175.
Эпикур (342 или 341 до н. э. — 271 или 270 до н. э.). — 174.
Эрн Владимир Францевич (1882—1917) — философ. — 324.
Эрнштедт см. Ернштедт Е. В.
Эсхил (526—456 до н. э.). — 56.
Юденич Николай Николаевич (1862—1933). — 314, 322.
Юдина Мария Вениаминовна (1899—1970) —пианистка и педагог, неоднократно увольнялась с работы за религиозные убеждения. — 325, 327.
Юлиан Отступник (331—363) — с 361 римский император. — 261.
Юрий Мстиславский (ум. после 1456) удельный князь в Литве. — 383.
Ягода Генрих Григорьевич (1891—1938) — в 1931 — зам. председателя ОГПУ. Расстрелян. — 374.