Лагерные истории
Лагерные истории
Гершенгорен, М. Г. Лагерные истории / Гершенгорен Мордко (Марк) Герцевич; – Текст : непосредственный.
(Воспоминания были записаны на аудиокассеты, расшифрованы и переведены в электронный вид)
Об авторе
Гершенгорен Мордко (Марк) Герцевич
- Дата рождения: 1915 г.
- Место рождения: г. Острог Ровенской обл.
- Образование: среднее техническое
- Место проживания: г. Острог Волынского воеводства, Польша
- Дата ареста: 12 февраля 1937 г.
- Обвинение: незаконный переход границы
- Осуждение: 28 марта 1938 г.
- Осудивший орган: ОСО при НКВД СССР
- Приговор: 10 лет ИТЛ, отбывал в УСВИТЛ (Колыма).
- Освобожден 12.02.1947
- Дата реабилитации: 21 мая 1955 г.
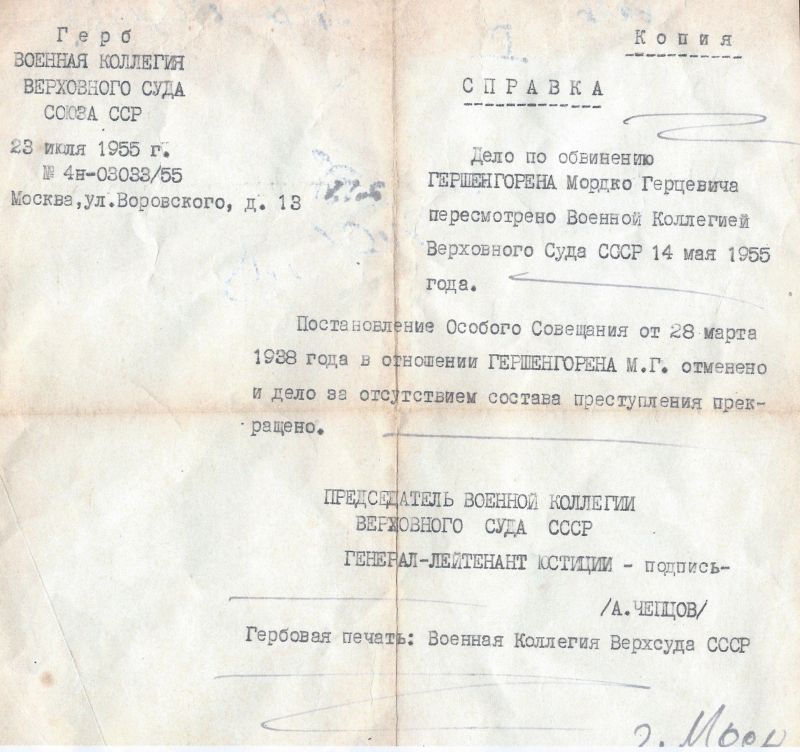
Реабилитирующий орган: ВКВС (Верховная коллегия Верховного суда)
Источники: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Архив НИПЦ «Мемориал», Москва
* * *


На снимках:
супруги Гершенгорены (вверху);
российский артист Ефим Шифрин с друзьями своих родителей –
Гершенгореном Марком Герцевичем и Гершенгорен Натой Моисеевной (внизу).
Благодарим Ефима Залмановича Шифрина за любезно предоставленные фотографии.

* * *
Не хочу касаться момента ухода из дома. Это больно, поскольку я оставил большую семью, родителей, братьев, сестёр. Практически, может, только одна мать знала, что я уйду в Советский Союз. Я должен был пойти в польскую армию, служить в польской армии я не хотел, тем более что после училища у меня была уже там заметка, что я недисциплинированный и не очень поддаюсь выполнению любых приказов.
И вот так в один прекрасный февральский день, – хотя он трагическим фактически был, нельзя его назвать прекрасным, – я направился к польско-советской границе. Я её перешёл, поскольку я жил на границе, сам, довольно легко, и тут же перебрался на старую дорогу, которая когда-то соединяла наш город Острог с Россией – с Шепетовкой, со Славутой, Киевом и тому подобном. Я вышел на эту трассу, и на меня из засады выскочили два красноармейца; по правилам велели, понимаете, мне остановиться, руки вверх, спросили, в чём дело. Я сказал, что я пришёл оттуда. Они меня поняли и повели на погранзаставу. На погранзаставе капитан, я не знаю, какой-то командир в то время, принял довольно, так сказать, дружелюбно. Тут же при мне доложил куда-то по радиостанции, что появился перебежчик. Что ему сказали, я не знаю, но меня отправили в какую-то камеру. Там было очень много матрасов, нар, и я переночевал в этой камере. На второй день снова меня капитан этот вызвал, сделал маленький допрос, и на третий день – это было уже воскресенье, или выходной, – да, это был какой-то выходной или после выходного дня, – дали сани, лошадей, одного комсомольца с винтовкой. Мы сели в сани, и повезли меня не в расположенный ближе погранотряд в Славуте, а в Ямпольский погранотряд. В Славуте жил мой дядя, родной брат отца, который бежал от поляков в двадцатом году, поскольку поляки расстреляли его отца-большевика, и он со всей семьёй перебрался через границу в Союз и стал жить в Славуте. Я думаю, для того, чтобы, так сказать, – ну, это ихнее соображение, – чтоб я был подальше от своих родных, меня и направили в Ямполь.
В Ямполе погранотряд – это двухэтажное здание с прилегающей территорией и высоким забором, где каждый день нам давали час–полтора там гулять. Там началось следствие, ну, следствие или допрос; всё шло хорошо, всё шло нормально, никаких, но я сидел там в одиночке. Может быть, там еще были заключённые, я не знаю. Только помню, что когда во время допроса – помню, это была комната небольшая, стол, сидел следователь, рядом с ним стояла в станине винтовка с этим – я хотел сказать багинетом – со штыком! И вот, у него на столе стоял полевой телефонный аппарат, по которому он иногда куда-то звонил. Пришёл еще какой-то следователь и спрашивает при мне первого: «Ну что? Как дела?» А тот говорит – не хочу выражаться, как он: «Ничего интересного нет, я дело заканчиваю». Но интересно другое: я сейчас вспоминаю момент, когда нас вели в этот погранотряд, – это, как я сказал, было двухэтажное здание, – в дверях стоял красноармеец, а командиры были в кубанках. И как-то у меня в голове сразу замкнуло, что я попал в совсем другой мир, что всё то, что было со мной, – я как-то органически и психологически почувствовал, что упала завеса, – что я должен всё, что было, забыть. Иначе может получиться какая-то психологическая травма. И видно, этот момент так со мной шёл многие десятилетия, пока я не стал жить нормальной человеческой жизнью.
Через неделю-полторы или две, это уже было в марте месяце, правильно, где-то в марте месяце меня вывели и сказали: «Сейчас вас будут судить». Отвели меня на второй этаж, в комнату; там сидела женщина, красноармеец с винтовкой стоял в стороне. Она меня спросила, допросила, почему я перешёл границу, как это было? Я ей всё рассказал. Она потом куда-то вышла, вернулась и сказала, что я даю четыре месяца за нелегальный переход границы. «Вы эти четыре месяца или здесь побудете, или вас куда-нибудь отведут. А потом поступите на работу, будете учиться, и будете, так сказать, счастливым советским гражданином, что я вам от души желаю». Ну, я поблагодарил её, насколько мог, и меня обратно увели в свою камеру. Я не знаю, по каким причинам повели меня потом не на прогулку, а в большую комнату в подвале. В углу был камин. В камине были какие-то угли или что-то такое, но видно, что перемешано с массой какой-то, понимаете, краской или чем-то таким. Впоследствии, когда я вспоминал, то предположил, что кое-кого прямо вводили туда, голову ставили в этот камин и там же, на месте расстреливали людей, прямо на границе. Почему-то у меня было такое чувство, мною овладело. Так это было или не так, я сказать не могу.
Потом, в апреле месяце уже, наверное, как потом я понял, кто-то опротестовал этот приговор. Это впоследствии, через год с лишним только подтвердился этот факт. Меня посадили в кузов машины, дали селёдку, хлеб на дорогу, боец сел рядом со мной, тоже с винтовкой, и я не знаю, в машине был еще второй боец или не был, и мы поехали. Когда мы проезжали через город Заслав, почему-то машина там остановилась. И жители подходили к машине, смотрели на меня и говорили: «Ой, какой молоденький, и что это он натворил, что вот под двойным конвоем – один в машине, другой так». Это, наверное, уже май был, потому что они уже черешню ели, что-то я уже не помню. Ну, короче, меня привезли в Житомирскую тюрьму, во двор, но я еще был со своей причёской, чёрной шевелюрой, как человек, который только как будто пришёл с воли. Но перед тем, как войти в главный корпус, вдруг я увидел – идёт человек, а за ним – стая детей, и у этих детей рыбки маленькие. Боже, думаю, как это так, дети, может, идут с реки, они ловили вот этих маленьких рыбок, которые водятся в песке. А потом я узнал, что это была килька.
Ввели меня в спецкорпус, на второй или на пятый этаж, я не помню, в общую камеру. Но это был 37-й год, там уже были тоже перебежчики, человек шесть или семь. Там стояло четыре или пять, четыре или три кровати, по два человека на кровать. Меня наутро вызывают в баню, почему-то только наутро подстригли, потом вернули в эту камеру. Это уже был год произвола. В общих камерах уже людям не только, понимаете, сидеть, уже и стоять негде было, а к нам относились очень хорошо. Впоследствии каждую неделю или через две недели приходила санврач, спрашивала, есть ли те или другие насекомые, как мы себя чувствуем, и на шестерых человек выписывала три – как это называется – диетических обеда. Трём человекам давали три общих обеда, и троим – диетические, и они так вот менялись с полгода, наверное.
На мой вопрос, почему меня не выпускают, я конкретно ответа так и не имел. Прошло месяца два или три. Это было еще до того, как я написал, сказал им – всё, я больше не принимаю пищу, объявляю голодовку. Меня тут же, сразу, спустили в подвал, в одиночную камеру, и я не брал ничего, ни воды, ничего абсолютно. На третий, четвёртый или на пятый день туда спустили еще одного человека. Он довольно интересный, представился членом ЦК румынской компартии. Тоже объявил голодовку, но у него с собой был сахар. Он мне рассказывал про себя, насколько я понимал.
Пошёл одиннадцатый день, пришёл врач, пришли два верзилы, бывшие бытовики, и меня начали кормить искусственно – расширяли рот и из, как это называется, со шлангом – из грелки (?), но не грелки, а чего-то такого (лили в горло?). Но каждый день туда заходила уборщица, пожилая полька; и она, значит, убирала. И вот на пятнадцатый или шестнадцатый день я уже не ходил, я уже лежал, и она как-то посмотрела на меня, села на кровать и говорит: «Synu, zo dległychkrain ludzie powracają, aleze ztamtego świata – nikt. («Сыну, с далёких краёв люди возвращаются обратно, но с того света – никто. Так что брось, ты еще молодой, не стоит игра свеч»). Ну, действительно, на шестнадцатый день мне велели написать, что я согласен отменить голодовку, я написал, меня обратно – в одиночную камеру спецкорпуса. Но перед тем, как начать меня нормально кормить, меня отвели к главному врачу больницы. Это была средних лет – ну для меня она была вообще-то уже тётя – очень интересная, импозантная женщина. «Садитесь». Значит, послушала меня и говорит: «Ну всё, теперь вы будете мучиться желудком, потому что вы нарушили весь, так сказать, цикл своего питания. А вообще-то, я вас не пойму. Что вам не хватает? Вы в чистоте сидите, вас кормят, бельё меняют каждые десять дней. Даже, как я знаю, приходит санврач к вам. Ну, у вас нет денег на ларёк? Но тут ничего не поделаешь. Но я удивляюсь, ведь есть же люди, которые сидят и этого не имеют, что вы имеете здесь, в тюрьме». Ну, я на неё посмотрел, поблагодарил так, как мы привыкли, за каждое доброе слово благодарить, и меня обратно в одиночную камеру, начали давать какие-то бульоны. Начал я набирать силы, и на пятый, на шестой день меня перевели в общую камеру этих перебежчиков. Но в то время, пока я сидел в подвале, там каждую ночь уже были и женские, и мужские голоса людей, которых истязали, допрашивали. А наверху, – да, я путаю одно с другим, когда я сидел в спецкорпусе в одиночной камере и нас выводили на прогулку, то почему-то все советские граждане меня называли паничем, почему, я не знаю. С одним, с которым мы ходили, для меня это было всё дико, я всего этого не понимал, а он мне показывал: Вот это – комкор, зять Петровского; один был какой-то тоже командир. Он мне сзади говорит: «Вот учти, я сибиряк, у меня отец – красный партизан, и вот меня теперь, наверное, расстреляют». Там был очень интересный, очень чистенький старичок, ходил в галифе, в сапогах таких очень красивых, в таком полуфренче военном, – мне говорили, что это директор каменоломни (я с ним потом сидел в одной камере, почему-то меня с ним посадили). Вот все, когда мы гуляли, зная, что я, так сказать, не тутошний человек, они меня знакомили с советской жизнью. Я всё это воспринимал как сознательный человек, который стремился к социализму, к коммунизму, всё это для меня, конечно, дико, но это факт, который нельзя вычеркнуть.
В один прекрасный день идёт обход. Все мы знали, что врачи, которые приходили нас проверять, сказали, что мы живём в привилегированных условиях, потому что мы еще не советские граждане, и не польские граждане, мы в воздухе по линии гражданства. Пришёл начальник тюремных заведений, украинец, что ли, комкор, я не знаю, и зашёл к нам тоже.
– Как вы живёте, что вы жуёте…
А я говорю ему:
– О чём вы спрашиваете, вот у меня кончился срок, и вы меня до сих пор не освобождаете, пустите меня обратно, я там буду сидеть, я буду знать, за что я сижу.
А он мне говорит:
– Что вы так раскричались, что вы так говорите со мной?
Я говорю:
– Я защищаю свои гражданские права.
– Пять суток изолятора!
Пришёл начальник корпуса, что-то сказал, я ему что-то нагрубил. Мне дают телогрейку и выводят. Это царская тюрьма, центральный корпус, ни одна война её не разрушила – ни поляки, когда взяли Житомир, ни немцы не разбомбили, ни советская власть не разбомбила, тюрьма всегда была. Значит, по коридору, потом направо, и в центре – изолятор. Но прежде всей ходьбы туда, когда только повернул, смотрю, на бетоне в коридоре лежат дети и женщины с грудными детьми прямо на полу. Это еще один момент.
Ну, меня довели, это такая метров трёх высоты комната, может, даже выше, стоят дубовые нары, сантиметров тридцать пять высоты от пола, каждая доска – пятьдесят-шестьдесят миллиметров толщины, окно под потолком, наверху горит вечный спутник заключённых – лампочка. Там находились один пожилой человек без одной ноги, с этим, как его, под мышкой, костылём, и человек четырнадцать малышей, видимо бездомных. Я только зашёл:
– Сколько дали?
Я говорю – пять суток.
– Откуда?
Я говорю – перебежчик.
– А ну-ка дайте место человеку.
А то ведь все на полу лежали, на бетоне. Он говорит:
– Есть платок?
Я говорю, есть.
Он говорит:
– Завяжите себе шею, потому что может... – я не знаю его соображений, но видно, он не первый раз в тюрьме сидит. – Для того чтобы вы не простудились, лучше всего надеть.
Ну вот, я просидел день, два, на второй день были неприятности, принесли по триста грамм хлеба и два раза – утром чашку тёплой воды, и вечером больше ничего не давали. А при раздаче этого хлеба двоим не хватило. Видно, этот дядька сумел. Вызвали снова начальника корпуса, был скандал, но хлеб так и не дали. Меня вызывает коридорный и говорит: «Вот что: завтра придёт начальник корпуса, попроси у него извинения и тебе сделают арест на меньшее число дней». Я говорю: «Ничего я не буду просить, буду как все». На третий день вечером меня вызвали и – в камеру.
В камеру я пришёл, как будто вернулся в родной дом. Мне казалось, что я ожил, пришёл из какого-то ада. Это психологически может представить только человек, который был в аду и попал в рай. Ну, ребята меня очень хорошо приняли, дали отдельную койку. На второй день пришла медсестра, выписала мне диетическое питание. К нам относились хорошо, но во всех остальных камерах был какой-то ужас, будучи на четвёртом-пятом этаже, были слышны истязания в подвалах.
К нам приходила очень миловидная девушка, медсестра, и, видно, за ней ухаживал начальник корпуса, потому что всегда он её сопровождал.
Я не помню, когда, меня вызвали в какой-то кабинет, там сидел человек в кожанке, и что-то начал со мной говорить. Что я ему ответил, я сказать не могу, мне сейчас трудно вспомнить наш диалог, потому что я ему сказал, что это всё равно прогресс и что, когда-то люди заживут, не в отношении только выполнения плана, а это должен быть полный, и в научном мире должен быть полный контакт, иначе одна страна отстаёт, другая – всё... Видимо, всё это накопление и дало то, что мне через год, 28 апреля ... Да, я не хочу сейчас забегать. Он ушёл, не представившись, кто он такой, но, видимо, это был прокурор или следователь из Киева. Это было еще во время голодовки.
Я так просидел в этом доме, в этой тюрьме до августа месяца. По-особенному к нам относились все, и начальник корпуса, и коридорный, все и вся. Еще было одно – когда меня однажды вели в баню, банщик увидел мои кальсоны, он говорит: «Ой, продай мне! Пожалуйста!» Он мне дал три рубля, и это были мои первые, так сказать, деньги, три рубля, с которых я начал свою экономическую, финансовую деятельность в Союзе, теперь в России.
Это было к вечеру, наверное, – пришёл начальник корпуса, пришла врач тюрьмы, вызвали меня и еще одного парня, там оставалось еще пять или шесть человек, один был с Кракова, двое из (нрзб.), еще откуда-то парень был. Говорит: «Вот, ребята, сейчас вы идёте в этап, берите, что у вас там есть своего». Да, я еще успел поменять пиджак свой гражданский на красноармейскую рубашку. Тоже дали какие-то, понимаете, деньги, я покупал, не помню, сахар или конфеты, я не курил. «Так что мы вам желаем всего наилучшего». Мы, два молодых человека, сняли кепки, поблагодарили, и нас они сопровождали во двор тюрьмы, этапный двор. Как только мы пришли во двор, откуда-то из-под стены выскочила женщина, обхватила нас, начала плакать и начала орать: «Дети мои, дети, вы куда теперь идёте, вы там пропадёте», – целую тираду произнесла, а начальник корпуса сказал сразу: «Уберите вы её!» – и обратно её отвели, посадили под стену тюрьмы. Открыли ворота, нас вывели, и тут сразу команда: «На колени, руки назад! И на землю!» Потом привели еще людей, посадили в (нрзб.) вагон...
Я сделал ошибку. На машине из погранотряда я попал не в Житомирскую тюрьму, а в Шепетовку, в пульмановский вагон, нет, (нрзб.) вагон, и как только начальник конвоя меня принял, я вошёл в вагон и остолбенел: передо мной стояла женщина, довольно миловидная на вид, блондинка, одетая в какой-то мешок, прорезанный для рук и для головы, и в платье этом мешковом она мыла полы. Для меня это был…, ну, я в жизни своей чего-то подобного не мог представить. Меня туда, значит, посадили, в сепаратку, но почему-то начальник конвоя хотел со мной тоже беседовать: почему, когда, что… Таким вот образом, в одиночке, я доехал до Житомирской тюрьмы, и потом была эта вся эпопея тюрьмы, с голодовкой....
Потом подали плацкартный вагон с решёткой, и там сели против меня директор, бывший директор Житомирского госбанка, еще одна женщина, очень миловидная, и совсем молодая девочка. И директор с этой женщиной начали вспоминать, как они подняли житомирский пролетариат против петлюровцев, и теперь они не могут понять, почему их посадили и везут в Харьков (наш маршрут был до Харькова). А эта девочка говорит: «Я вообще не знаю». Да, нам не объявили никаких сроков, никаких статей, ничего. Мы действительно куда-то едем на поселение, так мы были уверены, поскольку авторитетные лица нам сказали, еще и женщина-врач нам это сказала. И конвой не спрашивает у нас ничего. Либо пакет нашего дела идёт с нами, но там нету – как поручик Киже, – ни статьи, ни срока, ничего нет. А эта девочка говорит: «У нас на работе было собрание профсоюзное, должны были сказать на смерть Орджоникидзе, а меня в пять часов – я только влюбилась – парень назначил мне свидание. Я не пошла на собрание, а пошла на свидание, и на второй день меня посадили на десять лет».
Вот таким образом мы доехали до Холодной горы, – это тюрьма такая, Холодная гора, в Харькове. Ввели нас в тюрьму ночью, конвой нас сдал, и снова меня никто не спрашивает про статью, только фамилию, имя и дату рождения. На второй день под конвоем в вагон, в вагоне уже порядочно людей, вагон – телятник, теплушка, и там был основной контингент из Херсона, Николаева и из Крыма. Из Крыма, в основном, были немцы. Один был Геринг, два брата Лель, нет, это отец с сыном. И еще там были молодые, красивые работяги ребята. Кого я запомнил со стороны Херсона, это был Иоффе, маленький такой человек. Он был сыном, как он мне рассказал, портного, он еще во время оного времени работал переводчиком в порту – переводил с английского на русский язык – и им же остался работать при советской власти. Теперь, поскольку он имел какое-то отношение к иностранцам, его судили за шпионаж и посадили в этот вагон.
И еще был Козлов, секретарь райкома партии Николаева, который рассказывал, что, когда он служил в армии и комкор Якир проходил мимо них и своей полой шинели дотрагивался до него, он был счастлив. А его обвинили, что они построили там какую-то вышку с зеркалами, для того чтобы давать световые сигналы туркам, японцам, англичанам и румынам. А теперь, поскольку крымчане отделились, приходят двадцать лет сигналы крымским татарам.
И нас везли месяц до Владивостока. Привезли в Челябинск. Я прочёл «ЧелябИнск», все посмеялись. Повезли в Иркутск, в Иркутске сделали баню, помню немножко это место в вагоне, и привезли во Владивосток. Всего месяц шёл вагон от Харькова до Владивостока.
Во Владивостоке, когда нас вывели в колонну общую, то открыли мой пакет и мне прочитали: статья ПШ – 10 лет. Но я это не воспринял. Я забыл рассказать очень интересный момент. В одну ночь в Житомирской тюрьме я видел сон: та же самая комната, как в Ямпольском погранотряде, где меня судили, стол, и лежат три больших гроссбуха. Входят три человека, что-то они между собой говорят, и один говорит: «Ну что, давай десять». Говорят «десять», и меня выводят с этой комнаты. Это было 28 апреля 1938 года, в момент, когда мне вынесли этот приговор. И еще одно, почему я иногда верю снам. Перед тем, как нас забрать в этап, мне снится сон: какой-то ангел или, может, даже моя родная мать, или какая-то женщина, взяла меня за правую руку, и я с ней полетел через равнины, горы, куда-то далеко. И на второй или третий день меня отдали в этап (этот сон – к слову пришлось).
Ну, что сказать про Владивосток. Наверное, более грамотные, русскоязычные описали эту пересылку. Во-первых, пересылка была под трубой крематория. Говорят, где-то, когда-то, во время гражданской войны японцы построили крематорий, для того чтобы тифозных и таких подобных больных там сжигали. Были бараки, по пять этажей, на пять нар. Клопов было дай бог каждому. Но это еще не всё, я в Чарынской долине, хоть это и была новая дорога, встретил не менее клопов. Это в будущем, наверное, где-нибудь я вспомню седьмую палатку в Чарынской долине, где была контора участка. Народа – тьма-тьмущая. На какой-то части площади был так называемый жидок, или базар, Париж, или как-то иначе. Там меняли – кто трубку, кто брил спичками, кто брил стеклом. Я там встретил одного человека с трубкой, он такой презентабельный, он говорил, что был куратором школ в Москве. Когда я учился, куратор у нас был фигура – дай бог каждому. И что, как это, за что куратору можно дать лагерь?! Был забор, и за забором были дамы. В боа, в пальто хороших, действительно, не работницы, которых тоже было много, очень много из интеллигенции, из жён. Я это всё еще не воспринимал, я был одиночка, в стороне, я ничего не мог понять, что же тут происходит. Как я вышел с этого состояния, я не помню, потому что обслуги медицинской, мне кажется, никакой там не было. А может быть, кто-то подсказал, каким образом, я вышел из этого состояния. Это было такое самочувствие, что-то страшное, потому что я чувствую, что на улице ещё сумерки, а я уже ничего не вижу, и просто как слепой, в полном смысле слова. Добирался до первых нар или ложился под нарами для того только, чтобы найти своё место.
Этот лагерь был разбит на такие квадраты, и на каждом углу квадрата стоял пулемёт, так что сопротивления быть не могло. В один прекрасный день нас выстроили в колонну и повели до бухты, до Владивостокской бухты, как она называлась? Нас запустили в трюмы. Это был пароход-тюрьма, без воздуха, кормили только репой. Я попал в положение беспамятства, я ничего не ел и ничего даже не пил, и снова почему-то мне повезло: кто-то зашёл в этот трюм, и нас, несколько человек, выпустили на палубу подышать свежим воздухом. Помню хорошо, что меня вывели на палубу, там стояли солдаты над трюмами, с винтовками; пустили нас, и там полчаса или час мы были на свежем воздухе.
Так мы плыли шесть суток или семь до бухты Нагаева. Прибыли туда вечером. Когда нас подняли наверх, то вдалеке кругом были лампочки, светили электролампочки, – мы стали на рейде, кругом бухты было освещение, там дорога была такая. Нас посадили на катера, потом пешком, часов в одиннадцать вечера или в половине двенадцатого загнали нас на транзитку, на пересыльный пункт, в какой-то барак, без потолка, только крыша, балки связные. И так стояли один около другого, так много было народа. Ну, поскольку я понял, что стоять – это не дело, я каким-то образом забрался на балку, лёг и вот так я пролежал до утра.
Утром нас вывели, помыться не дали, понятно, этого нельзя. Сбивали по десять, по пять человек. Во дворе стояли деревянные не широкие, по полметра, наверное, столы, длиной метра четыре или пять, на каждом – банный бачок оцинкованный. Туда наливали, видно, манную кашу, наверное, это манная каша была, дали каждому ложку, деревянную или какую-то. Но как только часть каши попадала на стол, сразу замерзала – дело было уже 23–25 октября. Через день начали нас выводить, одевать, дали новые валенки, белый полушубок, телогрейку, по-моему, дали тоже тогда, ватные брюки, шапку. И вот таким образом мы выходили два раза в день и ели эту баланду.
В один прекрасный день нас выстроили и (повели) через весь город, через реку Магаданку. С каждой стороны стояли нефтебаки. Выдали нам ломы, и, видно, они ждали, чтобы та часть людей, которой выдали, – может, те, кто хотел пойти на работу, я сейчас не помню, (начали работать). Ну, помню, был квадрат, довольно большой, и надо было выравнивать почву. Я с удовольствием взял лом и что-то делал, чтоб какое-то упражнение было, но когда я начал бить, каждый удар давал кубик – пять миллиметров кубических земли этой мёрзлой. Я еще подумал, кому нужен такой сизифов труд, кому это нужно. На второй день нас уже не вывели, а завели там же, на кар(антинном) пункте или на пересылке, в большой барак, высокий, с большими, как в амфитеатре, скамейками, внизу стоял столик. Там сидело вроде три врача; помню, один был почти что карлик, такой маленький; и надзиратель или не надзиратель, а как он называется – не нормировщик, а нарядчик! Начали вызывать по сорок пять – пятьдесят человек пофамильно. На улице уже стояли (трейлера?), в углах – четыре солдата с винтовкой, бойца-охранника, сажали там по пять человек, на корточках, и таким же образом, при морозе в 35 градусов, отправляли, как только набрали, в тайгу.
Так пропустили пять с лишним тысяч человек. Но когда осталось уже мало и всех знакомых моих по этапу, по вагону забрали, я обратился к нарядчику: «А почему меня не взяли?» А он мне говорит: «А как фамилия твоя?» Я говорю: «Гершенгорен». – «А у меня такой фамилии нет». Я говорю: «Как нету, отправляйте обратно меня, раз нету». Он начал читать и по складам прочитал мою фамилию. Ну, уже всех отправили, и, когда я подошёл еще к этому столику, к врачу, у меня были экзема, чесотка и цинга. Он сказал: «10-й ОЛП», – и тотчас сразу кого-то вызвал, и меня ночью отвезли на 10-й ОЛП. Наутро – так я попал в одну из палаток – и там был, наверное, цвет музыкальной культуры Москвы, потому что потом в одной бригаде, в соседней бригаде был бас Батурин. Почему это я помню, потому что Батурин прямо там, на стройке, и пел. Ну, остальных я мог не помнить, да и для меня это вообще было всё далёкое, но они рассказывали, что один – музыкант-контрабасист, другие на флейте играли. Вот так у нас было в палатке человек двадцать или двадцать пять, такая палатка, печка посередине стоит; я сейчас не помню, чем она топилась, потому что в тайге я знаю, чем печки топились, а в Магадане – не помню. Помню, свет был. А на работе каким-то способом я попал в лекпом, видно, я заразный. Рассказал, как я остался в Магадане, а те, видимо, уже работали на стройке. Вот очень жалко, там был такой Косой, тоже 58-я статья, а помощником был у него молодой парень, видно, блатной, поляк. И после того, как мы с ним один раз поговорили, он говорит, надо его показать врачу и направить его в УСВИТЛскую больницу. И действительно, часов в одиннадцать, не помню, кто меня отправлял, но меня отправили в Магадан, в УСВИТЛскую больницу. Больница – это длинный барак, – а, сначала в поликлинику я еще попал, не в больницу, где лежат, – я пришёл, и первый вопрос, который я задал, я спрашивал полным серьёза голосом: «Скажите, пожалуйста, где шкурный врач принимает?» Они: «Как шкурный врач?» Я говорю, так и так. «А, кожный врач!» Я говорю: «Ну, хорошо, пусть будет кожный». Я показался ему. Это был профессор Орлов, москвич. Вещи были все при мне, и он меня сразу направил в стационар там же, при УСВИТЛовской больнице. Там были тоже бараки. И вот он мне стал какие-то ванны делать, противоцинготные, и я там пролежал дней десять или одиннадцать. Настал праздник 7 ноября. Это был 1938 год, значит, был 21-й год советской власти. И поступила команда: всех больных выписать в лагеря.
Но тут я тоже должен рассказать несколько интересных случаев. Там в одной палате со мной лежал – ну я говорю: «дядька», такой пожилой человек, который во сне начал (вспоминать?) Троцкого. Вы понимаете – 38-й год, или у него был жар, или что, но этот фрагмент я не забуду. Как начали его все трясти, и разбудили его, и сказали: что ты хочешь? Никто его, все же, не выдал.
Мне дали бумажку, обратно пойти в 10-й ОЛП. Сначала надо найти улицу, уж не помню, как та улица называется, потом на улицу Сталина, и со Сталина надо по Колымскому шоссе – это главная магистраль – начинается с порта Нагаева и идёт до Аляскитовой и до Ханки, нет, потом уже она шла, вы правы. Я иду; идёт женщина, несёт сумку, видно, наверху даже чеснок, и видно, что ей тяжело нести. У меня соображения, что я арестант, нету. Я подхожу к ней и на ломаном полурусском, полупольском языке предлагаю свои услуги. А она говорит: «Уйдите! Если не уйдете, я сейчас так закричу, что весь город услышит и вас заберут. Уйдите от меня, и всё!» Понимаете, она была вольная, а тут подошёл к ней арестант!
Короче, нас, больных, к 7 ноября выбросили из больницы. Правда, когда я вернулся, то этот поляк дал мне бутылку рыбьего жира, а селёдки-то в Магадане было много, потому что потом при ОЛПе была бригада рыбаков, они ловили и селёдку, и кету, и горбушу, и камбалу, так и кормили весь лагерь. Были такие бригады специальные. И вот это меня вылечило от болезни. И меня передали в бригаду плотников, в бригаду Жданова, это такой молодой человек. И еще была одна бригада Жданова, но не плотников, а сантехников. Я не хочу забегать, но могу только сказать, что этот Жданов – племянник сталинского Жданова. Я с ним потом в Магадане еще встречусь, как прораб, ведущий работу в телетеатре на площади в Сеймчане, я с ним там встречусь уже как вольный. Ну, это я потом могу рассказать.
Я начал плотничать, топором, сперва плохо, потом свыкся, начал хорошо работать, и там нас было, наверное, двадцать три или двадцать пять человек. Прошёл месяц, второй, третий. Кто-то получает двадцать три рубля, я не помню, сколько; не помню до сих пор, какая была стоимость денег. До сих пор вот не помню! Я ему говорю: «Что это ты (я не помню, как его звали), в чём дело, почему людям выписывают какие-то деньги, а мне – никаких?» Он мне что-то сказал, что вот так, туда, сюда... Ну, а тут набирают учиться каменщиками, закладывать первый пятидесятисемиквартирный дом на углу улицы Сталина и Колымского шоссе, ближе к резиденции Павлова, резиденции генерал-губернатора Колымы. Набирают людей, учат. М
ы работаем, и в ночную работаем иногда, а утром учимся работать каменщиком, теоретически. Тогда действительно дошло до того, что надо же, кроме пайки, купить еще какой-то кусок масла или чего-то другого, в Магадане это было тогда всё возможно. А у него все дела вёл Шепилов или Шемилов, довольно колоритная личность. Это иркутянин, учился в архитектурном институте, на третьем курсе был взят в работники органов. Может не совсем так, но что-то в этом духе. И он вёл у него все наряды, всё и вся. Когда я, настаивая таким образом, обратился к Усатову, прорабу, там два было – один прораб – Кравцов, с которым я потом в тайге тоже встретился, и Усатов. Я прихожу и говорю ему: «Гражданин прораб, вот я работаю, как все, а мне говорят, что я не выполняю нормы.» Он говорит: «Как это?» – «Ну норма – как резина, захочешь – вытянешь её, захочешь – стянешь». И вот бригадир сказал мне: «Я тебе отправлю в тайгу». А я уже понял, что тайга – это самое страшное, что может быть, хуже прииска. И вот однажды я работаю ночью, выхожу – это уже, наверное, был май месяц, не помню точно, сижу под палаткой, – где-то даже у вас этот фрагмент записан? – и не спится мне. Развод уже прошёл, абсолютно все спят. И вот идёт начальник лагеря Комулёв и подходит ко мне и спрашивает: «Что вы тут делаете? Почему не на работе?» Я встал – я ж сидел на корточках – и говорю, что я пришёл с ночной. Он говорит, что спать надо идти. Я ему говорю: «Гражданин полковник, гражданин начальник, мне к вам можно обратиться с вопросом?» – «Да». – «Вот так и так, я работаю в бригаде, причины я не хочу вам говорить, работаю довольно хорошо, а бригадир хочет меня направить в тайгу за то, что я пожаловался, что он мне не платит мою зарплату». – «Как фамилия?» Я говорю: «Гершенгорен». – «Хорошо».
Действительно, нарядчик пришёл и сказал мне: «Не волнуйся, всё будет хорошо».
Да, почему я работал в ночную, потому что мы копали фундамент на глубине до семи метров, с перекидками, под фундамент этого дома. Это был первый пятиэтажный, пятидесятисемиквартирный дом в Магадане. Это был великий эксперимент и почёт для строителей, для Колымгражданстроя, и для всех и вся. Потому что первый домик кирпичный уже был построен около реки Магаданки – почта, но он начал разваливаться. Пробурили шахты, поставили там охладительные агрегаты, и они работали день и ночь ради того, чтобы только этот домик не развалился. Поэтому было очень престижно. Да, я должен сказать, когда однажды я кострил на этой площадке грунт, ночью, ко мне подошли два человека. Один, значит, в плащёвой накидке, второй я не помню в чём. Видно было, что это начальник; и начал меня тоже расспрашивать, что я тут делаю, откуда, что. Понимаю, что начальник, хотя ночь, не видно. Оказалось, что это был комиссар 1-го ранга Павлов, который вышел со своего генерал-губернаторского домика с охраной. Это мне потом сказали. А для меня, понимаете, был что комиссар, что тот, кем был я. Тем более что потом была у меня такая пословица: большой начальник на прямой дороге – потому что завтра неизвестно, где этот начальник будет – надо мной или со мной рядом.
А потом нас сняли с этой работы, и мы начали строить санпропускник, такой фундаментальный, но там уже была такая книжка с чертежами; были еще в деталях чертежи, большие, но основное была американская военная книжка для строительства санпропускников для армейских бараков. Ну, мы плотники, щепу имеем, рядом живут в таких домиках щитовых колонисты. Потом оказалось, сначала жили только колонисты без жён и только жены без мужей, потому что мужей забрали и загнали; теперь им разрешили привезти семьи с детьми, и они жили как вольнонаёмные, только они не имели права уезжать и не имели льгот Дальстроевских, северных. Ну, я тоже набирал охапку щепы, и там была одна женщина, которая за неё давала рубль, или не давала, но что-то платила, на хлеб, дополнительный хлеб купить. Но я запомнил два момента. Однажды вечерком подошёл парень ко мне и просит, чтобы я донёс ему охапку или две дров. Получается щепа такая толстая. Стал говорить, показал какой-то барак. Я взял довольно большую охапку, донёс, он говорит, пожалуйста, ещё и вторую тоже. А я вижу – тут молодые девочки, и этот парень, видно, они имеют там еще комнаты, – мои ровесники, закончили, наверное, техникумы, и их прислали сюда. Я говорю: «Хотите, я вам принесу, но деньги я у вас не возьму». Почему, спрашивают. «Мне стыдно брать у вас эти деньги». Это был один случай, а второй случай – одна женщина пришла к нам, там тоже барак, как назвали потом – ИТР; комната, всё очень убого, и всё отопление попадает в зависимость от строительства. У неё надо врезать английский замок. Я говорю: «Хорошо, пожалуйста». Я смотрю, в углу, на высоте полутора метров такая полочка, и стоит статуэтка Ленина. «Вы позвольте, что это такое?» Она на меня смотрит: «Как же, это Ленин!» Я говорю, что понимаю, что это Ленин, но почему это в таком углу, как будто это образ! А потом оказалось, что это была жена одного из северных лётчиков. Тоже она дала мне рубль, я не помню, но понимаете меня, я всё осваивал советскую жизнь.
Да, что сделал этот бригадир. Там, на 10-м ОЛПе, были две вахты, нижняя и верхняя. Верхняя ближе к морю, а нижняя – туда, на Пролетарской улицы, по реке Магаданке, и почему-то иногда водили с верхней, а иногда – с нижней. Я как-то купил, по-моему, конфет, кто-то мне принёс и дал денег, может быть, эта женщина – жена колониста. И вот мы подходим к вахте, бригадир подходит и говорит начальнику караула вахты: «Вот этого отведите в изолятор, он пошёл и купил конфет». Он хотел меня сдать. Подходит конвой наш и говорит: «А ну, не трогайте вы его, пропустите его без этих конфет в зону, он не выходил из зоны, и он очень дисциплинированный», – про меня. Тут я понял, что дело пахнет тайгой. А позже его взяли, и говорят, что он потом сам себе на левой руке отпилил пальцы, только чтобы не попасть в тайгу. Ну, так это или не так, я не знаю.
Ну вот, построили мы этот санпропускник, и нас перевели строить столовую. Очень интересное такое здание, шатровое, сверху до самой земли одна крыша шла. А внутри – большой зал, кухня, боковые комнаты. Пришёл новый молодой прораб Уваров, вольнонаёмный. Пришёл, уже одетый полублатным, уже сапоги, немного вывернутые голенища, рубашка выпущена ниже телогрейки, все очень красиво, приятный такой человек. Моё ж дело кантовать, ровно рубить.
Было еще два момента. Около нас проходил очень интеллигентный, видно, большой чиновник, одетый прекрасно в пальто-бостон, с аксамитным воротничком, и с мальчиком иногда он ходил. Мимо нас видно ходил он на работу, а вечерком – с работы. И очень часто останавливался он смотреть. Я говорю: «Ребята, мне надоела его остановка. Хотите, я вам покажу номер, что он будет нас обходить». Они говорят: «Ты что, нельзя ругать, это, наверное, какой-то большой начальник.» Действительно, он, наверное, был какой-то начальник главка. Вот раз он подходит, остановился и смотрит. Я, значит, топор к бревну, я говорю: «Вы что, удивляетесь, что я еврей, это у меня написано на лице, плотничаю?» Он говорит: «Да». – «Вы знаете, – говорю, – я не советский еврей». Я ему только сказал, что не советский еврей, тот ушёл. Это было хамство с моей стороны, некорректно. Но вот был такой момент. Я почему был злой, – еще один человек проходил около нас. Небольшой, видно, он был аптекарем, что ли. Мы его попросили, чтоб он нам купил буханку хлеба. Он отказался. Почему мы его попросили, а не этих мальчишек по 9-12 лет, которые ходили тоже около, там недалеко была школа. Мы им давали деньги, они забирали деньги и не приносили хлеб. Дети настолько обеспеченные, это же не материк, там же всё было, в магазинах было всё абсолютно. Он отказал, мне было обидно, но я не мог этого наказать и наказал того.
Ну, мы продолжали работать, и надо было начать кровельные работы этой шатровой столовой. Очень большое здание, человек на 200, наверное, или на сколько, такое большое. Это на улице Сталина, оно должно было быть престижным, тем более что оно было между пятидесятисемиквартирным домом кирпичным и резиденцией генерал-губернатора. И вот однажды, – там уже начал работать кровельщик, мы его знали, потому что мы иногда просили у него олифовое масло. Мы брали горсть соли, добавляли в олифовое масло и грели на костёр, добавки выпаривались, а жидкое масло оставалось, и мы считали это сливками, жиров-то никаких не было, всё у этих каптермейстеров уходило бог знает куда. И вот однажды Уваров подходит ко мне и говорит: «Марик, хочешь учиться на кровельщика? Я говорю: «Пожалуйста, с очень большим удовольствием!» У него был подмастерье, воришка какой-то. «Подойдёт тебе этот человек?» Тот говорит: «Да, я с удовольствием его возьму». Как только Уваров ушёл, он мне говорит: «При одном условии я тебя возьму: через день, через два дня флакон спирта мне в домик носи». Откуда он брал спирт? Он был бытовик (видимо, рассказывается, как он что-то воровал на стройке, обкручивал себя под телогрейкой, выносил за зону и продавал), потому что эти колонисты, кто освобождались, строили себе американские трущобы. Ну вот, так я ему понёс раз, два, он начал показывать, как олифить сперва, потом загибы, всё шло хорошо. Только вот однажды, перед тем, как войти в зону, по порядку пять человек выстроилось, чтобы обыскали – утром обыск и вечером обыск. Это кроме того, что в зоне обыски ночью, когда идёт шмон. Так что мы бы не пропали нигде, нас хранили, как сердце. И он наткнулся, что у меня вот здесь, сзади, внутри, флакон спирта. «Выходи», – это не конвойный, а на вахте, вахтёр. Но, на моё счастье, как говорится, «счастье – всё», – выходит с вахты такой здоровый начальник вахты Мазур. Красивый такой, здоровый, и мне говорит: «Марик, ты что? Чего тебя на вахту берут?» А тот говорит: «Там, потом разберётесь, есть за что». Он заходит потом на вахту, меня прямо на вахту завели, и спрашивает, в чём дело. Я ему рассказываю всё – как прораб мне предложил быть кровельщиком. Говорит: «Это не первый раз?» Я говорю: «Ну, наверное, не первый раз». – «Кому ты отдаёшь там?» – «Как, говорю, кому отдаю? Фёдорову». – «Так ты ему отдаёшь, другому никому не отдаёшь спирт? Только ему?» – «Да». – «Ну, тогда иди». Оказалось потом, что пьют спирт этот комендант вахты, Фёдоров, Аркадий Смирнов – наш ротный и портной – он заключённый, но обшивает контору Колымгражданстроя, такой румынский еврей Фельдман, очень тоже красивый. Ну вот они, так сказать, и пользовали это добро, и меня таким образом реабилитировали.
Ну всё же, когда убрали этого бригадира, стал другой бригадир, я начал получать 23, я не помню, 22 рубля в месяц. А нас в бригаде было три комсомольца. Я, был такой Лёня Димитриев, отца у него не было, мать взяла трёх сыновей и уехала на Камчатку, она дальневосточница; Лёня этот, Леонид Александрович, и один дальневосточник, техник-дракёр Трусов Виктор. И вот была у нас такая коммуна – каждый день надо было просить конвой, чтобы разрешили пойти в магазин купить буханку хлеба.
И вот в один день выпала мне судьба пойти купить буханку хлеба. Я подошёл к конвою, конвоир был к нам очень, так сказать, расположен, потому он был влюблён в одну из этих женщин; в конце он ушёл из конвоя и женился на ней. Они вместе проходили потом тройку, она бытовичка была. И я спустился ближе к Пятому магазину, – в Магадане было уже пять магазинов, таких престижных, – зашёл в магазин, хлеб есть, пеклеванный, такой не чёрный и не белый, такой хлеб хороший. И мы всегда делили этот хлеб, масло брали, это у нас было почти каждый день. Я подхожу к кассе, подходит ко мне женщина – а мне женщины просто всегда приносили счастье – и говорит: «Уходите, идёт облава». Я так посмотрел – людей немного, никого нету, стал около кассы. Подходит ко мне человек в брезентовом плаще с капюшоном, говорит: «Ваши документы». Что мне сказать? – «У меня документы есть, но я только пришёл купить буханку хлеба». – «Пойдёмте». И меня отвели во второе отделение милиции, там уже милиция имела два отделения. Они делают облаву на людей, которые уволились со стройки, на воров, которые уволились, и потом всех зараз – по-польски это называется «лопанки», как это любили при Гитлере. Сразу что? В телогрейке у меня есть бритва. Они мне делают допрос, какой бригады, какая статья, и меня сразу на пересылку. Почему так часто были эти облавы, – потому что готовилась так называемая рабочая экспедиция на Пёструю Дресву, там хотели освоить, видно, бухту и прилегающие геологические ископаемые, а там, как нам сказали, только раз в год может пароход близко подойти к берегу, такое там бурное Охотское море.
И действительно, мы уже видели, с пересылки, снова какая-то зона, метров шесть – двойные проволоки, двойные нары, и там, значит, набивают людей. А меня поселили в палатку без крыши и без нар, потому что там был в главенстве какой-то блатной, который топил, жёг ночью нары. Там я был суток двое.
* * *
Это был 39-й или 40-й год, около Парка культуры и отдыха так называемого, начали строить транзитный городок для новоприбывших вольнонаёмных. Это были такие бараки небольшие, с сепаратками (купе), как вагонная система, и в каждом купе было четыре места для отдыха. Что меня вообще поразило в строительстве этого городка, – как кто-то принёс газеты, где было написано, что Магаданская партийная организация вместе с комсомольской организацией, помимо их основных производственных занятий, начали строить транзитный городок для новоприбывших дальстроевцев. А я настолько всю жизнь был наивным и никак не мог понять: неужели мы теперь члены партии или комсомольцы? Ну никак это мне не входило в мой ум, и только некоторые женщины начали мне объяснять этот текст, – те, которые с нами работали на стройке, – начали меня обучать политграмоте. Они все находились в женском лагере, и часть их работала по всему городу как уборщицы, дневальные, по ресторанам, кафе. Это был блатной мир среди женщин, а 58-я – они тоже ходили на работу на стройках.
Вся территория строительства была оцеплена конвоем и проволокой, все эти партийцы и комсомольцы не могли сперва приступить к этой стройке. Но они потом, наверное, доложили по своим каналам, что они закончили, выполнили сталинское, тьфу, партийное поручение. Поскольку это было сравнительно недалеко от 10-го ОЛПа Б <отдельный лагпункт. – прим. ред.>, то некоторые бригады ходили на обед прямо в ОЛП, а некоторые оставались на стройплощадке. Что на меня нашло, я не знаю, – я отказался идти на обед в лагерь. И, слово за слово, не забуду этого охранника, была фамилия, по-моему, Доктор, он был якут или что-то в этом духе, он говорит – пойдёшь, я говорю – нет, не пойду. Пойдёшь – нет, не пойду. Он скинул с плеча, взял на перевес винтовку, приклад – к плечу, а я ему: «Ну, сволочь, стреляй!». И в эту секунду на пролётке заехал главный инженер Колымгражданстроя и увидел винтовку в руках солдата и этим, понятно, меня спас. Тот при инженере не стал стрелять, дал выстрел в воздух, сразу прибежало несколько человек, и меня тут же повели в бригаду по стройке. Завели в какой-то домик; небольшая комната, типа следственного... к следователю или прокурору. Да, а позже всех прибежал и наш ротный командир, командир спецроты, Аркадий Смирнов. Но пока охрана стояла на улице, этот Аркаша зашёл со мной в эту комнату, он пошёл к этому человеку, а я сел на стул и проспал пять часов. У меня нерв какой-то был такой. Снова пришёл Аркаша и мне вынесли решение: не стали меня судить за сопротивление власти, а дали две недели изолятора. Там у нас было два изолятора. Один был почти что в зоне военного городка, там стояли (домики) чуть больше собачьих будок, и туда нас загоняли, и мы только смотрели через окошко. Но недели не прошло, как нас повели к начальнику лагеря, меня и еще кого-то, из другого изолятора, более престижного. Дали новое обмундирование, телогрейку новую, и сказали: «Вы направляетесь в УДС (Управление дорожного строительства) и будете на участке с 23-го по 47-й километр чистить кюветы для прохождения, – а, это было к весне, – для прохождения талых вод».
В Магадане, когда мы выполняли норму – когда не выполняли норму, нам давали баланду и триста грамм хлеба в день, – были специальные такие талоны, а мы эти талоны брали, вывешивали над нашей стройкой, чтобы все видели, что мы штрафники. А там нас кормили – это был 39-й год – лапша на первое, лапша на второе. Но это было бы ничего, но хлеба не давали. Лапша была из ржаной муки на первое, и на второе была ржаная лапша, такой сгусток.
Мы сперва чистили дорогу, кювет около 23-го километра, а там была такая инвалидная зона, где находились, в основном, люди-обрубки, отморозившие ноги и руки. Их не кормили как инвалидов. У кого только руки, а ног нет, их заставляли, поднимая этими обрубками, приносить охапки дров в зону, под конвоем. Жуткое было дело.
А потом нас перевели еще на 47-й километр, где сейчас, по-моему, очень большой аэродром. Мы строили служебные помещения там, потом. Мы общались с дорожниками, они сказали, что это не их обыкновенный быт. Мы же были как магаданцы. Когда мы были на лёгких работах, когда рыли котлованы, там мы планы не выполняли, а в работах режимных мы всегда получали сравнительно приличную еду. А они сказали, что у них такая норма. Всего неделю я там проработал, это было везение.
Когда мы достроили этот городок, недалеко от этого места, напротив дороги, закладывали новую городскую больницу. Кирпичную, для вольнонаёмных, для, так сказать, благородных людей. Наша работа сначала была простая – сараи для материалов, будки. Ну, позже всё-таки нам дали работу: тачками перевозить, земляные работы делать.
В бригаде плотников Магадана, среди тех сибирских плотников был плотник Алексеев. Для меня это был уже пожилой человек, которому немного не повезло: во время работы, когда мы настилали полы в одном из помещений, не знаю, в каком, доски были мёрзлые, а он забивал гвозди для закрепления половых досок. Гвоздь отскочил обратно от удара молотка и попал ему в правый глаз. И глаз выбило. Прошёл, наверное, год или два, и мы с ним снова встретились. Он уже был вольнонаёмным на Усть-Нере, в аэропорту работал. Вызвал к себе свою жену, дочь и двух сыновей. А жена его была очень чудная женщина, маленькая, очень хорошая. Когда она начала людям рассказывать, как (жили )в деревне или посёлке портовом, где взяли её мужа, Алексеева, все люди плакали навзрыд. Просто не давали им куска хлеба заработать. А тут она, уже на Усть-Нере, имела своё, сын один уже женился, и они начали жить по-людски. Но он был еще не реабилитированный. И как-то, когда он приехал на Усть-Неру в контору, нет, на Бурустах к нам в контору, и Ната ему говорит: «Товарищ Алексеев, давайте я вам напишу жалобу, и, наверное, вас тоже реабилитируют». Это было где-то весной, а месяца через два-три кто-то заходит в контору – жена работала в дорожной конторе – и говорит: «Ната, иди посмотри, какой-то дядька с мешком около вашего домика ждёт и мы не знаем, что ему надо. Ната выходит, смотрит, действительно, сидит Алексеев, их ждёт, у него мешок яблок. Оказывается, что он получил реабилитацию и тогда он только почувствовал себя человеком. Потому что, даже когда его освободили и он работал, зарабатывал деньги, семья была, а всё равно это пятно контрика висело на нём. А теперь он тоже друг народа, порядочным человеком стал.
Поработать на строительстве городской больницы мне не пришлось. Нашу бригаду перебросили в Марчекан, это недалеко от бухты Нагаева, тоже в бухте Нагаева, где ремонтировали пароходы, туда на строительство погранзаставы.
Когда освободили Западную Украину, я думал, что пересмотрят моё дело, я написал жалобу, но она где-то лежала. Но надо сказать, что всякие политические наши победы отражались на нас. Нам установили шестнадцатичасовой рабочий день. Правда, два раза кормили – кормили в обед и часов в шесть снова. Вообще-то это интересная проблема – питания в Магадане. Сравнить с тем, что потом я ел на первое и на второе ржаную лапшу – суп из лапши и на второе – лапшу, то там была система – четыре категории, первая, вторая, третья и четвёртая. Четвёртая была самая из них нищенская, штрафная. Третья была за невыполнение плана. Вторая была – сто процентов, а первая – для ударников.
Кстати, в отношении стукачей. Тогда комплекса, так сказать, страха за слово не было. Но у нас на Бурустахе был такой случай: прораб брал доходяг, их подкармливал, а потом всех сдавал в солдаты. И дошло до того, что там был уже наш родимый процесс. И там очень много знакомых проходили по этому процессу. Был такой Вайнштейн, нет, Вайнтрейб, который был бухгалтером на каком-то прорабстве. Он и умер во время следствия. Был Березняк, потом он был прорабом, с Днепропетровска, умница вообще-то человек, очень грамотный. Многие там были. И больше того, что когда... да, надо вот рассказать интересный номер: что когда Еврейский антифашистский комитет поехал в Америку, то американцы прислали для бедных россиян очень много одежды. И эта одежда попала в Адыгалах, в наше управление, где её делило между собой начальство. Нашему начальнику управления попала куртка кожаная, на молнии, но там какая-то была (неисправная) деталь, он мне её носил, чтобы я сделал, чтобы она могла работать нормально. Но это уже было, наверное, после войны. А в Адыгалахе все дамы дрались между собой за лучшее платье, ночную рубашку, вот такое дело. В это время пришло очень много американских одеял. Я даже когда освободился, то из американского одеяла себе пошил куртку, я в ней на первых фотографиях, в этой куртке не было пуговиц. Карманы такие накладные, и всё.
Хочу сказать, что тогда был не рэкет, а коррупция. Этот прораб держал двух сапожников – а нам выдавали американские военные ботинки – жёлтые боксовые ботинки на двойной кожаной подошве. Ну, кому попадало, кому нет. И вот они партиями, видимо, продавали это хозяйство, а эти сапожники делали туфли женские и где-то продавали. Он не мог бы это делать, не будучи связан с начальником ОЛПа. Я начальника ОЛПа очень уважал, но был вот такой внутренний рэкет. Так что рэкет – это не новость. Всегда обидно было, потому что у меня была пословица такая в лагере, что если человек отработал месяц в снабжении, его вешать и не спрашивать, за что. Если поработал в снабжении – смело вешать, потому что кого-то ограбил, кому-то не додал пайку хлеба.
(...)
Я забыл сказать, что, по-моему, в 43-м году, когда мы были на Бурустахе, приехал представитель Штатов Америки, и Дальстрой должен был ему показать... это было, по-моему, перед подписанием ленд-лиза, или не знаю, когда. Уэльс, или как его звали (Генри Э. Уоллес – прим. ред.). И Дальстрой, Колыма его приняли и показали: во-первых, в Магадане один из магазинов, не в тот №5, в котором я попался, а другой, по-моему, номером 1, – это был длинный такой магазин, широкий. Там были в магазине тонны советских продуктов. Этот представитель (Уоллес – прим. ред.) зашёл в магазин, и при нём это всё было; значит, всё у нас с продуктами хорошо. Только там был один казус – люди в него могли свободно зайти, – во время войны, когда были пайки! – и набрать любые продукты, рассчитаться и уйти. Но человек заходил в одни двери, набирал продуктов, а потом выходил во вторые двери, и там у него всё это отбирали.
Во-вторых, по трассе спилили все вышки, аж до Бурустаха. Дальше, наверное, тоже. Или до Сусумана, я не помню, но на трассу не выставляли людей. И там трое суток не снимали в бутары золото. И когда Уоллеса подводили к бутарам, и он видел, сколько там золота, то он чуть за голову не хватался. Он знал, что в Клондайке золото, но чтобы столько?! И что есть, оказывается, чем торговать, в Советском Союзе торговать есть чем, есть чем рассчитываться. И был такой слух – что на одном прииске около бутары работали рабочие, там был бригадир какой-то. Он подошёл к рабочим и начал через переводчика спрашивать, сколько зарабатываете. И бригадир, говорят, бывший капитан НКВД, дал отмашку перевернуть (...), тут такой аврал, Уоллес туда тоже подошёл, поздоровался с этим бригадиром, – а, когда он здоровался с рабочими, он каждому щупал – как эти места называются по-русски, на руке? Он был, видно, сведущий человек и понимал, что то, о чём говорили, – что это заключённые, оно так и есть.
Я там проработал до дня освобождения. До 12 февраля 1947 года на Бурустахе,. И, кстати, в Адыгалах надо было 300 километров поехать, в управление лагеря, где меня должны были освободить, и вместе в машине – уже были морозы большие, печка была там – и Елена Кадер (?) тоже ехала в Адыгалах. Человека три-четыре в кузове брезентовом. У меня есть фотография, где я после освобождения, с трубкой. Но выезда я не имел, и мне пришлось вернуться обратно на Бурустах. И тогда уже начинается... и у нас началась потихоньку переписка с Натой. Надо сказать, что Моисей Исаакович Шапиро раньше освободился и он написал какое-то письмо домой, что здесь какой-то мальчик, он так одинок, он раньше освободился, он освободился в 46-м году, с 1938-го у него было восемь лет.
В 45-м или 46-м году было большое наводнение. А почему-то всех хоронили близко от воды, не около трассы, а ближе к реке Нере. А река Нера – это очень широкая река, метров, наверное, сто. Она не длинная, километров, наверное, 120-130. Там такая система – когда две речки сходятся, попадают в третью, то третья уже называется по-иному. И там в 46-м году воду начала подмывать берега, и по реке начали плыть гробы с людьми. Это было где-нибудь, наверное, в июне месяце, когда эта оттайка идёт. Весна начинается там 22 июня. Там создавали бригады, и вот этот Моисей Исаакович Шапиро, еще будучи заключённым, они баграми ловили гробы и потом их перезахоранивали. И так на каждом прорабстве. Мы с ним переписывались, а потом он в 49-м году получил дополнительный срок. Он когда вернулся на материк, – до 47 года разрешали выезд, людей еще освобождали из лагерей, а потом, к концу 47 года, кто закончил срок, тех людей не освобождали вообще.
- Что, они добавки давали?
- Нет, не давали ничего, просто не освобождали. Даже не знаю, до какого времени так было. Там у нас были очень многие хорошие ребята, знакомые, с Харбина, которые тоже должны были освободиться, но их не освободили. Он вернулся, но права жить в Москве он не имел, жил на 101-м километре, сперва в Александрове, есть такой город между Москвой и Ярославлем. Потом он устроился экономистом под Владимиром на конезаводе. Ему помог знакомый устроиться, потому что дядька Наты со стороны матери, такой Миша Могилёвский, – он был как бы адъютантом по лошадям у Будённого. Он во время войны был даже в ранге подполковника. Он был еще в Красной Армии, семнадцатилетним мальчиком он убежал в Красную Армию. Во время войны он в Краснодаре был одно время директором ипподрома. А потом он был здесь, в Москве, когда война кончилась. Видимо, поэтому отца Наты, Шапиро Моисея Исааковича, который был со мной Колыме, экономистом на конезаводе устроил он. И вот, в 49-м году, когда пошла вторая волна (арестов - прим. ред.), его где-то летом, в жаркий день вызвали в контору, в трест коннозаводский. Он взял документы и пошёл туда. Там старший экономист говорит: «Вы оставьте, зайдите в 3-й кабинет, там есть какие-то вопросы к вам». Он туда вошёл, оттуда его в Бутырскую тюрьму, там он просидел почти полгода, они держали его всю зиму, а потом его сослали в Красноярский край, в (...) район на вечное поселение, в вечную ссылку. Я когда освободился, он мне написал письмо, и я каждый месяц от своей зарплаты, ну, не каждый месяц, я пересылал ему тысячу рублей. Там же надо было работать, там пайки-то не выдавали.
- А вы уже работали?
- Где? Я, когда освободился, работал и получал зарплату, понятно. Я сперва инструментальщиком, потом работал мотористом, и так до 51-го года. А в 51-м году там такое дело было: набирали на курсы подрывников. Приехал начальник отдела кадров, Димитриев был начальником участка. Я пришёл, тоже написал заявление. Он говорит: «Нет, – а я уже был вольным. – Нет, вы, так сказать, шпион». Я очень с ним ругался. А он выхватил пистолет, почти до драки дошло. Кто написал в эту газетку про него, что он так себя вёл, это же был 49-й год, я еще был никто, он имел право меня убить. А в 1951 году меня послали на курсы десятников в Адыгалах.
Да, ты мне задавала вопрос, откуда я знаю Фимы Шифрина отца. Детально я не помню, только знаю, что он был на... а больница у нас, нашего участка, была на Андыгычане, который был через реку Андыгычан, там прииск Анка, и на отдельном участке была больница. Он там лежал. Был на Эльгене где-то. Только знаю, что, когда он был на Озёрном, вот там, где я научился делать напильники, там был начальником лагеря такой Малаховский. Его жена была каптёр, а счетоводом был отец Фимы. Что там у них получилось, я не знаю, я так понял, что тётка эта, Малаховская хотела какие-то продукты списать на заключённых, короче, Малаховский снял его с работы. Я ему послал консервы и хлеб. Потом мы встретились в Адыгалахе. Он уже был вольный, он работал в Колымснабе, и к нему в это время уже приехала Рая в Адыгалах, они переписывались. Нас двое поехало туда с нашего участка – я, Лилиенталь Джек Абрамович (?), – это американец, который как коммунист приехал в Советский Союз, он учился – был такой институт народов Востока. Вообще-то у него был язык испанский или португальский, он должен был потом туда поехать. Но его посадили. Ну, там еще были ребята. Мы там проучились три месяца и получили дипломы старшего мастера, инструментальщика. И каждое воскресенье у них собирались, человек восемь. Да, она (Рая) привезла письмо (...) И вот эти восемь человек, там даже был такой – он уже покойный, он жил в Нью-Джерси, умер недавно, в феврале месяце, он был такой пройдоха, Миша Адлер. Мы его тоже видели в Нью-Джерси. Он был тогда еще заключённый. И мы так сидели – у нас было пол-литра спирта на восемь человек, а когда уходили – была целая бутылка спирта, так много мы пили. Но там же была система проверок – зашел какой-то сморчок и спрашивает: «Адлера тут у вас не было?» Он поднимается: «А, вы Мишу Адлера ищете? Он был, но ушёл на вахту». У него тоже интересная такая судьба.
Ну, на этом, думаю, надо заканчивать. Я остался, вернулся на посёлок, работал старшим, и потом уже каждое лето мы обратно, начиная от Озёрного, до Озёрного уже была дорога по всем правилам сделана, оптимальной смесью, с надолбами, капитальную уже дорогу строили.
- У меня вопрос. Вот, значит, вы получили одно письмо от брата? А позже его не слышали?
- Он потом уехал, и в Германии он встретил второго брата, который, когда его сняли с армии, работал где-то под Красноярском на каком-то алюминиевом заводе. Я считаю, что он там и потерял зрение. Он был бригадиром по ремонту печей, в которых плавили алюминий. И он мне сам сказал, что однажды он сам залез в шубе, в чем я не знаю, и было очень жарко в этой печи. Печь должна иметь охлаждение какое-нибудь – две недели, пять недель, я это не понимаю. И я думаю, что это повлияло на его зрение. У него тоже были проблемы в 49-м году, он тоже не имел права выезда, он оттуда, из Сибири, сбежал, доехал до Бреста. И оттуда он, как польский гражданин, уехал в Польшу, а оттуда уже уехал в Германию. И он там брата встретил – там был такой лагерь, и они оба оттуда уехали в (...).
- Они не хотели ваш адрес выяснить?
- Я, даже когда освободили Польшу, нет, Западную Украину в 1939 году, я не написал письмо домой. Они бы мне ничем не помогли бы, потому что, когда потом я написал жалобу, что, мол, проверьте, я за собой ничего не чувствовал, теперь же вы можете проверить! Я даже ответа не получил. А потом, когда война началась, мы вообще уже ничего не знали, куда писать, что писать. А после войны я его поймал, когда он уже был – он мне написал, куда писать, и те люди будут знать, где он находится. Я написал, не помню, получил я ответ или нет, но я потом почти связался с сестрой, с сёстрами. Она была в Израиле, в Палестине. Это до 49-го года, наверное, было. Да, 48-й, наверное, был. Еще не было Израиля. Я помнил адрес тель-авивской сестры. По-моему, она уже была замужем, и я помнил фамилию мужа, помнил адрес и номер дома в Тель-Авиве. Я написал Нате, и Ната туда написала письмо. И письмо шло – на идиш – пол года. И я уже на Бурустахе получил письмо. вот видите, я сейчас ничего не смотрю, и тогда всё помнил.
- А сестра Ваша, когда она уехала?
- Она уехала в 33-ем году – старшая, которая сейчас живёт в Тель-Авиве в этом же доме, – Тель-Авив, Менделе 14. А вторая уехала в 55-ом. Второй, к сожалению, уже нет. Вот у нее старшая дочь кончила университет Иерусалимский, историк, она вышла замуж за американца, очень порядочный человек, он преподаёт и в гимназии, преподавал при нас, когда мы там были, и в институте или как он там называется. И он получал почему-то зарплату в гимназии больше, чем в институте. С этими, как сказать, оболтусами тяжелее работать. У них двое детей. Племянник со стороны младшей сестры тоже там. Я его видел, когда в апреле месяце мы были в Израиле, он тоже приехал, мы были на сейдере, справляли Пасху вместе.
Так я никуда и не уехал. Но, признаться, я бы в Штатах и не остался.
- А почему?
- Мне в тягость все эти деньги. Я, когда работал, был влюблён в работу, как в женщину. Я работу любил, как не знаю что.
- А в 47-м, когда вы узнали, что вы свободный человек?
- Какая свобода, я не имел права выезда. Я в 47-м году, в ноябре месяце, подал заявление, – чтобы человек поехал в отпуск с Колымы, надо было иметь разрешение от НКВД. Вольные должны были иметь, уволиться, можно было только через Москву. Вот такая была система на Колыме. Я написал заявление, чтобы мне только разрешили поехать в отпуск, еще не на совсем. И я получил ответ, что вам предоставление отпуска из специального района страны невозможно, поскольку на это нет разрешения, санкции Министерства госбезопасности. И мне отказали. Но мне везёт. В это время, как я уже рассказал, Елена Кадер (?) подарила (...). А у неё уже был свой домик на Бурустахе, – это была кухня, большая комната и из курятника – бывшие хозяева имели там кур – мы сделали такую маленькую комнатку – койка, маленький столик, было всего одно окошко со ставнями, больше ничего там не было. И когда она стала в положении (на большом сроке), она начала слепнуть. Её нужно было госпитализировать срочно. Её сразу отправили на прииск «Победа», там была больница уже более или менее. Оттуда её отправили на Усть-Неру, в Индигирское управление, там была большая больница, и оттуда самолётом – в Магадан. Туда, где мы начали прокладывать трассу, где Лёня Димитров встретил своего брата. Там была фундаментальная больница, большая, городская или вообще областная больница. И она на восьмой месяц родила сына. Его положили в инкубатор. Там был такой педиатр, профессор Климов (?), он за ним смотрел. Когда стало девять месяцев, надо было ребёнка выписать, надо его вывезти. Он только приехал недавно с материка, еще, перед тем как поехать, получил в здании на бульваре, там было управление Дальстроя, где сейчас шахматный клуб, он там взял аванс. Не было денег, а чтобы вывезти ребёнка, надо еще иметь сестру, ребёнок-то только еще месячный. И не помню кто, то ли я, то ли кто-то из приятелей предложил, и вот мы сделаем номер: давайте мы зайдём к начальнику нашему, Любарскому, пусть он позвонит Кондакову, полковнику, начальнику дороги, чтобы разрешили мне сопровождать его жену, Фаину Исаевну. И нам разрешили – он дал команду в отдел кадров, чтобы мне дали две недели отпуска. Начальник – тоже герой, почему – потом тебе расскажу. Но всё-таки отдел кадров местный, такой Мячковский, сказал, что надо ехать на Усть-Неру, где райотдел МГБ, и там был такой майор С. Ну, я написал заявление, оно у меня есть, если захочешь, потом как-нибудь снимешь. Поехал туда, на Усть-Неру. Захожу – я там уже бывал с этим человеком, который сейчас живёт в Нью-Джерси. Народа почти нету, стучусь, захожу – а там сидит полковник, а не майор С. «В чём дело?» Я ему даю моё заявление, что прошу разрешения выехать. Он это прочитал и говорит: «Я не знаю, что вы просите». Я встал в тупик – ну что я могу ему сказать. Я говорю: «Знаете что, на моё счастье, наш участковый КГБист здесь, у вас, в коридоре, он вам, наверное, скорее объяснит». Я подхожу к нему – Марчаковский у нас был – и говорю, так и так. «Ну, - говорит, - давай пойдём». Ну, мы вместе с ним заходим, а тот говорит: «Ну, вы выйдете». Я вышел, он взял заявление, подаёт Марчаковскому и говорит: «Идите, напечатайте резолюцию, что мы разрешаем выехать на материк в отпуск». Он мне это сделал. Оказывается, за какое-то короткое время сменились все начальники райотделов КГБ по Колыме, по Дальстрою. В том числе сменили начальника отдела кадров Дальстроя Никисича, комиссара второго ранга, и стал Алексеев такой. Но это было уже после смерти Сталина, 53-й год, и мне дали разрешение. Я получил справку на отпуск, поехал в Адыгалах. У Зямы, у отца, Фимы еще не было, был только старший братик, Эль, мальчишка, ему был, наверное, год, у него были пшеничные волосы длинные, и он что-то кричал всегда. Я у них остановился, получил отпуск, деньги получил, и оттуда я поехал еще в Сусуман, там надо было еще получить разрешение на покупку авиабилета. Но там была семья, у него было 15 лет, его забрали на Аляскитовую, туда поехал этот человек... А я говорил, что тот отряд, который я проводил на (...), он однажды оказался у нас на посёлке. Ну, это много рассказывать, там был целые скандал на Аляскитовой, западники подняли восстание, такое небольшое, оттуда никто не выходил здоровым из шахты. Там добывали вольфрам, и эта пыль оседала в лёгких, и они все погибали. Я его узнал, и он меня узнал.
* * *
Дорогая Анна Афанасьевна, вот мы с вами заполнили анкеты, и многие моменты вы не знаете, даже не помните моменты его следствия, адрес и кто вел следствие, вы ничего этого не знаете. Я тоже не знаю, поскольку такие детали он мне не рассказывал. Но все-таки пройденный путь с ним, нашу встречу я бы хотел вам рассказать. Встреча наша была такая случайная. Это целая история. Но момент встречи был довольно странный, вернее, не странный, а закономерный. Это было на 8-ом Эмтегейском участке, когда мы закончили строительство дороги там. Восемь прорабств, и все колонны должны были бы пойти вперед. По каким-то обстоятельствам меня вызвали со всего отряда или подконвойной группы и вернули в зону. Костя, еще был Лапин, которого я помню, это были плотники, принадлежащие прорабу. Каждый прораб имел свой костяк. Он имел своих плотников, инструментальщика своего, и даже некоторых своих землекопов. Но я был чужак, я все-таки был такой полузаконный плотник, я четыре года проработал в Магадане плотником, кровельщиком выучился, каменщиком выучился, всю жизнь я учился. Ну что делать, такова судьба у меня сложилась, только это и спасло мою жизнь. И когда уже весь этап ушел вперед, остались только актированные люди, которые поддерживали дорогу. Наша миссия была – мы должны были строить дом для прораба, казармы для охраны, фундаментальную печь, баня была уже построена там. И мы сразу все вместе построили палатку семь на двадцать один, и Костя с Лапиным, ихнее звено, пошли строить прорабу дом. Я же и еще один выходец с Польши, Мороз, фамилия его была фактически Мруз, мы строили, наоборот, палаточку, такой небольшой барак для плотников. Но это было все в будущем.
И вот в один холодный вечер, мы первые пришли, поскольку мы строили в зоне, мы первые пришли в барак, – не в барак, а в палатку, – где стояли две железные печи для обогрева рабочих, которые должны были прийти, и поскольку мы сами плотники, я выбрал вторую печь, которая была подальше от дверей, и выбрал понятную вагонную систему, я прилег на верху. Закон блатного мира ведь такой: как только какой-то вор, или блатной в законе или не в законе, уходит в этап, или его уводят, то тут же появляется какое-то новое лицо, которое хочет все это возглавить. Это еще было, по-моему, до ужина, я лежал на верхних своих нарах на вагонке, а в это время мороз был сильный, градусов под 50, и вошла группа землекопов, которая принадлежала прорабу. Это была группа человек 7 или 10. В основном это были болгары, фамилия бригадира или звеньевого была Васильев. И как ни странно, но этот Васильев был как болгарин, сильный, здоровый, – он был в теле, – остальные были доходяги, поэтому их и оставили, чтобы они ремонтировали дорогу. И понятно, они пришли с мороза, вошли и облепили эту печку. Напротив меня, внизу, лежал полублатной парень и воскликнул: «А ну-ка уходите, сволочи, что вы тут делаете, видите, что вы мне загораживаете». А в этот день он вообще не работал, как блатной имел возможность. И те все раз и ушли, отошли, даже замороженные люди, обмороженные, ушли от печки. Я не выдержал, сел на нары и говорю: «Вы что делаете, мужики, вы что, обалдели что ли? Как это так можно делать? Вы пришли, работали как честные люди, что-то сотворили, а этот паразит лежит на нарах и вами командует». Этот блатной, не долго думая, встает, подходит ко мне, лицо на уровне с моим, и говорит: «А это кто тут такой разволновался? Этот жидок, что ли?» Ну что я мог ему ответить? Мне в жизни лагерной не везло никогда в отношении обуви. У меня был один ботинок польский, всегда с подковой и на каблуке, а другой английский, откуда-то взялся, я так и не знаю. Я долго не думая, прямо ногой его в лицо, соскочил и отлупил его и бросил на печку, а ему сказал, что если ты еще раз какого-нибудь мужика обидишь, будешь иметь дело со мной, а не с этими мужиками. Барак замер. Мы пошли на ужин. Потом вдруг приходит человек и приносит сверх утренней пайки ларьковый хлеб. Его было, наверное, 200 грамм. Но чтобы получить это хлеб, надо было заплатить, а у меня ни копейки денег не было. А Костя с Лапиным, это был звеньевой, они подальше лежали. Костя встал, принес мне какую-то капельку денег и говорит (...), и с этого момента пошла наша дружба.
Хотите знать, почему меня оставили? Я сказал, что меня оставили для эксплуатации дороги. Я был совсем чужим среди всех этих людей. Я был тогда уже магаданцем, там почти 4 года я отработал, оказался в Магадане случайно, может, как-нибудь и это расскажу. Сегодня я хочу рассказать, почему меня оставили на 8-м Эмтегейском участке. Когда под конец августа мы построили все мостики и трубы для прохождения вешних вод, и начали уже готовить поход всей массы рабочих на Верхнюю Индигирку, а потом на Оймякон для строительства аэродрома, со мной получилось такое несчастье, что я заболел желудком. Я работал, надо было. Мы все в зоне работали, в оцеплении. Подошел десятник и говорит: «Марик, – Марик тогда я был, – знаешь, что, мне тебя жалко. Ты не работай, я на тебя дам сведения полностью, вот в зоне кушай голубику, ну а потом я надеюсь, что ты отработаешь». Через два дня нашу всю бригаду перевели строить баню. Построили баню, был солнечный колымский августовский день, мы помылись, вышли из бани, легли немножко отдохнуть. В это время с так называемой поймы реки вышло два человека, молодая женщина с мужчиной. Мужчина потом оказался начальником санчасти или как он там назывался, а кто женщина эта такая, мы не знаем, и до сих пор фактически я не понимаю, кто она там была. Она подошла к нам и говорит: «Ребята, вы что тут делаете?» Бригадир Федак говорит, что мы построили баню, легли отдохнуть. «Как чудесно, какие вы молодцы». Бригадир говорит, что вот на днях этап весь пойдет вперёд, и поэтому мы вне очереди помылись, чтобы уйти хоть немножко чистыми. А она повернулась, посмотрела на меня и говорит: «А вы что, тоже пойдёте в этап?» – «Да». – «Как вы пойдете? Нет, вы не пойдете, вам нельзя». И все ребята переглянулись, думали, что это какая-то шутка, чтобы женщина могла решать проблему, пойдет человек в этап или нет. Через дней шесть-семь были целые события: не было хлеба, не было конвоя, не было бог знает чего, потом все организовалось, а жили мы все в зоне, спали по три человека и тремя одеяла накрывались, потому что начались заморозки. И ты к утру мог встать, а ни одного одеяла не было; кто-то другой их стащил и тут же на себя натянул эти одеяла. Это такая лагерная жизнь, надо было через это пройти. И, когда уже построились, конвой принял весь этап, а мы как плотники вошли в головной отряд всего этого этапа, и вдруг кто-то из наших ребят из бригады видит, что бежит женщина, уже мороз был 5-7-8 градусов, в одной маленькой рубашечке, блузке, бежит и ищет кого-то во всем этом этапе, который метров 200 или 300 длиной. Когда она начала приближаться, ребята мне говорят: «А ну-ка, ты уходи назад, она, наверное, тебя ищет». И действительно так получилось: она прибежала к нам и говорит мне: «Выйдите и идите в зону». Я сказал: «Нет, в зону я не пойду, это мои друзья, мы уже идем с Магадана, я других не знаю и никуда не пойду. Что с ними будет, то и со мной». Она позвала прораба, был такой Семен Дмитриевич Шевченко, и говорит ему: «Семен Дмитриевич, вот я этого человека не разрешаю брать дальше в этап». Семён Дмитриевич подошёл, говорит: «Марк, ну куда ты пойдешь, тут уже культура, дорога есть, а там ведь что, тайга голая. Выйди и оставайся здесь». Я говорю, что нет, я не выйду. Тогда он говорит: «Ладно, хорошо». Вызвал начальника конвоя, говорит: «Выставьте этого человека в зону». Ну, меня взяли, и таким образом я остался в зоне. Тогда я уже познакомился с Костей, Костя так и работал на поселке, я работал в зоне. Уже появился какой-то маленький человеческий контакт.
А закон был такой – когда работник кончает работу, надо было пойти еще под конвоем в лес, принести дров в зону, где бы ты ни работал, в зоне или нет, все равно ты должен был принести этот хлыст в зону и для бараков, и для зоны, и для вольного поселка, и для кухни, и для бани. Каждый день был такой поход.
Я уже в Магадане раз болел цингой, а тут вторично меня поймала цинга. Получил от кого-то страх: под хлыст становлюсь – хожу, а так я ходить не могу. И так случилось, что прораб поехал на Кадыкчан, это управление нашего участка Эмтегейского, и привез он полбанки вытяжки из хвои стланика. Это меня и спасло. Зима у нас была очень тяжелая. Хлеб довозили до нас на газогенах, тракторах, работавших на чурках. Дальше машины, трактора не шли, хлебом нас не кормили, и остального не давали. Понятно, что почти весь там народ погиб. Это были 41-42 годы.
Когда уже поселок этот отстроился, начальство решило начать строить капитальные мосты, и вот меня, и Костю отозвали на 5-й Эмтегейский участок на строительство моста. Это уже было в феврале 42-го года. И как ни странно, понимаете, пустили нас на поезд, дали какую-то бумажку, и мы должны были сами, без конвоя, добраться до пятого. Мы пошли с ним, о чем-то разговаривали, уже сосульки и таяние снега было, только солнце появилось, колымская жизнь пошла уже к лету или к весне, ну весны как таковой там нету. Мы пришли до Догола, там, где было управление, переночевали в изоляторе, в зону нас не пустили, сказали, вы тут переночуете, и мы пошли на пятый. На пятом, был прораб ленинградец, такой довольно веселый, я его знал, он меня уже принял как знакомого, а Костю нет. Но мы уже начали рубить мосты. И там получилось интересно, он-то уже знал, что я плотник, потому что как только мы приехали после Кадыкчан, как нас повели в Магадан, бригадир велел мне и еще какому-то человеку рубить ряж под пекарню. И видно этот с трубкой, фамилия его Гапонов, он когда-то работал – он нам рассказывал, что в он работал в ленинградском, петроградском – не в ОБХСС, а в борьбе с преступным миром. И вот как-то раз он сел на прогон и говорит, вы знаете, хлопцы, ну я все видел, был в Курляндии, в Финляндии, в Латвии, везде был, я всё видел, но плотника-еврея я не видел. Я говорю: «Гражданин прораб, понимаете в чем дело, вы немного ошибаетесь. Если вам нужен министр, я готов вам служить министром. Не вам служить, а быть министром. Жизнь заставила быть плотником – я и плотник. Хорошо я работаю?» – «Да, – говорит, – я к тебе никаких претензий не имею». Это было мимоходом.
Вот мы там построили мост, это уже было до апреля месяца. И вот уже мы заканчиваем мост, идет машина, и в кузове лежит женщина, и почему-то эта машина остановилась, я не знаю. Откуда, почему, почему остановился? Водитель говорит: «Не знаю, вот тут у меня в кузове лежит больная женщина». Я поднялся, – а ее везли уже на Кадыкчан, видно, в больницу. Вывезли оттуда ее, со стороны Оймякона. Вот это была вторая встреча моя с этой женщиной.
Оттуда нас перевели обратно в Чай-Урьинскую долину, бывшую Чередынь (?), она называлась Долина смерти, на Чай-Урьинский дорожно-строительный участок. Вот пришли снова на восьмой участок, там был прорабом такой Борис Александрович Захаров, очень порядочный человек, молодой, то ли техник. Как-то сразу у нас получился полный контакт, и мы начали рубить мост. Мост мы рубили, наверное, до лета, а потом начали строить, кроме моста, мостики маленькие, трубы. С нами один из ведущих плотников, я-то с Костей работал на пару, а второй ведущий плотник был финн, такой Юкконен. Его судьба похожа на мою, это был перебежчик, он жил в Иркутске, всегда на 1 мая – он был настолько сильный, – нёс Коминтерновский флаг, как он рассказывал. Он был вообще виртуозом в работе. Как бы мы не работали, он всегда со своим помощником – а помощник у него был татарин, Васильев. Почему я его запомнил – он был православный татарин. Я тогда не вникал, что такое это было – Уфа, Башкирия, для меня это было все равно, что это была Амазонка или другой мир, географию и теперь я плохо знаю, те места, я там нигде не был. Он был очень такой хороший, а технадзором у нас был довольно хороший парень, инженер, мостовик, как он рассказывал, он был участник проектирования московского моста у Парка Культуры, Крымского моста. Кутузов Николай. Судьба его не ахти хороша, когда мы кончили мост, ему дали разрешение поехать в Москву, я его больше не видел, он вернулся с женой, но потом пришло ко мне известие, что через несколько лет он там и скончался. Он был очень порядочный. Он был заключенный, он тоже пережил жуткое, потому что сперва он был на приисках, потом его актировали и перебросили уже на дорожное строительство. Но мне повезло, дорожное строительство считалось не пансионат, но это все-таки не прииск, произвол был, но все-таки не настолько, как на приисках.
Когда мы закончили мост, на перевале между 8-м Эмтегейским (участком – прим. ред.) и Кадыкчаном, открыли шахты. Для того чтобы сократить путь и чтобы не надо было машинами завозить на Мяунджу, (построили – прим. ред.) ответвление километра 3 от 8-го Эмтегейского. На реке Мяундже стояло 32 или 36 электромобилей, которые давали электричество на Чай-Урьинскую долину и на Аркагалы, на угольные шахты. И мы должны были построить узкоколейку, вагончики, чтобы они везли уголь прямо туда, без автомашин, – это понятно было, больше угля и меньше затрат и электроэнергии, и состава. Но поскольку все это было на отшибе, мне разрешили там построить инструменталку. Потом, невзирая на то, что Костя имел срок 15 лет, прораб дал расписку, что он никуда не убежит, а убежать можно было только на тот свет, потому что морозы пошли уже под 50-60 градусов. Косте разрешили жить со мной в инструменталке. Жил у нас еще третий человек, это был колонист, семья его осталась в Магадане, а его вторично посадили. Он был кузнецом у нас, я был инструментальщиком, Костя – плотником, но мы на пару с ним уже работали.
В жизни бывает так, что трудно встретиться вторично с каким-то человеком. Это было в субботний или в воскресный день, мороз стоял страшный, видимость была чуть ли не нулевая. Не было совсем видимости, морозы были под 60 градусов. Это интуиция человека или сердце подсказывает, не знаю. Я должен был выйти за пределы свой инструменталки. Вышел и смотрю, где-то далеко какие-то два силуэта идут по трассе, по этому ответвлению от главной трассы, туда, до Мяунджи, на электростанцию. Ну, закон севера и человеческий закон, – тем более я чувствую, что они дороги не знают, они только могут ориентироваться по отвалам снега и по вешкам, которые стоят, куда идти. Видно, их с Чай-Урьинской долины довезли до развилки и сказали, вот тут идите по этой дороге, и вы дойдете до АРЭка, это Аркагалинская электростанция так называлась. Я подошел, и говорю: «Вы куда идете? Заходите, - говорю, - отогреетесь, согреетесь немножко, потом дойдете, тут уже совсем близко, но вы сейчас ничего не увидите». Тем более что они все были в инее. У одного был рюкзак, или такая сумка, второй имел длинный пенал, видно, какие-то чертежи. Они зашли первыми, им ребята говорят: «Вы разденьтесь, вам будет теплее, нельзя оставаться в тепле в этой шубе, потому что это не дает эффекта». И когда я позже зашел, один из тех на меня набросился: «Марик, ты живой!» А это Фёдоров, который меня учил кровельному делу в Магадане, и которому я, за то, что я учился, должен был ему через зону переносить спирт.
Я раз попался с этим спиртом, конвой говорит мне: «Иди на вахту!», но поскольку начальник охраны Мазур, который зашел на вахту, пил этот спирт вместе с ним (Федоровым – прим. ред.), вместе с ротным командиром нашим и с кем-то еще, – этот Мазур говорит: «Что случилось?» Я говорю: «Ну что случилось? Вот прораб пришел ко мне и говорит: «Хочешь учиться кровельщиком? У меня не хватает, иди учись, я тебя отдам Федорову, научит». Я говорю: «Пожалуйста, я всегда готов». А когда я пришел к Федорову, он говорит: «Вот условие – каждый день или через день флакон спирта ты должен занести в зону, тогда я тебя буду учить кровельному делу». Ну, я на это пошел. Носил и носил, и каждый раз, когда из зоны и в зону проходил, были обыски. В тот раз нащупали у меня флакон, но все-таки меня пропустили и никакого криминала мне не сделали.
Ну, мы в инструменталке сделали кипяток, а этот второй человек говорит: «А кто ты такой?». Фёдоров ему рассказал, он говорит: «Заберу его обратно в Магадан, с собой». Я говорю: «Ну не знаю, как всё получится...» А Фёдоров говорит: «Нет, мы берём тебя на работу». Второй, фамилия его была Недзарковский или что-то похожее, был шеф-монтажник этой электростанции. Это была первая электростанция, которая попала на Колыму, американская электростанция.
Так и получилось, что всё-таки они пошли к прорабу и говорили, что мы его заберём совсем, или дайте нам его, чтобы он нам помог с кровельными работами. А мне бы где бы ни работать; и я к Захарову относился очень хорошо, как он – к нам. Это был один из самых порядочных прорабов, которых я видел. Ну, надо признаться, что он почти никогда не выходил с нами в отряд. Всегда у него был техник и был у него прораб, не прораб, мастер такой, Карташов. А сам он ремонтировал часы: с приисков ближайших везли ему, и деньги не брал, только спирт. А раз у него был спирт, то все лагерное начальство было всегда у него. Имея такие знакомства, он делал очень просто. Поскольку были всякие доносчики, он, как только узнавал, что кто-нибудь стукач, он тут же вызывал к себе начальника УРЧ, и говорил ему, – как его звали, Федченко, Феденко, я не помню точно, как его звали, - и на третий день этого человека угоняли в какой-нибудь этап. Был такой уполномоченный Лабко, маленький такой, невзрачный мужичок, который всем жизни не давал, и уже все знали, что он стукач. Как только он появлялся, знали, что назавтра он придёт на вахту, ему дадут полкило хлеба, и он на кого-нибудь наговорит. Он понимал (Захаров), что может навлечь на себя неприятности, но так и поступал, и он многих спас.
И в один прекрасный день приезжает ко мне в инструменталку этот Борис Александрович Захаров и говорит: «Ну, Марик, что делать. Пришло (распоряжение – прим. ред.) отправить с УСВИТЛа, чтобы ты перешел в этот Колымгражданстрой. (Это был уже 43 год или к зиме, начало 44 года). Выбирай: мы поднимаемся туда, едем на новую дорогу, на Усть-Нерский дорожно-строительный участок. Час мы едем до Озерного, это недалеко от Первочерского, там дадут людей и мы пойдем вперед. Выбирай, как хочешь». Я говорю: «Идет еще война, меня с Магадана уже раз выгнали, кто его знает, все-таки вы меня знаете, начальник участка уже меня знает, и другие прорабы меня знают, как инструментальщика. Водители по трассе уже меня знают, потому что всегда какую-нибудь помощь им окажу. Поехали».
И действительно, вы знаете, никому ничего не говоря, он подрядил меня, Костю. Мы взяли наковальню, всё, и прибыли на Озерное. На Озерной собралось сразу человек 8 или 10, целая группа. Там уже были построены дома, дом прораба, – ну они все тоже жили так. Гараж – это тоже была палатка 7 на 20 метров для автомашин. Палатки наша зона была, ну и я сразу поставил себе, сами мы с Костей поставили инструменталку. Костя делал тачки, а я готовил весь инструмент. Работой мы не были загружены, поскольку это был такой период подготовки к броску куда-нибудь дальше. Да, в это время начали прокладывать зимник в сторону Усть-Неры и к приискам, которые лежат направо и налево. И в один прекрасный вечер приходит... Пришел угольник окованный, два трактора, и пошли делать зимник. Они вошли в один из ручьёв, они должны были часть пройти по дну зимником, и зажало угольник и трактора его разорвали. И тут же приехал Рыбалко, начальник управления. Вызвал Захарова и не помню еще кого, местного прораба, и сказал: «Если через два дня угольник не пойдет, вот сюда сдам», – это он им сказал. А он (Захаров - прим. ред.) к нам пришел и говорит: «Костя и Марк, вот такое дело, хотите, чтоб я вместе с вами на нарах лежал, пожалуйста, можете, так сказать, не пойти мне на встречу. Не хотите, чтобы я был с вами... Ну вы понимаете меня... Вот такая задача стоит. Подберите себе, кого вы хотите, надо делать угольник. Невзирая на погоду, пойдёте в лес, и за двое суток надо сделать угольник. Металл мы вам подвезем туда, для оковки этого угольника». Да, а единственное, что я должен сказать, что когда я работал на АРЭКе кровельщиком, то знал, что вместе с этой станцией пришел и инструмент, и я сказал: «Дайте мне тоже часть американского инструмента». Мне дали сверла, топоры, напильники, долотья, я уже приехал как богатый инструментальщик. Мы взяли вот эти сверла с собой, мы взяли одного плотника, это был Зенкевич, полковник из Белорусского военного округа. Взяли еще одного моего землячка, с Нижича, под Ровно, и еще кого-то, – помню сейчас, нас было 5 человек. Мы утром вышли, был актированный день. Нам дали хлеб, дали спички для костра, мы пошли в лес, свалили шесть бревен главных для угольника, для поперечен. Короче говоря, полдвенадцатого ночи, – светлая колымская ночь, – мы пришли из леса, пришли все пятеро; подошли, постучал я в окно, нас пустили в прорабскую, там сидело пять-шесть человек прорабов: «Как дела?». Я говорю: «Все в порядке, завтра давайте трактора, чтобы перевернуть угольник на бровку, потому что куется он, режущие полозья идут наверх. Все, – я говорю, – сделали». На столе стоит бутылка или литр спирта. И он говорит: «Ребята, идите в зону, завтра выйдете на работу, всё равно актированный день. Дам вам хлеб, махорку, сахар». Перед тем, как мы вышли, я слышу, говорит: «Ну что, спирт чей, мой? Я выиграл?». Я повернулся и говорю: «Борис Александрович, я не хочу сказать, что мы эту работы бы не делали, но если бы мы знали, что вы делаете ставку...». Он говорит: «Ну, Марк, вы нас извините, это получился, так сказать, спор, потому что каждый прораб имеет своих плотников, и каждый надеется на своих. Я им сказал, что вот, они пойдут, а те сказали – быть не может, чтобы за двое суток пять человек сделали такую работу. Не только лес срубить, окантовать угольник, но еще оковать его, это сложно, это огромный труд. Ну так и получилось».
И прошло, наверное, недели три, вдруг всех загоняют в зону, и бывшего нашего главного инженера УДС, управления дорожного строительства Севера, Семенова Владимира Ильича. Он получил срок за то, что построил колымский мост, он на общие работы не ходил, он всегда работал в конторе, и иногда ему разрешалось идти на работу без конвоя. Всех загнали, кроме меня одного. А я же за зоной, в инструменталке. А меня в зону не загоняют. Почему, я говорю это, потому что получается страшная вещь. Если всех загнали, а меня нет, значит я стукач или доносчик или что-нибудь такое, иначе не может быть, когда приказ всех до одного загнать в зону. Я пришел на зону, говорю: «Я сам хочу идти на зону». А мне говорят: «Ты иди работай, готовь инструмент для рабочих». У меня настроение хуже некуда. В это время, видно, американцы прислали нам очень хороший земляной инструмент: лопаты шахтные, как куклочки, кайла, такие, что можно было как в зеркало на себя смотреть. И рабочих немножко начали... приятней было работать, не знаю, понимаете, сколько отходило в вечность при старом инструменте, – при новом тоже отходили, но всё-таки меньше, но всё-таки был один стандарт. Я же умел делать черенки, но для лопат черенки уже не надо было, потому что там было фундаментально, из чёрного дерева черенки.
Пришло какое-то время, как мы получили этот инструмент, я тоже получил партию инструментов, пришёл главный инженер участка Иосиф Абрамович, и говорит: «Марк, вот какое дело. А, нет, он сказал другое. Всё-таки мой Захаров покорился». Приехал Рыбалко.... Зимник сделали, с помощью нашего угольника, потом, правда, еще два угольника прислали, чуть ли не с Магадана, посильнее, потому что надо было открывать Горно-промышленное управление:Индигирское ГПУ – Индигирскоегорно-промышленное управление. И было у них какое-то совещание, выступил Рыбалко, и мой Захаров что-то там ляпнул, что-то не в унисон. Тот говорит: «Я снимаю тебя с прораба, пойдёшь в техники, если не хуже!». Наутро приходит прораб мой, Захаров, – он сам курский, я очень жалею, что за всё время проживания в Москве я его не разыскал, очень жалею, и еще многих людей, которых ... – и, говорит: «Ребята, я у вас теперь не прораб, прораб у вас теперь будет Михаил Павлович Чубаков, а меня ему оставляют техником». – Он говорит: «Я еще не знаю, захотите вы к нему пойти или нет, или вас можно передать какому-то другому прорабу». Я спрашиваю» – Ну вы же там будете? – Да, я буду. Я говорю – Ну тогда мы к Чубакову тоже пойдём».
Приходит Иосиф Абрамович и говорит: «Вот открывается там в устье Неры, в устье Индигирки, нет, в устье реки Бурустах, которая попадает в Неру, участок Бурустах. неподалёку от этого будет прорабство, Бурустахбудет называться.. Не Дилянкирский, по реке Делянкир, а дальше будет уже Усть-Нерский участок. На Бурустахе будет база, но точно про Бурустах мы не знаем. А от Бурустаха до прииска Победы будет называться Приисковая. Я хочу, чтобы вы поехали с Чубаковым, он там будет прорабом, и чтобы вы там тоже работали в инструменталке».
Мы с Костей согласились, Захаров был свой человек, а мы люди мастеровые, невзирая на Костины 15 лет и мои десять лет. Единственное, что они ещё сделали – они нам дали машину, дали нам инструмент, дали сопроводительную, и мы поехали вдвоём, без конвоя, поехали на эту Приисковую. Это будет, наверное, километров шесть, а с прииска Победы – наверное, километра четыре; вот в середине (...) вы приезжаете, вы ничего не делаете, мы ставим инструменталку и создаём её жизнь. И так мы делали: приехали, это была зима, или уже это было к весне, я сейчас не помню, наверное, к весне уже было, – там была какая-то шараш-баня, мы там жили, срубили себе на горке инструменталку, и вот так вдвоём там жили. Я не помню, по-моему, жил я один, или мы жили в зоне, а инструменталка была наверху. Почему я ставлю этот акцент-то – потому что потом, через почти пол года, выяснилось (нрзб.)... поисковое. Одному человеку тут же не повезло. Не знаю, в чём дело, что случилось, там, где взрывали, почти на глазах всех, всего, понимаете, контингента, его убили, он лежал, недели полторы лежал около ворот, чтобы все видели, какая участь может быть. Может быть, у него была и счастливая участь, он долго не мучился, но это грех так говорить, потому что каждая жизнь – это стоимость, уникум каждый человек. И через ... пришёл, приехал какой-то человек, видно, тоже заключённый, нарисовал его, сняли мы отпечатки пальцев, и это была первая жертва первых дней на Приисковой, он открыл кладбище наше. Такое кладбище было на каждом лагпункте, при каждой зоне это было как законное.
Вот однажды я пошёл в лес, тайгу, понимаете, подобрал себе материал для черенков, для лопат, и сидит какой-то человек перед зоной. Ааа…, это уже было, когда дорогу сделали, остались снова только те, – нет, кроме того человека никого не помню, – вот сидит он на этой колоде, мне он сказал, что он пожилой человек. Я подошел, вижу, лицо такое, первый раз вижу. Я говорю: «Здравствуйте, я такой-то и, такой-то». Я спрашиваю: «Вы откуда?». Почему-то сразу у нас произошёл контакт. Он говорит: «Я москвич, у меня восемь лет, КРД». Я говорю: «Я могу тоже представиться,. Я назвался, (...) говорю, очень приятно, я никого не имею, (...) находится близкий человек. что я должен сказать, – что он учил какого-то человека русскому языку, поэзии, с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Фетом.Ну, а в будущем окажется моим тестем или как это там называется. (...).
Ну, подошло лето, а, нет, подошёл июнь месяц, и в июне месяце отправляют бригаду на сенокос, на Артобу (?), а там не доезжая до Делянкира, была база, это автобаза №7, а в стороне там мы имели своё, дорожное управление, которое имело своё угодье для лошадей, а потом коров еще привезли, надо было сено косить. Не помню фамилию бригадира, помню только, как он хорошо спел, «Выйди к калитке». И у этого вот бригадира получилось маленькое несчастье. Получилось такое соревнование: приисковцы воровали у нас американский инструмент, потому что в зону таскать, под конвоем идти с инструментом каждый раз не разрешали. А наши воровали обратно, понимаете, свои инструменты у приисковцев, в прииске, которые в забое. И вот приехал начальник лагеря, Новиков Пётр Иванович, по кличке Пётр Первый. Ему дали команду, чтобы он отобрал людей, понятно – бытовиков, на сенокос. Он взял эту бригаду, говорит: «Вот она поедет». Я завёл, так сказать, порядок – куда инструмент деть, что есть. Прораб меня вызвал и говорит: – Марк, вот, Борис Александрович, – нет, не Борис Александрович, он был техником у нас, – а Павел Михайлович Чубаков говорит: «Марик, как дела? Вся эта бригада собирается на сенокос». Я говорю: «Знаете, Павел Михайлович, она не отдала инструмент. – Ах, не отдала инструмент? Я этих людей не выпущу, пока они не отдадут инструмент. Они не будут работать на сенокосе». Новикову нужны люди, а я говорю, что я не могу помочь, что я тут не причём, кто я такой! Вы же начальник, вот и идите, и разбирайтесь. Он на меня так посмотрел, сел, и говорит: «Марик, я тебе должен сказать одну вещь, которую я давно хотел сказать. – Я говорю – Вы, мне? Я не могу понять! – А, вот помнишь, когда всех загоняли в зону, а ты один остался бес конвойный? – Да, говорю, для меня это был один из самых неприятных моментов в моей лагерной жизни. – Почему? – Я говорю – Как почему? Уже пошёл слух, что я какой-то сексот, доносчик. – Ты знаешь, почему тебя не загнали? – Я говорю – Откуда я знаю? – Я отдал в райотдел расписку, что ты никуда не убежишь. Я не знал тебя, но я всё-таки это сделал, потому что надо было это для производства. Я понадеялся на тебя, потому что Борис Александрович мне про тебя рассказывал. – Я говорю – Пётр Иванович, забирайте людей, я сам как-нибудь этот инцидент разрешу». Такой вот был инцидент. И он этих людей забрал.
Прошло, наверное, недели три-четыре, на прииске начался промывочный сезон, и в один из дней приезжает на Додже Линьков (?), начальник управления, и приходитк намвместе с Павлом Михайловичем Чубаковым. И он говорит Чубакову и начальнику охраны: «Дайте на три дня питания, учтите, что я их отправляю в тайгу, потому что завтра-послезавтра заскочит представитель УСВИТЛа и будет отбирать от нас людей мало-мальски здоровых на прииск. И вот мы взяли котомки, раскладку, ушли от УСВИТЛа и были почти что вольные люди.
Я должен рассказать еще одну вещь довольно интересную. Когда мы были на Озёрном, каждый прораб пришёл со своими инструментальщиками. И один из инструментальщиков, я даже не помню, где он сидел, делал напильники, трёхгранные, для точки пил. И видно, он даже не хотел, чтобы подсматривали, как это всё делает. Но всё-таки, я не помню, или я ему понравился, или что-то еще: он тоже очень неважно выглядел, и тоже был инструментальщиком у какого-то прораба. И я подсмотрел, как это всё делается. И вот представьте себе, когда мы приехали на Приисковый, с Костей, я говорю: «Костя, давай начнём делать напильники. – Он говорит – Здрасьте. А из чего ты будешь делать?». А нашего кузнеца уже не было. Я говорю: «Хорошо, а из чего мы делаем зубила? Кусок рельса. Делали, жизнь-то мы создали здесь. – Ай, навряд ли что-нибудь получится. – Я говорю – Ну ладно, хорошо». Я пошёл к Павлу Михайловичу, говорю: «Павел Михайлович, мне нужен кусок свинца. – Сколько? Что такое? – Я вам потом расскажу». Говорю: «Чтобы лить такие пластины сантиметров 20 длиной, 8-10 шириной и толщиной сантиметров 8. – Ну ладно, в чём дело? – Когда получится, я вам расскажу».
И действительно, где-то мы нашли свинец, я отковал, со старыми напильниками отшлифовал штук пять, сделал маленький станочек, и у меня начались получаться напильники. Ну, напильник – это кусок железа, надо его еще закалить. Я пришёл к Павлу Михайловичу, говорю: «Павел Михайлович, мне нужны кости». Я вам это еще не рассказывал? ... соли тоже не всегда есть; вот; тот дал яичный порошок еще, видно, припасенный для еды. Ну я ему тоже говорю, что надо муки, соль, яичный порошок и кости. А где кости? Кости только в тайге, там, где волки, олени, и может даже человеческие. –»Ну что я могу сделать? Могу только дать тебе охрану, одного человека, идите, ищите». И действительно, нашёл, сделал такую трубу, положил уголь древесный туда, соль, кости туда понатолкал. Сделал огонь добела, вытащил, в воду закалил, и о чудо! Они начали точить пилы. Каким образом, я не знаю, прииск узнал, что тут есть мастер свой, делает напильники. И начальник прииска, – нет, не начальник прииска, а замначальника прииска на арабской лошади подъезжает и говорит мне: «Вы знаете (на Вы!), мне сказали, что Вы делаете напильники. Что Вы хотите? Пару штук дайте. Хотите спирт – мы вам спирт дадим, консервы – консервы, всё, что хотите. – Я говорю – Знаете, что, идите к Павел Михайловичу, он у меня прораб, и с ним говорите. – Он говорит – Жид? – Да. – Ох, какой вредный!». Ну, и пошел к нему. Ну, пасся он (Павел Михайлович) тогда; ну, бог с ним, до времени он был порядочным человеком для меня. Ну, вот так, понимаете, открылось, что – напильников нету, пилы нечем точить, значит, нет леса, и получилась целая такая цепочка. Поэтому дошло до начальника прииска, и они охотились за мной, чтобы обязательно меня передать туда, на прииск. И действительно, всех сильных с нашего участка забрали на прииск на выполнение плана по золоту.
Ну, к осени, к сентябрю месяцу, прораб пришел и говорит, что мы снимаемся отсюда и мы идём на Анку. Там есть такая одна река, которую надо было переплыть, мы заморозками перешли через неё. И когда мы перебрались вплавь эту реку, Андыгычан, вот, видите, я вспомнил, река Андыгычан. На другой стороне мы грелись у костров, прораб сам на лошади переплыл туда, и мы пришли к Анке. Прорабство Анка и там был прииск Анка. И мы еще подружились с двумя братьями Шарыповыми. Они из под Красноярска. Он маленький, служил в Красной Армии, его забрали с поля, позвали НКВДисты, сказали: «Шарипов, иди сюда. – Что такое? – Беги, дело есть, садись». Довезли и дали ему 10 лет, и он ушёл. А потом он встретил где-то своего брата, он был бытовик, не помню, какой. Он знал немного татарский, немного якутский язык.
Мы себе палатку, и инструменталку не выстроили, а сразу много там начали строить, потом сделали себе палатку и инструмент делали. А спали мы в палаточке. Небольшая палаточка на три человека, или на четыре человека, один около другого, маленькая железная печка и бывшие лозунги – брезента не было – бывшие лозунги, Геббельс, Гитлер, понимаете, – мы натянули на палатку, это было недалеко от зоны. И вот в одну прекрасную ночь, градусов было наверное под 35мороза, а мы лежим под тремя-четырьмя одеялами каждый, у нас уже одеяла американские были, и кто-то из нас прислонился ногой к печке, и сожгло все эти одеяла и схватилась палатка. Мы еле успели выскочить, и всё сгорело. Вот был такой вот казус. Мы уже поняли, что так нельзя, пошли в общий барак, потом построили себе инструменталку, и всё хорошо. Но на меня имел зубок надзиратель один, Крутиголова его звали. И уже под зиму, наверное, приходит Павел Михайлович мой (он никогда в жизни меня не отпускал на развод, что там творилось на разводах, он мне никогда не разрешал), он пришёл и говорит: «Как дела? – Я говорю – Всё как будто хорошо. – Ты знаешь, что, ты меня извини, получилась такая неприятная вещь. – Я насторожился – Что такое? – Ты знаешь, что, я хочу поступить в партию. – Я говорю – Ну поздравляю вас, но причём тут я? – Да, но Крутиголова сказал, что пока я не подпишу на пять суток тебе изолятора, он не даст мне, – как это называется, рекомендацию – не даст мне характеристику от него, должны дать два человека. Я говорю – Павел Михайлович – вы – хозяин, и бог, и царь». Я взял телогрейку, а он говорит: «Нет, ты сидеть не будешь! Даже надзиратель не хочет, чтобы ты сидел! Но надо сделать вид, что он тебя наказал». Я говорю: «Нет, этого уже не будет!». Я взял телогрейку и пошёл к изолятору. Я сказал: «Таки буду тут стоять, буду ночевать. А как будет с инструментом – это уже думайте вы!». Ну, всё-таки он ночью сам пришёл, с начальником охраны, и говорит: «Хватит дурака валять – иди!». Ну, я пошёл в зону.
Через несколько дней в зону приезжает Пётр Иванович Новиков. Поскольку он мне сделал такое доброе дело, – не доброе, но он всё-таки за такое мог бы сам положить партбилет: даёт, понимаете, расписку за шпиона, не загонять в зону. Он пришёл, я говорю: «Гражданин начальник, разрешите к вам обратиться. – Что такое? – Я говорю – Вы знаете, я тут отработал. – Что случилось?». Я ему рассказал всё – И вот сегодня он(Чубаков П.М.-ред.) дал мне пять суток, не посадил, завтра он захочет вступить в партию, тот скажет: «Дай на него дело, и он даст на меня дело, и я буду получать второй срок. Это нечестно, некрасиво.» – Ну что, говорит: – Хочешь на Ольчанский перевал? Тут вот все фотографии.».Был прииск Ольчан, а был Ольчанский перевал. И там была большая беда, на самом перевале. Там всегда разреженный воздух, и была штрафная зона. Кто был там прорабом, я не помню, помню, мастером, десятником был там такой Черных. А начальником лагеря был или Кириенко, или Кириченко, маленький, играл он на скрипке, а жена была Маруся, медсестра. Почему я это всё говорю, с акцентом на медсестру. это поймёте. Баня была внизу, там ручеёк тёк. И чтоб подняться наверх, надо было раз восемь-десять остановиться, чтоб потом подняться до зоны, потому что вода была внизу. 45-й год уже был, режим начался строгий, потому что был казус такой – как только наши войска отступают – режим слабнет, как только наши идут вперёд – режим усиливается. И от пятого по девятого мая я был в инструменталке, я был инструментальщиком,там было два или три плотника, уже освободившихся, бывшие бытовики, и еще кавказец, он был там кузнецом. Те, вольные, жили отдельно и себе готовили, мы тут жили. Ну, как будто всё. На 9 мая приехал из Берёзова –из нижнего прорабства в десяти километрах – прораб прислал оттуда нарочного, курьера, что победа, война кончилась. Ну, это должно было быть счастье для всех и вся, но не тут-то было. Мы, понятно, радовались, те ребята поставили брагу, бочку целую. Ну, я немного тоже выпил там с ними, хотя я спирт никогда не пил, это была не моя история, и на второй-третий день слышу дикие крикис зоны: «Тётя Маша, спасай-помоги, тётя Маша!» Что такое? Я не могу понять, спрашиваю: «Что случилось?». Пол зоны кричит, а там, в основном, были штрафники, и были саморубы: кто себе руку отрубил, кто пальцы, кто себе ногу отрубил, кто себе специально отморозил. И эта тётя Маша приходила, какие-то имперевязки делала, чем-то помогала, чтобы не было гангрены. Оказывается, пришёл приказ – всем саморубщикам не оказывать никакой медицинской помощи. Я спать не мог, крики, а этот стоит, играет на скрипке своей, начальник, муж этой медсестры.
Ну, раз такой большой праздник – День победы, начальник лагеря, Пётр Иванович Новиков, объезжает свои владения. Объезжает владения, а мы почти были самыми крайними, уже потом пошло ещё дальше, на Стрелку, на вольфрамовые рудники, на Лунную, потом нас туда отвели строить дорогу. Приехал Пётр Иванович. Я говорю: «Пётр Иванович, или я повешусь, или уберите меня отсюда. – Что случилось? – Я говорю – Вы даже не слышите?». Он открыл какую-то бумажку, написал. «Пойдёшь на сенокос на Алачий луг? – Я говорю –Пойду». И я сам, один начал спускаться с перевала. И пришёл я на Алачий луг, на сенокос. Как всё в жизни:надо было научиться косить сено и траву.
- А до этого не косили?
- По-моему, нет, наверное. Где-то в детстве я рыхлил сено, потому что у нас самих когда-то корова была, сено привозили, сушили. Ну, во-первых, я сразу научился отбивать косы, так что я имел один-два дня, чтобы всем косы наточить. Там такое получилось – парень один молодой умер, что там получилось, не знаю, но мне надо было делать ему деревянный гроб. Топор был, пилы там, по-моему, не было...
- Кости не было уже тогда с вами?
-Кости со мной уже не было. А, Костю забрали на Кулу, на строительство моста. Потом, в 48-ом году, я уже был вольный, а его, почему-то тоже одного – или он вышел с зоны и пришёл ко мне – вот у меня дома есть фотография, покажу вам, он мне оставил фотографию, его отдали на Аляскитовую, на вольфрамовые рудники. Он был уже на Алачабугском мосте десятником, а оттуда его... это золото всех и всё подхватывало. Я дальше инструментальщика не пошел, а, видите, он раз, схватился за это дело и пошёл мастером. Ну, он же был блатным, он меня научил писать-читать, а я же вообще был такой,я ж грамоты не знал. Вот. Пришлось прямо из целого бревна торцевать, до сих пор помню. И вот приехал Пётр Иванович туда на лошадях, а для этого надо было на пароме через Неру перейти, переплыть, и потом туда, на Алачабугский, где сено заготавливали, на Балаганнах. Он приехал, я говорю: «Пётр Иванович, – а был весь вшивый, бани там нету, хлеб привозили раз в ..., я себе отпустил бороду даже, понимаете, какое дело. И в это время еще какой-то бытовик, грек, должен был переправиться на другой берег. И по приказу он должен был подняться с лошадью на триста вёрст, и потом потихоньку по течению пойти. А он пошёл на торник, и лошадь утонула, и этот парень утонул. Я его знал. Какой-то второй страх на меня нашёл. И вот пришёл Пётр Иванович Новиков, я говорю: «Пётр Иванович, спасайте меня отсюда, видите, что тут». Он снова написал бумажку: «На Бурустах». На лодочке поднялись километров 300 вверх и тут едет как раз паром, и на моё счастье капитан Скориков (?). Я был большой, а он был еще больше, ему было метр 45-43, у него была жена и еще двое детей, такие сволочи. И сразу: «Откуда? Кто такой? – Я говорю: – Как кто такой? Вот, бумажка, от начальника лагеря, направление на Бурустах. – А что за борода? Завтра чтобы ты пришёл ко мне без бороды». Неру под парами машина перешла, я сел, и приехал я на Бурустах. Куда идёт человек? -В баню. И вот потом я остался на Бурустахе, освободился, работал инструментальщиком, потом кончил курсы, работал старшим мастером. И потом мне удалось поехать в отпуск, совсем мне не разрешили. Но до этого было еще много-много, понимаете, всего.
Вот так я обосновался на Бурустахе. В бане был банщиком китаец, Юн Чу Ву (?), очень порядочный человек, маленький. По его рассказам – бывший переводчик, полковник или подполковник гоминдановской армии. Как он попал, он не рассказывал. Он был очень порядочный, работал и был очень прекрасным банщиком. Он меня вымыл, пропарил всего, одежду – в парилку, и направился я в зону. В зоне сутки меня не трогали. На второе утро меня направили в инструменталку работать. Через энное время, через месяца два или три вдруг в зону привезли новый этап, человек четыре-пять. Это были люди по так называемому «Сусуманскому делу», которых на время завезли с Сусумана к нам на Богустах, и они ждали сессию выездного суда Хабаровского края. Среди них был бывший прокурор Изотов, художник Уткин или Уткис, доктор Стэн, руководитель (...) в Казахстане 1940 года. Он был очень красивый человек, и по некоторым рассказам он еще принимал участие в испанской гражданской войне в 1936 году. Начальником Нерского участка тогда был некто Трухачёв, жена его была медсестрой. Помощником медсестры был Домнин Иван Васильевич, томчанин, потомственный печатник, так и попал он в заключение. Секретарь парторганизации на посёлке была Иванокади (?), она же и Лермоненко (?). Та была фамилия девичья, ну, там еще было несколько фамилий до Лермоненко (?). Ну вот, эта секретарь парторганизации, взяла этих двух человек под свою защиту, – Уткиса или Уткина, художника, и доктора Стэна. Уткина она отправляла каждый день в клуб, он нарисовал на больших круглых натянутых полотнах, простынях, портреты Ленина и Сталина, этого сволочи. А доктор Стэн молодой стал помощником помощника медсестры, Ивана Васильевича Домнина. Это был очень спокойный человек, всеми в зоне уважаемый, он и возрастом был почти самый старый.
О Иванокади (?) надо рассказать. Я её знал давно, знал с 41-го года, как только я прибыл на 5-оепрорабство к Гапонову. Она была единственная женщина на три или две тысячи народа, которые были там. Она работала мастером. Муж её тогда был армянин. И вот в один прекрасный день он и говорит: «Вот, пойдёшь с таким человеком на Эмтегей, там, где будет участок. Проверите реку, чтоб можно было на тракторах привести сани с продовольствием». Мы с этим товарищем пошли, это был почти мой ровесник, немножко старше, он уже закончил институт, Ленинградский дорожный, его направили на работу в Дальстрой. Он нам рассказывал, как быстро война кончится, как шахты мы забросим и всё будет хорошо. И как-то он ко мне... Он, может, не знал, что я всё-таки осуждён на особом совещании на 10 лет на Колыму по такой статье, как ПШ. Вот так вот с разговорами дошли мы до прорабства, до 4-гоЭмтегейского участка. Прорабом там был – в будущем, мой прораб – Шевченко. Мы к нему пошли и начали говорить, чтобы он разрешил нам пойти с тракторами, с санями по свеженасыпанному откосу. Он категорически отказал, и тогда пришлось пойти проверить реку Эндигею на её глубину, чтобы как-то, каким-то образом прогнать трактора. Но номер у нас не удался. Я взял длинный шест, снял ремень, освободился от топора, который всё время, как плотник, с собой носил, как носит свою кирку или как она там называется, и начал потихоньку мерить глубину реки. И когда шест вошёл метра на полтора, и вода подошла мне под самые мышки. я оттолкнулся обратно к берегу. Всё, бал кончен, мы эту реку не возьмём. Если трактора пойдут, они заглохнут, все продукты попадут в воду и не будут нужны ни мне, ни тебе. И мы, ни о чём не договорившись с прорабом, собираемся идти. В это время, в другую комнату зашёл тоже молодой парнишка, тоже выпускник Ленинградского дорожного института, Моршович Илья, и спрашивает: «Почему вы так ругаетесь?». Мы ему объяснили, что вот такое и такое дело, что мы с 5-го прорабства, мы сидим почти совсем без хлеба, без еды, с тайги у нас никого еще нету. Мы на самом первом фланге, а питание у нас совсем кончается, хлеба нету, кормят только жидкой гречневой крупой. Ну, он начал разговаривать с прорабом и прораб, Шевченко, как-то всё-таки до него дошло, что жалко людей, что людей надо кормить.
Через несколько дней был снова вызов к прорабу Гапонову, послали вторично на Эмтегей, по распоряжению начальника Верхнеиндигирского строительного участка. Как всегда, топорок за спиной, прошёл я 8-10 километров по тайге, ближе к реке. Все были на месте, представился начальнику участка, чтобы меня послали как проводника к Энтегейской пойме, чтобы повести обоз за 10, за 20 фактически километров от нашего прорабства. (...) Переночевал, утром начали спускать весь обоз, верёвками вниз. Где начали штурм всех завалов, и так потихоньку, за 7-8 часов. Переночевали, наутро снова прошли может километра три, и когда оказался участок без леса, без кустов, без всего, увидел уже, наверно, начальник участка, что я выбился абсолютно из сил, он меня поблагодарил за это, дал какой-то конверт и сказал: «Передайте это, пожалуйста, вашему прорабу Гапонову». Через часа три-четыре я прибыл в расположение 5-го нашего Эмтегейского участка. Прибыл на место, встретил прораба своего Гапонова и передал конверт. Он открыл пакет, оказался там какой-то его профсоюзный билет. Он говорит: «Молодец, за это иди и пообедай. Но у нас хлеба-то нету, тебе чуть побольше дадут гречневой каши». Я за всё это сказал спасибо и пошёл в сторону нашей палатки или шалаша, сделанного из коры. По дороге, на одной из тропинок я вижу на маленькой площадке 5-6 палаток, натянутые не брезентом, а простынями – простынь, когда натянута, никакой дождь её не пробивает. И какой-то молодой человек топором хотел рубить дрова для костра, чтобы отгонять комарья, которое ему там мешало. Я так встал, посмотрел, как парень этот кромсает это дерево, от каждого удара оно ударяет в этого человека. Я подошёл, говорю: «Извините, давайте я наколю дров». Вы поймёте, что я в жизни не был плотником, но всё-таки жизнь меня научила это быстро делать. Действительно, взял, быстронарубил им дров. В это время из палатки вышла его жена, вот эта Елена Кадер (?). Это была молодая девушка или женщина и говорит: «Подождите одну минутку. – Я говорю – в чём дело? – Подождите». И вынесла мне какие-то корки хлеба. Меня это шокировало, я говорю: «Ну, извините, я ведь делал это не для того чтобы вы мне дали хлеб, чтоб я подзаработал куски хлеба, так что вы меня извините». И я повернулся, будучи очень голодным. Всё-таки, понимаете ли, тем более, в глазах девушки или женщины уже, потом оказалось, что у неё есть сын на материке, которого я теперь хорошо знаю, он живёт в Москве, защитился, доцент, очень хороший человек. И я ушёл в свою палатку. И там я дождался, пока вся бригада пришла к нам.
Это было в начале моей строительной работы. Потом мы я вернулся на 8-й Эмтегейский участок, когда мы там сдали узкоколейку, а к весне я снова двинулся на Кадакчан, где мы были уже в распоряжении техника этого прорабства, который имел функцию, самостоятельный план для работы. Это был очень деликатный, интеллигентный человек, даже в тайге в пенсне, порядочный. Мы ему построили палатку.
(…)
… у него было какое-то чувство большевизма, партийности. И я еще хочу рассказать, коль мы вот это чувство партийности, нет, совсем не про него… Я говорю, что у меня был один из самых лучших моих напарников, друзей – это Костя Либерко (?), у которого было пятнадцать лет, тот, который мне выкупил эти несчастные двести грамм хлеба. Два момента, что были на 8-ом Эмтегейском: это я возвращаюсь, там, где я остался, где женщина меня спасла, что я не ушёл с магаданцами туда, в тайгу. И однажды мы пошли на рубку леса, человек шесть или пять, на лесоповал в пойме реки Индигирки. Это было лето, для того чтобы строить посёлок (...). Поскольку спичек не было, а банки с горохом выдал Дальстрой, запас сверх нормы, то всегда мы брали банку из-под гороха, пробивали снизу дырки, брали горячие угли, проволоку, и в этой банке мы берегли (угли-ред.)до места работы. Там сразу сухостой, или сухие ветки, кору и делали костёр и работали все восемь часов. И вот однажды, – порядочно народу было, очень – мы пошли, и, не доходя до места работы, мы потеряли огонь. Огонь потух. Что делать? Когда работаешь, еще можно что-то делать, а так – это погибель. Пойти обратно – это тоже километров шесть-восемь, это тоже (не выход). И вот мы решили по старобытному – взяли сухое полено, встречное полено и начали тереть, тереть, тереть, – да, но до этого мы на берёзках – там очень низкие берёзки такие есть – надо сказать, что в поймах рек там очень хороший лес, каждому дереву лет сто-сто двадцать, потому что там вегетация короткая, поэтому жердь, которая имеет диаметром сантиметров 10-11, имеет 30-40 лет. А у берёзки там есть такое, как папиросная бумага, тонкое-тонкое, вот, мы набрали эту «папиросную бумагу», потом с куста такую, типа как вата, от старых летних цветов, ис телогрейки вату, и начали таким старобытным способом тереть , и мы добыли, разложили костёр. По-моему, видно было на сто километров, и у нас мечта, что можно поджарить такого кабана. Ну, мы хотя бы спаслись, ничего не отморозили.
- А у меня еще вопрос: Вы в детстве довольно религиозный были?
- Я не долго оставался таким, потому что папа в субботу мог покурить папиросы, и даже в ЙомКипур, по-моему, как-то ходил. Свинину, по-моему, дома только двое нас не ело. Я не ел и покойная сестра. Такие куски, всё это дома было. Хотя отец был не против праздников. Времена уже другие были, другие веяния.
- А в лагере Вы что-нибудь...
- Нет, в лагере уже всё ел, вплоть до копыт дохлых лошадей. Даже мне кажется, насколько я помню, где-то в Торе или в Талмуде сказано: для спасения жизни можно есть всех и вся.
- А когда пятница, шабес был, например?
- Нет, приходили зажигать, тушить свет соседи, поляки, это было чисто педагогично, «только для тебя, и всё». Тем более что моя покойная сестра, самая старшая, Эстер, она была очень богобойная – или как это сказать (богобоязненная – прим. ред.)? Ну она малая была, как все. Она была похожа на одну из тёток; мне стало тринадцать лет, и я начал носить тфилин, то я обязательно должен был одевать при ней, на вечернюю молитву, она это абсолютно всё(соблюдала), пока она была дома, пока она не вышла замуж, мне надо было это надевать.
- Когда Вы сидели, Вы верили в бога?
- Нет. Тогда я уже в бога не верил.
- Понятно.
- И сейчас не верю. Очень многие коммунисты, большевики, стали верить. Это спасение – иначе нельзя было переносить эту жизнь, которой мы жили. Если нормального человека бросить к нам в барак, на работы, в тайгу, это можно было только с ума сойти. Надо было поэтапно, поэтапно войти вот в это. Я говорил, и до сих пор, – вот мы сидим и говорим, а я себе не верю. Всё, что было дома, я даже в тюрьме, когда попал, даже я не помню, об чём я думал, о чём мы в тюрьме говорили, и в этапе, я этого всего не помню. Я больше слушал, потому что мне было интересно. Да, кстати, один из немцев, которые поехали с нами, там был один – Геринг, его посадили потому, что его фамилия – Геринг, а Геринг был один из фашистских олигархов. Я не верил, потому то, что я видел, я вообще не понимаю – неужели богу надо столько проверять людей на доброту через злость, через гибель сотни тысяч людей. Я не могу это понять. Я понимаю, что религия, тем более, еврейская религия, имеет в себе моменты цивилизации или культуры человека. То, что говорится – нельзя, грех зайти в дом и не поздороваться, прийти в дом – и не помыть руки, перед едой – и не помыть руки, я понимаю, это заложено было, это нужно было, иначе люди не могли понять; общение, – не делай другому то, что тебе самому, если тебе сделают, неприятно. Это всё я понимаю. Но молиться, что бог может мне в чём-то помочь, это для меня исключено. Может быть, какая-то даже со мной сила, звезда – я же говорю, что всегда у меня была особая звезда, которая меня вела, спасала. Я не понимаю, как это всё складывалось так, что ко мне относились совсем иначе, как к другим заключённым. Я хотел сказать в отношении этого, что всё уже заложено в человеке. Как партийцу. Вот этот Костя Биберко (?), у него было пятнадцать лет. Он был секретарём парторганизации, райкома партии, в своём родном районе где-то в Архангельске, ну и получил тогда – ведь каждый работник обкома должен был сдать своих членов партии. Короче говоря, ему дали пятнадцать лет. Он человек уникальный: это тип помора – маленький, рыжий, братья у него были моряками в царской армии. Он мне потом показывал фотографии, когда мы были с Натой в гостях у него, он показывал фотографии семейные, его и его жены. И где-то в январе месяце 42-го года, когда были сильные очень морозы, а надо было трактора самим вести по зимнику, везти продукты, муку, в данном случае у нас не было муки, и день или два, больше там, мы сидели без хлеба. Может быть, и давали какой-то кусок рыбы мороженой. Более того, под казармой охраны лежали тонны четыре или пять муки, но муку нам не давали, потому что она была назначена на другие прорабства, её нам не давали. Наши машины должны были пойти на Адыгалах, на центральную базу Дальснаба и получить продукты, не по дороге. Ведь можно было бы делать так, что разворовали муку. А трактор работал на чурке, на газогенах. Я дамам это расскажу здесь. И у него был запас бензина, литра три-четыре, чтоб только завести трактор, и потом только он начинал работать на чурке. И вот мой напарник, вотполяк этот, каким-то образом утащил литр-полтора бензина и продал пекарю. А пекарю это нужно было для колымки, потому что было слишком темно. А когда трактористы пришли и узнали, они его (поляка) избили до полусмерти. Правда, его потом забрали в армию Андерса, его и еще одного поляка. Если забрали его, то почему не забрали меня, я ведь был польский гражданин? Но это неважно. И вот я с этим Костей – не помню, что мы делали, работали, – и что-то я вспоминал, не знаючто, я Косте задал вопрос: «Вот скажи, у тебя пятнадцать лет, ну ты веришь во все эти бумажки партийные, ЦК? – Я уверен, что Сталин знает, что творит.- Я говорю – Ты что, веришь в социализм? – Да».
- А большинство людей там? Они членами партии были?
- Да. Членами партии было довольно большое количество людей. Он же делал умнее, как Ельцин, но Ельцин не может сейчас это сделать. Та система, которую принял Ельцин, та система, первая: не вырабатывала людей-апаратчиков, людей, которые могли самостоятельно действовать во всех государственных структурах, хозяйственных структурах. Поэтому ему пришлось, кто отказывался официально от партийности своей, он должен был взять себе помощником в аппарат. И поэтому были секретари партии, главы обкомов партии, многие еще такие есть, которые работают и теперь становятся губернаторами. Они не вырабатываются, нет. А он (Сталин – прим. ред.) делал иначе: он снимал всех и ставил молодёжь. Прошло год-два, снимал и ставил новых, он же все кадры старые – подпольщиков, революционеров, участников гражданской войны, кто при НЭПе был – всех почти поснимал, оставались единицы. Только единицы. Почему сейчас так идёт? Неужели можно было оставить всю систему прокуратуры, оставить на своих местах, тех, которые давали срока? Мне справку о реабилитации подписал генерал-майор Чепцов – он был председателем суда, по-моему, над Тухачевским, Якиром, Эйдеманом, всех, в 37 году. Он реабилитировал потом людей. Вот моя справка о реабилитации подписана им.
Эта система такая дикая, мне кажется. Ведь в России – даже не в СССР, в России – нет крестьян, их всех уничтожили. А те, которые работали в колхозах, то они получали галочку, остальное они воровали в колхозах и этим жили. Ну я не специалист в этом, ты социолог, а я нет, я только факты из своей жизни вспоминаю. Я встретил такого – не помню фамилию – его посадили как кулака – нет, не кулака, а, наверное, середняка, знаете, были такие? Сперва посадили кулаков, уничтожили. Потом подкулачников. Потом зажиточных. Вот так, три касты были. Вот он был где-то с Краснодарского края. Он был моим напарником, он меня учил хорошо пилить правой и левой рукой, поперечной пилой. Он говорил: «Я, зажил только тогда, когда я поступил в колхоз. – Как, говорю? – Да вот так. у меня были три или семь коровы, были лошади, я вставал в пять часов и ложился в десять. И когда колхоз всё это забрал у меня, я пошёл работать на конюшню конюхом, и я работал восемь часов. Я приходил в восемь, в ночную. Я начал жить. Во-первых, можно было взять пол кармана овса для кур.»
Правда, ему тоже дали потом – взяли его, а оттуда сыплется корм, вот ему дали десять лет. Вот ведь: только зажил. Поголовно такая вот система. И всех, кто работал, кто мог идти в хозяйство, мог кормить страну, всех посадили. Всех согнали в лагеря, или на стройки, Уралмаш. Вся Россия вчистую построена заключёнными.
Поскольку эта плёнка уже как винегрет нашпигована, то я хочу еще раз вспомнить просто уникальный случай. Раз в 42 году, когда еще не было подписано перемирие с японцами, то Дальстрой понял, что надо иметь запасные тыловые госпитали, больницы, – а вдруг японцы нападут на Магаданскую область со стороны Охотского моря. И тогда на 10-м километре, прорабствеИндигирского участка, приехала (врач-ред.)с Магадана, и тогда я с ней виделся. С Магадана, с Колымстрояприехали плотники, и начали бить бараки для больницы, Дальстроевской больницы. Но видно, в это время японцы сказали, что они дают слово, что они не нападут на Советский Союз, и дали отбой и всех людей обратно увезли оттуда. И прораб, я забыл, как его фамилия, говорит мне: «Марк, сходи туда, – это было в районе девятого прорабства, – Может быть, они что-то там оставили в тайге, и мы как-нибудь дадим лошадь и привезём». Я туда пошёл пешком и ничего такого не нашёл. Но нашёл там точильный камень в корыте. Ты знаешь, что такое корыто? Это в дереве, в колоде вырублена такая маленькая лодка, вот это корытом и называется. Оно стоит на ножках, там есть два таких типа кронштейнов, и на этом стоит большой камень, он диаметром, наверное, шестьдесят-семьдесятсантиметров, толщиной двенадцать, песчаник белый. С ручкой – один крутит, другой может точить топоры, ножи, всё и вся. Я это увидел и пошёл обратно к себе на прорабство. Не доходя километра два или полтора до прорабства, в забое стоит бригада, гонит тачки на усиление полотна. Это были люди уже актированные, слабосильные. Но у них трапы ходят как хотят, нет такого, чтобы махом укрепил. А у меня топор – как в тайгу без топора – вольные ходят с ружьём, с винтовкой, а я пошёл с топором. Я им говорю – знаете, давайте я вам налажу трап. И, наверное, минут через десять я им наладил трапы. Они меня поблагодарили, и на этом должен быть как будто конец. Но среди них встаёт человек, подходит ко мне человек в очках, и мне говорит: «Я вас знаю, кто вы были. – Я спрашиваю – Как, откуда? В тайге? Раз в двое суток проходит машина, никого я тут не знаю кроме тех, с кем уже жил». А он мне говорит – (нрзб., по-польски) – Я остолбенел, говорю – Вы откуда взялись? Он говорит – Я с ПётркуваТрибунальского, – это под Лодзью, в Польше, – я, к сожалению, был коммунист, и я очень много работал с еврейской молодёжью для того чтобы их вербовать в комсомол. Всё это были ребята, которые в любой ситуации, – мы скаутами были, – в любой ситуации могли найти выход из положения. Бросить дерево, перейти речку с шестом, найти дорогу, где север, где юг, без компаса, без всего». Я говорю – Вы там были, и какая у вас судьба? – Он говорит – Меня обменяли на ксендза. Знаешь, что такое ксендз? Сейчас православие не хочет, чтобы католики имели право на конфессию религиозную. Священник у католиков называется ксендз. – Меня обменяли на него. А теперь мне дали десять лет». Он погиб потом. Он в очках был. Я не знаю его судьбу, но наверное.
- Из-за того, что он в очках был? Это что значит?
- Ну как, без очков он вообще ничего не видел, он же калека, трижды калека. Вот был маленький один из эпизодов. Я не мог понять, откуда это.
- А вы никогда не хотели сбежать?
- Куда? С Колымы бежать нельзя. Мы, когда шли по тайге, по просеке и вдоль рек, мы там много видели людских, человеческих скелетов. И куда мне бежать с моим языком? Во-первых, местные жители, якуты, если поймали(беглеца), они отдавали обратно охране, они же вооружены, якуты все, обратно отдавали власти и получали литр, два литра спирта, муку, патроны ... Во-вторых, на Колыме легко поймать беглецов, потому что кроме охраны, есть два природных фактора: зимой без костра никуда не уйдёшь. Дашь костёр, и если есть команда искать, то уже видно – даже летали самолёты. Были побеги. А летом комар съест без костра. Были же побеги – в основном бежали блатные, но они брали с собой живые консервы, чтобы есть – они брали молодых ребят, это и называлось живые консервы. А когда оперативники ловили этих беглецов, они их обратно в зону не привозили. Они их убивали и только правую руку отсекали, её привозили, чтобы взять отпечатки пальцев. Для того чтобы списать человека, в эти архивы, в 3-ий отдел, они руку привозили и проверяли отпечатки пальцев беглеца, как по фамилии, и если сходится, тогда его списывали. У нас был даже такой дикий случай, это было где-то под Промежуточной... двое ребят сбежали. Перед тем, как сбежали, (...) в Магадане они своих напарников, был некто Семечкин, не помню, как его звали, он был плотник, он работал до заключения в Кемеровском, нет, в Северо-Западной Сибири, на элеваторе. У него была семья, – почему я вспомнил вот этот случай, – он во время войны был вахмистром царской армии, воевал в Карпатах. И по его рассказам, он на своих плечах вынес генерала Брусилова, раненного. Через перевал он его нёс на своих плечах, и он практически его спас. Что ему инкриминировали – мне кажется, ну я теперь не помню, прошло уже, слава богу, лет больше – но этот момент ему следователь тоже инкриминировал, почему он спас царского генерала. Вот такие бывают вот случаи.
А в отношении Бурустаха – это было уже после войны, когда меня вернули на Бурустах, я стал работать в инструменталке, и там был довольно казусный случай, который я не хотел бы его пропустить.
Однажды ко мне поздно вечером постучался человек, вошёл, и говорит: «Хотите, купите у меня полкиловаттную электролампу? – Я говорю – С большим удовольствием. – Сколько?» Он мне назвал какую-то сумму денег, но денег у меня не было, я говорю: «Давай, мы можем проделать, как теперь говорят, бартер. Могу тебе отдать американскую банку тушёнки, – она еще тогда была в фаворе, эта тушёнка, потом стали говорить, что это некачественные продукты, – и пол буханки хлеба. Я его оставил, пошёл на пекарню, мне пекарь дал полбуханки, и я был счастлив, что у меня такая большая лампа, видно будет, чтоб работать. И прошло, наверное, недели две-три. И вдруг приходит этот парень, он бывший заключённый, бытовик, он освободился, и еще один человек. Он на меня показывает: «Вот, этот человек купил у меня лампу. – Да, говорю, я купил, а в чём дело? – Отдавайте. Будем подписывать, в чём дело». – Это был капитан КГБ, и он начал спрашивать, почему я купил эту лампу, зачем я купил лампу, какое право я имел купить лампу, откуда у этого человека эта лампа была». – Я говорю: «Откуда я знаю? Мне лампа была нужна, он предложил, и я её купил». Оказывается, этот человек (с мехбазы-ред), километрахв тридцати, наверное, от нас в сторону Магадана, была мехбаза, Карауянская (???). И когда готовились к выборам, – везде, в каждом пункте былкрасный уголок, где было пять-шесть коммунистов, имели свой красный уголок и там делали кабины для голосования. На (мехбазе) там было человек десять, от силы пятнадцать, которые имели право голосовать. А больше всё были лагерники. И вот этот почтенный человек забрал эту лампу, но не только эту лампу, он снял одеяла, которыми был обшит каркас под кабинку. Может быть, этого человека и осудили, только меня не вызывали, я считаю потому так, что я не имел советского гражданства, и меня на суд не призвали. Самое главное было другое: что у нас на другомберегу реки, на взгорье, была метеостанция. И обслуживал её капитан советской армии, он был метеорологом, и он же был там секретарём парторганизации, в том числе у нас на посёлке. И, увы, он купил одно или два одеяла. А с этим капитаном вообще был интересный случай: когда на каких-то выборах работало радио, а поскольку он был секретарь парторганизации, то радиоузел местный находился у него, и, видно, он очень часто слушал «Голос Америки», а тут, видимо, машинально он включил на весь посёлок «Голос Америки», и вот пошли все последние известия, которые мы не могли знать.
Первые дни, или первые часы работы в Магадане, в одной палатке мы жили, там был венгр, был очень симпатичный дядька, уже пожилой, лет сорок пять, наверное, почему-то он начал брать шефство надо мной. И вот он всё говорил, – были же у нас лозунги – за честный труд, за свободу, – он говорит: «Не верь, не рвись на работу. Думаешь, ты будешь хорошо работать, так кто-нибудь заметит, и кто-нибудь тебе убавит срок? Ты же понял, что тебя через полтора года привезли во Владивосток, объявили срок, на руки не дали никакого обвинительного акта, так что тут всё это просто». А на второй-третий день он говорит: «О, хочешь подтвердить моё слово, посмотри». Поскольку один угол нашей зоны выходил на тюрьму, а там под вышкой сидело человек шесть или восемь. Он говорит: «Видишь вот, это всё крупные инженеры, которые работали на приисках, срок у них кончился, и их привезли в Магадан для того чтобы им вторично дать срок. Они имели пять лет, они будут иметь дополнительно еще восемь лет. Это люди, которые никаких преступлений не делали, честно работали». И он мне рассказал такой фрагмент, или как это было. Ну, я понимал, что этот Коминтерн – работники ЧК. Нет, не ЧК, а работающей за границей. И вот он мне рассказывает, что его однажды послали работать в Будапешт, он должен был провести какое-то дело, и он был одет в венгерскую форму, в ранге майора или подполковника, и был какой-то приём. И в то время, когда он входил в зал приёмов, напротив него вышел советский дипломат, которого он прекрасно знал в Москве. Это может быть тоже был, так сказать, официальный работник контрразведки ЧК или кого-то, и с кем он имел дело в Москве, а сюда, в Будапешт он уже приехал как журналист, торгпред, ну, представитель посольства. И он говорит: «Как я с ним не заговорил по-русски, я до сих пор не понимаю. Я бы выдал себя, как говорят в нашем жаргоне, с потрохами, что я работник. Потому что даже некоторые с кем он имел дело с румынскими, с венгерскими офицерами, (думали-ред.), чтоон с какой-то другой части, никто не знал даже, почему он пришёл на это собрание. А вообще он мне говорил, что в Москве он жил, у него жена была директором Парка культуры и отдыха имени Горького. Он даже говорил фамилию, я забыл. Какая судьба у него сложилась на Колыме, и у жены его, я не знаю. И вот такие вот дикие случаи со мной, понимаете, были.
Жалко, что у меня всё не идёт, так сказать, хронологически.
Я не знал, что в лагерях есть стукачи. Откуда я мог знать, я же не прошёл советскую жизнь. Я вам говорил, в Магадане была такая пословица: «Снова произвол, снова в баню гонят». И действительно, после работы, вместо того, чтобы с работы погнать в баню помыться, чтобы в зоне могли поужинать и лечь спать, там была такая система: почти четыре километра гнали в зону, там ужинали, и через час, наверное, через пол час, где-то около девяти часов вечера гнали в баню. А зимой в Магадане очень большие заносы. Там метров до полутора иногда бывают такие колоссальные заносы. И вот однажды, когда нас выстроили – первая пятёрка, вторая, третья, подъехал пикап крытый. И оттуда выскочил какой-то человек. И как только он увидел, что выводят людей с зоны, он тут же вскочил в этот пикап и умчался. Я говорю: «Ребята, что это такое, как-то странно? – Ну как, наверное, привезли какого-то стукача. С какой бригады, с какого барака, мы не знаем.- А я всегда со всеми разговаривал, ну, то, что я соображал, понимал, я всегда вот так.Однако,они говорят – Ты что, ты знай, с кем ты говоришь». Но, слава богу, меня никто не заложил. И еще один фрагмент...
- Можно спросить, а сколько лет вы прожили до того, как вы об этом узнали?
- Про стукача? Полтора года. А, в зоне, в Магадане, я был, наверное, года полтора. Знакомства были только в своей бригаде, в бригаде тоже были свои ребята, с которыми я имел какие-то интересы, разговоры, воспоминания. Мы же газет не имели, ничего мы не знали, радио не было, и вообще так мне повезло, и кстати в Магадане ни одного процесса нового за эти три года я не слышал. А вот уже после войны, когда я прибыл на Бурустах, там уже это было. Но я уже знал, что есть стукачи у уполномоченных, они кормят их. Но у меня всё-таки страха не было. Вот в Магадане, я уже рассказывал, был там Сусуманский процесс. Я уже говорил, там был доктор Стерн, этот художник. А вообще на Дорожный привозили доходяг с приисков, он этих людей кормил. И всегда, когда уже немножко мало-мальски человек встал на ноги, – и освобождения(от работы??-ред.), всё это им давали, – и начинали с ними говорить: какие лучше самолёты – немецкие, американские, вот давали обувь американскую, одежду, одеяла, – всё это такие восхваления другой стороны. И там потом был очень большой процесс, и сдали эти два прораба, правда, один потом сел. А многие не выжили, вот те (доходяги??-ред). Один был такой Вайнтройб, бухгалтер, он вообще умер в изоляторе во время следствия, потом был Хазанов – преподаватель, насколько я помню, какой-то военной академии в Ленинграде. Он тоже потом получил восемь лет, и поскольку он был слабый, его отправили на Балаганнах в совхоз, там женщины работали, часть мужчин таких, доходяг, и он так и не освободился.
А Слабожицкий (?) потом был прорабом на Артыке, это тоже туда, в сторону Сусумана. И я говорил, что каждый прораб имел свое такое гроно (группа – польск.), свой штаб доверенных – это два-три человека: кто на машине, рыбак, охотник -приближенные. А там на Артыке был мост,наверное, метров сто шестьдесят длиной, но летом можно было пройти (вброд ред.), до колена воды, не больше, исключение только во второй половине июня, когда идут паводки с гор. А вся вода, которая идёт от таяния снега, и дождевые воды, а земля нормально ничего не принимает, вся идёт в русло реки и весь бассейн данной реки идёт в одном направлении, в эту реку. И река поднимается на четыре-пять и больше метров в высоту. А зимой мосты объезжают для того чтобы большегрузные машины не влияли на прочность замёрзших(бревен-ред.), ну, на древесину. Однажды эти ребята,а они прыгали только на подъёме, они сбросили там несколько ящиков консервов. Но видно, кто-то уже доложил об этом. Потому что когда пришли... а у него (прораба?) были там свиньи, два-три поросёнка, которых он кормил, этот Слабожицкий (?). И его застукали – он кормил консервами этих поросят. Ему дали четыре или пять лет. А второй(прораб?) я не помню его фамилию, – про него можно рассказать целую история. Вкратце, когда он освободился, он был заведующим пятого магазина на Усть-Нере. Это был закрытый магазин для военных, работников управления Индигирского КГБ и пр. И он как-то... Вообще, он в карты играл, будучи еще в заключении. Он женился там на женщине, уже с ребёнком, как-то я его встречал на Усть-Нере. Но дело в том, что он начал дружить с начальником МГБ при Индигирском горнопромышленном управлении. Был такой Шляпников. И что оказалось? Блатные давали ему деньги, и Шляпников им выписывал почти чистые паспорта. Мир не без хороших людей, и было всё-таки следственное дело, Шляпников получил десять лет, а этот – Сахаров, я не помню – вышел, понимаете, чистым. Он ничего не получил. И еще. Он получил срок, за что, я не помню, но как бытовик. Он наладил(перекупку золота между приисками??-ред.). Каждый распадок имеет свой цвет золота и свою конфигурацию, и каждый прииск тоже – ну там специалисты насколько мне рассказали, имеет свой цвет золота и каждый прииск должен сдавать золото в управление, тем более, чтобы первыми сдать золото (и выполнить план – ред.). И что оказалось? Что он был посредником между одним начальником прииска и другим прииском, там были золотомойщики, как они назывались? Золотодобытчики (старатели-ред.), кто сам моет золото и сдаёт в золотую кассу, и получает там чек. И вот он перекупил таким образом два или три распадка с другого прииска. И начальник прииска, где был этот, скажем, Сахаров, получил срок. А он снова не получил. И какая судьба его – я не знаю, чем кончилось. Но вообще он мне рассказывал, что он был заместителем начальника отдела снабжения ХТЗ, это Харьковского тракторного завода. Завтракал в Одессе, обедал в Москве, а ужинал в Ленинграде. За что он сидел, я не знаю, у него было тоже десять лет. Но, видно, он тоже продавал, короче, вот такой.И он у нас был прорабом довольно долго. Ну, не долго, я, когда освободился, его уже не было. Кто был прорабом, не помню, но он уже был на Усть-Нере.
- А вы не скажете, какие были отношения между мужчинами и женщинами? Мужчины, они имели ну, например, лагерных жён?
- Нет, я такое понятие даже не знал и не имел, вернее, не знал. В Магадане три года мы были, бригада была 58 статья, но на производстве были – если я не рассказал, я сейчас расскажу это. Тот бригадир, Жданов, Афанасий Жданов, он был бригадиром сантехников у нас, у него – как теперь мне рассказали, я вам говорю, у меня в Москве есть одна из наших женщин, которые работали с нами,такая Зоя Дмитриевна Марченко. Могу показать даже фотографию той женщины, с кем жил этот Жданов. Это была такая Ванда Вроньска, полька. Ну там целая история, у неё мать была еврейка, она кончила в Швейцарии медицинский институт, а муж у неё был Вронский, он был один из сподвижников Ленина. У неё была одна дочка, вот эта Ванда. Они со Швейцарии переехали в Германию, Ванда там, по-моему, в шестнадцать или семнадцать лет вышла замуж за немца, тоже комсомольца, руководителя какой-то крупной в Берлине организации. И потом они переехали в СССР. Когда мужа в 32-33 году посадили, он просидел всю бытность Гитлера в Германии, десять или двенадцать лет в лагерях или в тюрьме, это её муж. И насколько мне Зоя Дмитриевна рассказывала, что она даже имела ребёнка от Жданова, от Афанасия Жданова, но ребёнок умер где-то на Эльгене. После освобождения она как не советская гражданка переехала в Польшу, из Польши она переехала в Германию. У неё были одна или две девочки, где, я сейчас не помню, она их нашла и забрала с собой, или одна умерла, одну только, я не помню детально всё, это мне Зоя Дмитриевна рассказала. И потом она вернулась в Берлин и там она обратно вышла замуж за своего первого мужа. А я с ней дружил, так как мне было с кем говорить на польском языке, она очень хорошо знала польский язык, и мне была как близкий человек. Вот такой вот случай. Мне рассказали потом, что еще один из охранников, который нас конвоировал, что он тоже женился на одной из этих женщин, но она, наверное, была бытовичка, я не знаю, в Магадане, он на ней женился. Там в Магадане был такой Учкомбинат, он закончил на машиниста автокрана. Ну так, это мне рассказали, уже даже не знаю, кто. А теперь могу показать фотографию, у меня тут есть, эта Ванда, в Берлине, только уже в Западном Берлине. А когда я разговаривал с этим Афанасием Ждановым – она была старше меня, лет на шесть, на восемь, я не знаю, – я говорю: «А что с Вандой? – Я даже не знал, какая судьба у неё. – Он говорит:- Ой, она очень себя плохо повела, просто сволочь. – Я спрашиваю – А что случилось? – Она переехала из Советского Союза, была в ГДР, а потом в ФРГ. И там она начала работать на Голос Свободы, вот, – говорит,- как она могла? -А я говорю – Афанасий, а что?
*
КОЛЫМКА, и, ж. Маленькая, тусклая лампочка. Возм. из уг.: напр., у В. Шаламова «колымка» самодельная лампочка на бензиновом паре
*
Александр Александрович Чепцов (1902–1980) – советский юрист, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР и одновременно заместитель председателя Верховного суда СССР, генерал-лейтенант юстиции. Один из организаторов сталинских репрессий.
Как я уже раньше сказал, у нас в бригаде было три комсомольца. Вообще, все остальные члены бригады, это были сибиряки. Из-под Иркутска, из-под Читы, некоторые рубили, строили баркасы. Вообще-то, это были потомственные плотники. С Владивостока работники. Всё это были люди, которые стремились строить Советский союз, социализм, справедливое общество, но, увы, они тоже попали вместе со мной в эту общую мясорубку. А три комсомольца были потому, что мы были самыми молодыми, а те были на двадцать, двадцать пять лет старше нас. Это был я, был Лёня Димитриев, у него была такая судьба: он дальневосточник, я не знаю, что с его отцом, но мать взяла где-то из под Владивостока или из Владивостока трёх сыновей и уехала на Камчатку. И когда пришло время в армию, Лёню призвали в армию и направили в Хабаровск на курсы младших или старших командиров. И там же, в Хабаровске, будучи еще курсантом, он влюбился в девчонку. Это была девушка с Харбина, и поскольку шла общая, общемировая чистка, её посадили. Она тюрьму не перенесла, она в тюрьме умерла. Как только она умерла, – он сперва не узнал, – но когда он начал спрашивать, где же моя жена, то и его посадили. Но ему дали по-божески, ему дали три года ДШ, ту статью о шпионаже, которую должны были дать, не дали. И вот с таким сроком он приехал, его привезли во Владивосток, ой, на Магадан, каким пароходом, не знаю, но он был в нашей спецзоне. А третий, это Виктор Трусов, он был из Благовещенска. Он кончил техникум по золотодобыче, техник-драгёр. И тут интересная такая же судьба, как у очень многих десятков тысяч советских граждан. Его посадили, был допрос, когда он сидел в тюрьме, а до этого он женился на молодой девушке. Видно, он её любил, они поженились, а через энное время его посадили. И когда он через следователя(попросил-ред.), чтобы она ему принесла одежду какую-то, или костюм, она ему ничего не принесла. Ничего, ни копейки денег, ничего. В чём дело? Она, пока следствие шло, она уже была замужем за замкаром (?). Вот такая судьба нас, трёх комсомольцев.
Было такое (правило-ред.), чужое лагерной системе, что всегда собираются два-три человека, и они кушают, так сказать, с одной миски. Вот и мы, у нас была такая система, что через день, когда были деньги, кто-нибудь из нас по очереди ходил в магазин, покупал буханку хлеба. Масла мы не покупали, если покупали, я б масла кушать не мог. Я, если ел, если можно было достать кусочек масла, то у меня начиналась такая изжога, что я уже на третий раз не трогал это масло. Конвой еще ж не был военный, а были ВОХРовцы. А ВОХРовцы – это всё-таки гражданские лица, и они уже знали много месяцев, лет эту бригаду, они были прикреплённые, потому что если бригада хорошо выполняла план, то они получали премии. А откуда были тогда деньги на хлеб? Когда заключённые-бытовики хорошо работали, начальник Дальстроя разрешал привезти свои семьи. И эти семьи назывались колонистами. А когда мы прибыли, семьи остались, жёны там с детьми оставались, а мужья уже были в заключении, и всё. Их сняли с посёлков колонистов и распределили по приискам, по дорогам. А топить печки же надо, у них же на дровах, а мы же плотники, у нас щепки, охапки дров, за них они нам давали хлеб или давали рубль. И вот таким вот образом мы получали раз в два дня буханку хлеба, подкреплялись, набирали силы для работы. Но я хочу рассказать два момента. Однажды вечером подходит ко мне молодой парень, и я не помню, «ты» или как еще: «Давай охапку дров, дам рубль». И назвал вот такой барак, и вот такая комната. Я, значит, стучусь, сдаю эту щепу, и смотрю – молодые девушки, молодые ребята в этой комнате. И когда мне хотели дать рубль, я убежал. А самая большая моральная трагедия было у нас– там же день короткий, и когда ты идёшь мимо, и ты видишь в этих бараках или рубленных домах окна, электросвет, и жизнь, морально это угнетало страшно. У меня еще был вот такой случай. К нашей бригаде подошла женщина, очень миловидная, лет под тридцать, наверное, я не знаю, и говорит: «Ребята, – у вольных это редко бывало, имели антагонизм к нам, тем более она не знает, мы блатные или бытовики или 58-я, которые под конвоем. Весь город обслуживали, в основном бытовики, бытовая статья, не 58-я, та не обслуживала город. Каждый начальник имел уборщицу или уборщика у себя, дневального, это целый комбинат обслуживания. – Надо врезать английский замок». Я зашёл в общежитие, в комнату, какая-то мебель, и я заметил в углу полку, а на полке стоял бюст Ленина. Или я, может быть, это заметил уже, когда эту работу сделал. Короче говоря, я стою и смотрю, а она тоже смотрит на меня: «Что вы так смотрите? – Я говорю – При чём тут бюст Ленина, в углу, на полке? – Она онемела и смотрит на меня, как на дикаря. – Я понимаю, Матка Боска Острабрамска, Ченстоховска, или другая – у поляков же есть такой культ, у православных нет, у православных в углу стоят иконы. А как можно ставить людей? Он же не бог».
Ну вот, я рассказывал, что мы питались втроём, и вот в один день выпала судьбы или честь, что я должен был пойти за хлебом. Я у конвоя попросил, он говорит, что, пожалуйста, на час, не позже чтоб ты пришёл. Я пошёл в пятый магазин, напротив шестой автобазы, это такой настоящий магазин. Я зашёл, касса, хлеб есть. Подходит ко мне женщина, когда я встал в очередь, и говорит: «Уходите, идёт облава». Я так посмотрел, не увидел ни ВОХРовцев, ни милиции, ни солдат, никого не увидел и остался. Через две минуты подходит ко мне человек в брезентовом плаще с капюшоном: «Ваши документы. Ну, идёмте». И он меня повёл во 2-ое отделение милиции. По дороге я уже выбросил два лезвия, которые у меня были в телогрейке, под ватой. Значит, допрашивали – кто, откуда, с какого лагеря, какая статья. И не помню: в этот день или на следующий, меня на транзитку. Есть пересылка, и есть еще транзитный городок. Меня привели,а там палатка такая брезентовая, большая, нар уже не было, и там двадцать человек. Один шибко блатной, и из всех нар он делал костёр и жег, чтобы всё время горело. Оказалось, почему была облава? В Охотском море есть такая бухта – Пёстрая Дресва. Это севернее Магадана. И там пароход может причалить только, по-моему, в сентябре месяце, это, видно, сентябрь месяц был, где-то в конце лета, сентябрь или октябрь месяц. И вот Дальстрой под управлением УСВИТЛа набирал людей на так называемую рабочую экспедицию. Значит, людей надо было набрать, две там, три тысячи человек, погрузить на пароход и отвезти, успеть выгрузить с охраной и производственным персоналом. Их всех – заключённых, это всё заключённые были, и управляющие, так сказать, мастера, маркшейдеры, взрывники, которые активно работали. Они должны были создать там жизнь. И их (держали-ред.)в особой зоне, двойное ограждение, и от нас было видно, как проходило к нам (…) … Вот они и ловили по Магадану людей и вот так они набирали. И я увидел, как у них работает санпропускник, которые мы построили. И когда видишь со стороны, когда идёт встык солдат – собака, и вот так человек триста гонят сразу, это вообще страшно. И видно, я тоже должен был попасть туда, в эту зону. Ну, понятно, они дали знать к нам в лагерь, на 10-й, и сразу поняли там начальники, вызвали этого Аркашку Смирнова, он пришёл, и ко мне сразу:- «А что ты тут делаешь?» Я ему как, как это называется, православная, отвести душу, рассказать – исповедь! Я ему говорю, так и так. А он спирт-то пил…
Один еще фрагмент я забыл рассказать, я его потом расскажу, когда кончится баллада вот эта, с этой экспедицией. – «Ну, пойдём». Провели меня в какую-то контору, и он там расписался за меня, подтвердил, что я действительно тот, кем я представился, принёс, может там была фотография в анкете, в личном деле, я так и не видел. От звонка до звонка не видел. И он меня привёз в эту зону, на 10-й километр, а там внутри только плотники закончили карцер. И я был первый, кто, так сказать, обновил этот карцер. Там лампочка была, электролампочка. И под нарами я нашёл металлический складной нож. Утром меня накормили (а там почти не кормили, в этой пересылке) и в бригаду на работу. И сказали, что ты будешь работать, а ночью будешь жить, ночевать в карцере. Всё-таки мне дали десять суток, и я вернулся в бригаду. В отношении этой экспедиции – то она вся погибла. И солдаты, и все; там видно, только первые люди выжили где-то в снегах. Потому что продукты все, которые привезли на пароходе, которые для людей были, налетел ветер, и пароход погиб. И только на следующую весну мы видели, как эти приведения из заключённых под руки работники НКВД вели в больницу, человек восемь или десять, скелеты. Вот это был один из таких фрагментов, как мне повезло.
До этого, когда мы еще были на (…) город стоял, это был 49 год, было весной, мы начали строить так называемый транзитный городок. Это должны были приехать пароходами вольнонаёмные. Нет, 39 год. Это у меня зафиксировано. И когда мы… да, это было около зоны, и там можно было – это и Зоя Дмитриевна в Дальстрое там работала, она подносила мох, конопатила. Там строили такие длинные бараки, небольшие, лёгкого типа, и сепаратки, как в вагоне на четыре человека. Как они прибывали с парохода, а гостиницы нет, туда их и помещали. Я потом расскажу, в этом бараке, на краю который был, вот этот Лёня Дмитриев узнал своего брата. Тот вольным приехал. Он приехал не работать, а помощником капитана парохода, который привёз продукты на Колыму. И кто хотел, конвой, мог уйти в зону обедать, а кто нет, то обедал на производстве. Что на меня нашло, я не знаю. И конвой: –»Так, бригада, стройся, идём в зону обедать. – Я говорю – Я не пойду. – Пойдёшь. – Я говорю – Я не пой-ду! – Пойдёшь!» – Я расстегнул рубашку, – Стреляй.!». Он за винтовку, и в эту секунду, в секунду какую-то, на линейке, на лёгкой бричке подъехал главный инженер нашего треста и выбивает винтовку и стреляет. Там же еще конвой есть, они уже дают выстрел вверх. Сразу прибежало три-четыре солдата с винтовками и мой Аркашка Смирнов. – В чём дело, – конвой успокоился, бригада ушла, а меня повели в какую-то небольшую комнату, в каком здании – я не помню, там одно окно, почти напротив окна стол письменный, у стенки стул, и около стула, и около стола тоже стул. А у входа в отделение тоже стул стоял. Я вошёл, сел, и я проспал пять часов. И когда меня уже разбудили, там сидел человек, пожилой, видно, это был какой-то следователь, и он начал меня допрашивать. Я тянул на 2-ю статью – сопротивление власти, правда, у меня уже десять лет. Он со мной поговорил, я ему всё рассказал, он говорит, – Всё понятно, десять суток (…собачьего)… Что такое – (…собачий) – это не карцер, не изолятор, а в зоне военного городка стояли три собачьи будки, только больше размером. И вот в одну из этих будок меня загнали. И я там проспал. Там был еще священник какой-то. Он мне сказал: «Наверно, меня на днях расстреляют» – – рыжий такой священник. К обеду приходит повар и говорит – идёмте, напилите нам дров. Тот не умел пилить, я напилил, получил колбасы. А на второй день пришёл Аркашка Смирнов и пошли в каптёрку. Выдали новую телогрейку, ботинки, шапку какую-то, рукавицы, и мы пошли. Подвели к какой-то машине, там уже сидело несколько человек, и нас повезли на 23-ий километр Колымского шоссе, и оставили в дорожной станции. Наша работа была – очистка кюветов. Это была весна, надо было спустить талые воды, потому что снега начинают только в мае, в конце мая таять, и вода появляется. Там был тоже барак, и начали кормить очень плохо. Раньше мы же были магаданцы, это же была аристократия, УСВИТЛовская аристократия. А там – лапша, крутую такую давали утром, в обед давали суп с лапшой, и вместо хлеба давали миску густой лапши. И вечером тоже. Там был рядом лагерь обрубков. Что это такое? Это люди, обмороженные в тайге, без ног, которые ходить самостоятельно не могли, или без рук. И вот там был целый лагерь. В основном, это были бедные люди для умирания. Но вот такое изуверство системы: что некоторых, которые еще могли как-то двигаться и у них было пол руки, гнали на сопку, чтобы они таскали кусок жерди или чего-нибудь для отопления лагеря.
Мы за десять дней прошли километров двадцать, наверное, очищали кюветы. И на десятый или двенадцатый день приехал Аркашка Смирнов и забрал меня снова в Магадан. Единственное наказание моё было – я думал, мне они подарили эту одежду, а они мне внесли её в карточку, это есть, элементарная карточка, но за шапку я платил. Где-то у меня пропала шапка, я купил шапку, попозже когда-то, меня спросили – Есть шапка? – Я сказал, что нет, я не получал.
Вот такой был, понимаете ли, казус.
До этого – это был 40 год, я сказал, да? – до этого нашу бригаду из Магадана, водили через такой канал, там, где теперь парусник стоит, это за теперешней городской больницей, там был кирпичный завод, а потом надо было спускаться, крутой такой спуск, и в этом Марчекане был ремонтный пароходный завод,в помещении погранотряда. Мы заметили, что там есть что-то типа чайной, кафе на берегу моря. Это была бухта Нагаева. Марчекан тоже в Нагаевской бухте. И кто-то узнал, что можно взять стакан киселя, а хлеб на столе. И вот мы туда начали ходить, пока не схватились, что мы покупаем на пять копеек кисель, а хлеба хватаем довольно. И через неделю, две-три – новость: пришёл пароход с Владивостока, и блатные подожгли в плаванье этот пароход. Пароход не подошёл до пирса и начал разгружаться. Людей, невольных и вольных, начали гнать через лёд, через бухту, нет, не через бухту, через порт, до Магадана. Все горелые продукты они оставляли прямо на льду. И заключённые в тюрьме, это всё беспроволочный телефон, и наш конвой разрешил нам, трем человекам, сходить туда и взять пол ящика обгоревших конфет. Так что мы оценили благо этого пожара.
- А когда вы узнали про войну с Германией?
- Это уже 41 год. Я потом расскажу. Когда нас гнали в выходной день, в воскресенье, это еще до войны, всё. Что я рассказываю, это всё еще до войны было. Ну мы построили этот погранотряд, перевели нас. В городе стало тревожно. Появилась так называемая банда Седова (?). Это была банда очень хорошо организованная. Потом выяснилось, там львиная доля была не только бывших заключённых, но и вольных, в том числе – наш прораб Никитин, заведующий городской библиотекой имени Пушкина, начальник финотдела Дальстрояи его жена, водитель 6-й автобазы, там в городе стояла 6-я автобаза. И многие другие. Они грабили машины, у них был блат узнать: как только машина грузилась каким-нибудь дефицитом, им сразу диспетчера – видно, тоже были среди них – сразу им давали знать. Там система была такая, что человек садится на капот машины, она догоняет грузовую машину и человек прыгает в кузов. Тогда зеркал не было, когда водитель делает правый поворот, он должен открыть дверку и рукой показать, что он делает правый поворот. Еще тогда так это было. И вот они грабили машины, грабили склады, там ведь кто был охраной? Заключённый, какой-нибудь старик, они его, значит, в матрас. Короче, вылилось в то, что на квартиры этих работников пришёл оперативник, видно он что-то почуял, хотел проверить квартиру. Они его убили, уложили в машину, и водители машин увезли на трассу и выбросили его. И тогда началось осадное положение города – на каждую улицу солдат и моряк. Когда это было, нас перебросили надстраивать городскую гостиницу, недалеко от магаданской электростанции. Это здание было своеобразной конфигурации, и там было, не знаю, тридцать комнат на первом этаже. И мы начали надстраивать, чтобы было в два раза больше. А недалеко от этой гостиницы уже были двухэтажные дома, так называемые восьмиквартирные. И малыши оттуда иногда подходили к нам. И если ты им дашь деньги, чтобы они тебе купили хлеб, то они деньги брали, а хлеб не приносили. Хотя это были дети очень обеспеченные. Это были уже ученики, третьего класса, четвёртого класса.
И вот как поймали, как разоблачили эту банду. Поймали некоторых членов этой бригады, этой банды. И вот однажды, почти на наших глазах, через дорогу, к такому восьмиквартирному дому, подошла машина и вышли два человека, молодые ребята, блестящие сапоги, прекрасные пальто, прекрасные пыжиковые шапки, и вошли в квартиру. И минут через пять-десять они спустились с двумя чемоданами. И в это время моряк и солдат, которые караулили эту улицу: «Стоп! Откуда? Кто вы такие? Садитесь, показывайте чемоданы. – Те бросили чемоданы в кузов: – Мы не пойдём». Один дал выстрел ему в колено. Тот, здоровый, залез в сам, этого бросили в кузов, и с этого начался процесс. Вот, и попал наш бригадир, очень жалко его, очень хороший был, только после института, Никитин. Писали, что семнадцать человек расстреляли.
Да, одно время нас начали возить, нашу бригаду… А, вот что я должен рассказать: прорабом был Хромцов, материковский инженер-прораб, заключённый. Начальником участка был Мусатов. Там мастером, по-моему, был Котов; а, нет, там другой был мастер, тоже вольнонаёмный. Но я денег не получал одно время. Почти всё время моей работы я не получал деньги. Это было еще до того, когда я шёл покупать этот ларьковый хлеб. Бригадиром был Жданов. Я ему говорю, – не помню, как его звать, – «Как это так, я же работаю со всеми вместе, я не перекуриваю, и почему некоторые получают деньги, а я не получаю?». Может, еще кто-то не получает, но молчит, а я-то ведь за справедливость. Он говорит: «А вот, на всех не хватает. Вы плохо работаете». А в каждой бригаде есть внутренний нормировщик, который заполнял наряды. А у нас был такой помощник бригадира по нарядам, Шемякин, я не помню, как его звали, он иркутянин, учился в архитектурном институте, комсомолец. И когда он перешёл на третий или четвёртый курс, его как комсомольца взяли на раскулачиваниев тридцатых годах.Он в том числе раскулачил свою тётку и дядьку, которые были старые политкаторжане, потом они жили где-то в районе Иркутска. И вот этот Шемякин, значит, заполнял наряд. Но до наряда – еще одну историю хочу рассказать. На этой же стройке с нами среди женщин работала его тётка, которую он посадил, и которую раскулачил. И она ему подчинялась. Женщинам-то легче, они получают паёк. И она его под кару подвела (?). Это такой фрагмент из жизни людей. Есть такая пословица – каждый делает себе. Есть такая притча: барыня шла по дороге с прогулки в лесу, и ей встретилась нищая. Почти каждый день она её встречала на этой дороге. И это барыне так надоело, что она заказала пирожок или пару пирожков с отравой. И когда они встретились, она ей подарила. Нищенка сказала спасибо и дальше пошла. И откуда ни возьмись – сын этой помещицы, где-то он был около. И он спрашивает у этой нищенки – есть ли еда, – она говорит – есть и даёт этот пирожок. Он съел и отравился. Каждый, кто что-то делает, делает это для себя. Так вот с этим Шемякиным вот так случилось. Я пожаловался Хромцову. Тот говорит, что ничего не может сделать. Я – к этому Мусатову, начальнику участка. Где-то мы сдавали какой-то объект (обрыв записи).
* * *
У меня уже была инструменталка своя. Люди жили, часть людей – у каждого прораба были свои люди – целый барак, забитый, но мне разрешили поселиться сразу в инструменталке с этим Костей. Захаров был умный дядька. И с нами еще был такой Семёнов, Илья Владимирович, москвич. Отец его был потомственный трубач в царской армии, в армии. Он был главным инженером дорожного строительства в Дальстрое, строил мост через Колыму у Дебина, это его, ему предъявили, что он все кайла и лопаты металлические заложил в бетон, на опоры, для того чтобы не выполнить план. Ему дали десять лет. Но он остался не на прииска, а в дорожном;он же был умнее, чем все вновь прибывшие дорожники. И он тоже был на Озёрной. Вот в один прекрасный моменткоманда: «Все в зону!». А меня – нет. Я в панике. Если все, и Илью Владимировича, Семёнова, то я, наверное, стукач, поэтому меня оставили, а больше как, как публика это воспримет? С этим словом не шутят в лагере.
Ну это прошло, угольники пошли, и на какой-то речке трактора разорвали эти два угольника. А они из брони сделаны, шкворни вот такие, оковка пришла с Магадана готовая. Готовые пришли и всё. Ну мы ничего не знаем. Потом приходит мой Борис Александрович, и говорит: «Марик, вот такое вот дело. Если мы за два дня не сделаем этот угольник, меня снимают с работы. – Я говорю – Что вы хотите, Борис Александрович?- Он говорит – Надо сделать. Выбери людей, кого ты хочешь. – Я говорю – Костя. – Ну, давай.». Ну слово есть. Ну вот мы взяли – я, этот Костя, тоже плотник, полковник Зинченко или Зенкевич, один земляк мой из-под Ровно, и еще кто-то, пять или шесть человек. А всё идут дни актированные, 58 градусов. Но светло. Это единственно что, не нужен этот, как называется, который сейчас пустили, чтобы солнце передавало свет, всё светло. Только мы ему сказали, прорабу, что оковку пусть трактора волоком привезут к нам на ту площадку, где мы будем. Мы ему сказали, где мы будем рубить. Пришли днём, срубили шесть стволов на продольный, и поперечные. Я, когда уезжал с этого АРЭКа, когда сбежал, то мне они дали американский инструмент. Это чудо вообще. Свёрла какие, Сталин таких не видел. Мороженое дерево, двадцать восемь сантиметров, раз – и всё. И, действительно, они нам привезли болты, всё. В двенадцать часов ночи мы приходим, стучимся в окно, они ждут. Заходим, я говорю: –» Борис Александрович, можете завтра прислать трактора, чтобы они перевернули угольник». Потому что рубится наоборот. Режущие части – рельсы, потому что иначе нельзя. И водила сделаны. И он поворачивается к этим своим сотрудникам, сподвижникам, говорит: «А что я вам сказал?». И берёт бутылку, которая стояла на столе, говорит: «Она моя». Я на него смотрю, говорю: «Борис Александрович, если бы я знал, что вы ставили пари на нас, вы бы меня под винтовкой, под штыком бы не заставили пойти на работу. – Марик, извини, вот так это к слову пришлось, всё, идите в барак, там хлеб, сахар, всё это есть». А потом привезли американский инструмент вообще, знаете, шахтные лопаты с ручками, кайла, что можно бриться, канадские топоры. И вечером приходит главный инженер, не мой – моего прораба всё-таки сняли. А, моего прораба сняли: приехал этот Бондаренко, начальник строительства конторы, и что-то он ему сказал реплику, и он его снял в маркшейдеры, в техники к его приятелю Чубакову. И вот он приходит: «Марик, вот такое вот дело случилось, меня направляют на новое прорабство, под прииском Победа, на работу к Чубакову маркшейдером. Если хотите. Тоже идите к нему. У него инструментальщиков нету. – Я говорю – Ну хорошо». И потом, на второй день, главный инженер, я, кажется. Видел его здесь, или его, или Уварова, еще у нас один был, понимаете, архитектор Магадана. Из-за меня он поломал палец; не из-за меня, он полез на ступеньки, которые я еще не закончил. Но меня не судили, слава богу, хотя меня два раза могли судить. И говорит, значит, так и так. Я говорю: «Мы поедем, если вы дадите нам инструменты, уже землеройные. – Хорошо, мы вам дадим». Даёт нам машину, без конвоя, и по реке Нера, есть такая река, чтобы летом переплыть, надо триста метров подняться наверх. И мы доехали до устья Бурустаха, поднялись наверх, приехали туда, и начали там создавать жизнь. Я всегда создавал жизнь. И вот однажды, – там много рассказать, – однажды я иду, и сидит какой-то человек, мне казалось, что пожилой, ему было, наверное, сорок два года, так, наверное, сорок два или сорок пять лет. Сидит этот человек, и я не знаю, в чём дело, подхожу, начали мы говорить. Он уже актированный, он уже ходит. И когда трассу делать, если ты идёшь, уже ямка, вот он ходит, делает эти ямки. А вообще, он потом на Победе учил детей первых классов, курс первого класса. И вот так вот мы познакомились. Она у меня где-то есть у меня, (…)
…это родители, это брат, который погиб под Сталинградом, вот этот. Младше меня, да. А два старших…
- Это мама, это папа.
- Да, они тоже погибли. И сестра с мужем тоже погибли, это старшая сестра среди нас, она очень красивая. Давайте, мы сейчас уберём, где-то есть её фотография. Вот, вот это она. А это я до женитьбы на Советский Союз.
- А сколько было всего братьев, сестёр?
- Было четверо братьев и трое сестёр.
- Оо, семь человек?
- Да. Средняя сестра уехала в 33 году в Палестину, а вторая уехала в 35, а я в 36, начале 37 уехал тоже, только в Советский Союз. Первые три рубля я в тюрьме заимел, когда я продал кальсоны свои.
- А где вот такое застолье – Ната молодая.
- Как рассказать, как мы встретились с Натой? Значит, я вам расскажу так. Ну, она мне начала писать, иногда, потому она писала, что ей папа сказал, что вот одинокий парень. Я, когда я кончил срок, меня всё-таки не выпустили на материк.
- Это в каком году?
– в 47 году. И я поехал обратно в своё управление, где я работал инструментальщиком, и кузнецом, и лошадей, понимаете, подковывал. И ухнали делал, и лошадей ковал, и радиаторы паял, всё, что вы хотите, всё. Кстати, там, где я делал этот угольник, я подсмотрел, как человек один, инструментальщик другого прораба, делал напильники трёхгранные, насекал вручную.
- Я не представляю, как насекать их можно.
– А вот представьте себе, я подсмотрел и под Победой стал делать напильники такие и цементировать их. Я в химии и физике ничего.
А на прииске Победа у них не было напильников, и приезжал начальник снабжения приисков, говорил мне:– «Марик, два напильника дай, я всё, что ты хочешь. -А я говорю – Нет, Павел Михайлович, идите к нему». И тот, действительно, брал и вино, и всё. Но я не был… потому что я ему говорил, что надо для напильников ещё уголь, кости, соль, целый компонент. Однажды, – мне надоело, сколько можно пахать, – правда. Начальник конторы мне говорил – может, пойдёшь в бухгалтеры? Там был какой-то Зайцев, заключённый, я-то был уже не заключённый, который меня начал учить русскому языку. Мне вот этот Костя, ну, я знал Пушкина, но Тютчев, понимаете там, Фет, Лермонтов, меня этому Костя научил, потому что знал. А это уже правильно писать по-русски.
- А где Вы родились, в каком городе?
- В моём городе вам дали грамматику. Греко-православную грамматику. В нашем городе была академия в 14 веке. Есть такой город – Острог, вот, там есть фотография. Князья Острожские здесь были. Острог – это ближе ко Львову.
Потом бог дал, пришла заявка на подрывников. И меня начальник конторы нашей включил в список. И приехал начальник отдела кадров с управления, с Адыгалаха, отбирать. И когда дошло до меня, он меня вычеркнул. Я захожу в кабинет начальника конторы, и этому говорю: – Почему вы меня вычеркнули? Сколько я могу? Вы меня не выпускаете никуда». А этот – по всем правилам. Он, значит, пистолет ко мне. Тот сразу – кончено между нами. Он говорит: «Иди, Марик, будет спокойно и всё». И он меня так и не пустил. А потом пришла заявка на десятников, на месячные курсы. А с отцом Фимы, я ему уже отнёс в забой хлеб, и консервы. И я поехал туда, кончил вот эти курсы, это 51 год. Вернулся, мне сразу дали старшего десятника, оклад уже хороший – то 20 рублей, всё-таки приняли зачёты, не зачёты, стаж пребывания, так что я уже получал 200 с чем-то рублей, это были уже большие деньги тогда, по-моему. А в 50-… – когда этот подох, в сентябре месяце, я пишу заявление, чтобы меня пустили хоть в отпуск. А для того чтобы вольный поехал, уволился, надо через НКВД, такая вот система была закручена. И я получаю ответ – у меня есть – «Виду того, что у нас нет разрешения от НГБ или КГБ, мы вам разрешения на выезд в центральные районы в отпуск не можем предоставить». Но до этого вернулся всё-таки один с нас, который всё-таки был в отпуску. Такой Илья Михайлович Стром (?). Но он получил, потому что он на Гирбе (?), – есть такая в Охотском море бухта Пёстрая Дресва, там пароход может подойти только раз в год, в сентябре месяце, чтобы люди высадились. Там пошёл пароход в 39 году, часть людей высадилась, и парохода не стало, и конвоя не стало, и продуктов не стало, ничего не стало. Это между прочим. А потом они начали бить туда от Мякита, или откуда-то, туда, до Гирбы (?), наземную, так сказать, трассу. И приехал как-то Линьков, начальник управления, сказал Строму Илье Михайловичу: – Если ты пробьёшь эту трассу, это твой участок, я отпущу тебя в отпуск.- Он говорит – Как вы сможете? – Даю слово коммуниста». И он его пустил. И он приехал, а ему уже было лет пятьдесят пять, или пятьдесят четыре, на Малую Бронную, у него была своя знакомая, это в домах барона Гирша, напротив еврейского театра. Где теперь домов этих нет, есть детский сад за ЦК. И он возвращается с женой, к нам на Бурустах. Я ему отдаю свою комнату большую, у меня есть еще за печкой маленькая комнатка. Но оказалось, что она была уже в положении. И вот она начала плохо себя чувствовать, и что-то со зрением у неё было. Её сразу на прииск Победа, оттуда начальник прииска дал им лёгкую машину, ГАЗики там были тогда. И на Усть-Неру, оттуда самолётом её в Магадан, в больницу. А первые трапы (?) уложить на этот, – я путаю одно, нет это я не путаю, бегло я всё рассказываю, – трапы на эту больницу делала наша бригада, и я, и Лёня Димитриев и Виктор Трусов – три комсомольца – я тут как-то нажил… хотел отдельную кассету записать – начали делать трапы, фундаменты для траншей. А до этого мы построили транзитный городок и меня чуть не убили, только выбил винтовку главный инженер стройконторы, выбил у этого солдата. Это между прочим было в своё время. Приезжали вольные и жили в транзитном этом городке. И вот этот Лёня, он дальневосточник, с Владивостока, мать собрала трёх сыновей и уехала на Камчатку. Те два – моряки, а этот самый младший попал в Хабаровске…
- Дело в том, что нам нельзя очень долго сидеть у вас…
- Хорошо, тогда я сокращу это дело. Короче говоря, рождается мальчик восьмимесячный, там его держат, и надо его вывезти на материк. У этого человека нет ни денег, ни времени, ничего. И мы подумали, пошли к начальнику, чтобы начальник нашего управления дал мне разрешение. И дал мне разрешение, я приехал в Магадан, и вот мы взяли мальчика, ему месяц и тринадцать дней и привезли в Москву. На второй день я был у Софьи Натановны в квартире. Это было 26 октября 53-го года. Потом она согласилась, – я не хотел, чтобы она ехала туда, потому что что такое Колыма, но она выдержала. Она работала в конторе. Вот так прожили сорок пять лет. И были в Америке два раза…
- Где вы только не были.
- Так что она всё это видела.
Я хочу, чтобы вы всё-таки чего-нибудь перекусили!
- Нет, нет, нет. По времени…
- Я прошу прощения, что перевёл весь этот разговор на себя. Всё-таки хочу я знать, что вы видели в Магадане? Что такое теперь Магадан.
- Ну, это было давно, я был там в 71 году.
- А-а, тогда я перебью вас. У Наты было плохо с правым глазом. Это случилось в Киеве, вот у этого человека, у которого мы… которого я первый раз встретил в 43-м году. И потом появилась врачиха, такая Нутьга, и она начала курировать в этойклинике, на Горького. И мы разговорились с ней. Она говорит: «Я работала она после института, в Магадане». А у меня Колыма лучшие года забрала. Я говорю: «Где, как? А где вы там жили? – Она говорит – В пятидесяти двухквартирном доме». Я получал триста грамм (хлеба) на семь часов и больше, когда мы жили в котловане на пять или сколько-то перекидов, знаете. Они поняли, что если они будут иметь экономию хлеба, котлована не будет.
- Спасибо за этот рассказ!
- Нет, это вам спасибо, что вы пришли. Я вам всё-таки дам фотографии, может быть вы заберёте, потому что эти фотографии вообще-то не мои. Тут все есть. Я вам еще покажу. Вот встреча интересная. Вы никогда такую фотографию не видели. Это Новосибирск, когда Новосибирску минуло, там было сколько-толетие. Это тот, я забыл, как его звать…
- Брежнев.
- Брежнев? С этой Натальей Михайловной были на Малой земле в одно время во время войны. Видите, так что у меня есть знакомство с Брежневым через… Кстати, хотите, я вам расскажу, как он мне помог поехать в Штаты. Потому что когда мне отказали, я сказал начальнику: «Как мне быть? Что мне по телефону сказать американцу, что после тридцати семи лет разлуки по каким-то государственным соображениям вы не можете пенсионера пустить на встречу». Он умный, он сказал: «Вы что-нибудь скажите, но я гарантирую. – а приглашение было только на пол года, – он вам пришлёт, а я вам гарантирую, что вы поедете». Я пришёл домой, а через два дня по всему Советскому Союзу: «Первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза едет в Америку». Я беру трубку и звоню брату покойному. А он сразу – в штаб конгрессмена, за которого он голосовал. Штаб доложил конгрессмену, конгрессмен пошёл встретиться с ним, видимо, сказал всё – имя, всё абсолютно. И нам, когда во второй раз пришли, с ходу дали разрешение. В 73-ем году, в конце, когда только еще могли Солженицына выгнать, а не пустить. Вот так вот мне в жизни везло.
- Это надо знаете кому? Это надо Маре Васильевой (?).
- Я ей сказал, Маре. Мне-то они зачем. Кто из вас ближе, может быть, Мара к вам подъедет. Я ей сегодня позвоню, скажу, что вы были.
Вот Мира…
- Да, Мира и Володя.
- Её-то я хорошо ведь знаю.
- А вот Мишка Хлолис (?). Мама не хотела, чтобы он далеко поехал, на Дальний Восток…
- Да, мама сделала. Она до последнего….Мы когда приходим в школу туда, говорят, мама до последних дней жизни плакала, что она своими руками убила…
- Ну, это судьба человека. Я с наводнениями, с пожарами боролся, с блатными, нищими, понимаете.
* * *
…заключённые из бригады Жданова не получали зарплаты 20 тысяч рублей в месяц, это дополнительный хлеб, не смотря на то, что работали не хуже других. Требовать боялись: при выполнении угроз бригадира – отправка в тайгу. Протестовал только я. Так что я ждал исполнения угроз бригадира, и такой момент нашёлся: (нес?-ред.) конфет какой-то килограмм, и когда мы подошли к проходной, бригадир шел немножко в стороне, и когда вахтёры начали обыскать, он говорит: –»Вот, у Марка конфеты, он пошёл купил конфеты». И вахтер говорит: «А ну-ка выходи.- А конвой говорит – Нет, не трогай его, пусть идёт в зону. Он не купил, он хорошо работает». Ну, тут я знал, что уже всё, он меня выгонит. Потому что у бригадира и нарядчика всегда находится общий язык. И через какое-то время, я не спал, вышел из палатки и сел. И уже после развода, когда уже людей-то нету, уже движения нет, есть только больные, ещё отказчики в зоне, и прошёл начальник лагеря, полковник Комаров: «Надо идти, набираться сил». Я набрался нахальности и говорю: «Гражданин начальник, вот у меня такой вопрос, вот такое положение. – Он говорит – Что такое? – Я ему рассказываю о бригадире. – Как фамилия? – Я ему говорю – Гершенгорен. – Не волнуйтесь, он вас никуда не денет. Он вас в тайгу не угонит». Через недели три его сняли с бригадирства. И говорят, что он пошёл в какую-то другую бригаду, и он на циркульной пиле отрезал пальцы левой руки. Вот такой, понимаете, момент. Ну это уже тянулось до… А, …
- До войны?
- Нет, не до войны. Я хочу теперь рассказать, что такое женщины, что такое советские люди и что такое КГБ. Или НГБ тогда было? Иже чекисты.
Среди женщин была жена бывшего работника ЧК из Саратова. Мы работали по шестнадцать часов. Может быть, даже на этой гостинице, когда рубили гостиницу. Где-то мы видели – идёт офицер, КГ-бист такой, чекист, очень хорошо одетый. Она начала на него смотреть, и видно у неё воспоминания, что-то близкое, что-то родное, она расцвела. Я ей говорю: «Фрида, – или как её, Фрида, по-моему, да – что с вами случилось? – Она говорит – Вот видите, как идёт? – Я говорю – Как, это? – Нет, всё-таки я к нему имею респект». Она получила письмо из Саратова. - "Пойдём, Марик, я тебе прочту это хорошее письмо». Писала какая-то её сестра. У неё девочка, которую сестра забрала, или тётка, или сестра забрала к себе. Значит, она читала, что дочку отправили в лагерь. Я говорю: «Как в лагерь, что, и таких детей тоже отправляют в лагерь?» Я не знал, что это пионерлагерь. Там работала и жена Якира, Соня, сестра была Якира. Там была наша знакомая, бывший комиссар армии или бригады Гая (?). Ну, это трудно рассказать. И вот, она теперь как будто дочь, она ей тётка, потому что мать вот этой комиссарши Гая (?) забрала её дочку к себе и её усыновила. Там много было таких женщин, их потом всех загнали в тайгу на Эльген, потом, после войны.
Я хочу рассказать про случай с братом и со строительством домика для прокурора. Даже не мы рубили этот домик, какая-то другая бригада делала этот домик. Но пошёл слух, что этот дом для прокуратуры, может быть, приедет комиссия для проверки 58-ой статьи. И ты бы посмотрела, как эти женщины нас чуть живьём не связали: «Давайте работать, работать и работать». Крышу крыть они помогали, мыть. Всё, приезжает прокурор для пересмотра этих статей. Всё, место закончили, прокурор не знаю, приехал, всё.
Когда нас сняли, начали строить городскую больницу, каменную, кирпичную, и напротив дороги транзитного городка мы построили два сарая для инструментов, где оставлять инструмент. И начали прокладывать трапы. И вот в один момент, а транзитный городок уже функционировал,там уже люди, Лёня говорит: «Ой, ребята, это же Коля пошёл, брат!» Смотрим на него, говорим: «Ты что, с ума сошёл, что ли? – Нет, но мне кажется, и по походке, и по лицу, это брат. – Мы говорим – Знаешь, ты подожди, он еще пойдет туда и обратно». Виктор говорит: –»Я его окликну». Вот представь себе, что на второй день, этот мнимый брат идёт к себе ночевать, или(может быть?) днём, ночевать он ходил в другое место, прости меня, в кабину свою. А охрана, вохровцы в оцеплении. Он подошел на угол и крикнул:. – «Коля! Твой брат Лёня – здесь!» Ну, конвой тоже поинтересовался. Они встретились, конвой разрешил Лёне пойти к нему. Он уже обратно пришёл, с консервами. Вот оказывается, что он пригнал (прибыл? - ред), как замкапитана по продовольствию. Ну, в общем, помощник капитана. Но что выяснилось? Я сказал нескромно (?), что он днём бывает в сепаратке, а ночью (…) в доме, который мы делали, городского прокурора Магадана. Даже видно бутылку какую-то донесли, прятали до 7-го ноября, я не помню, но такое было. Он нас подкармливал, а мы это вино в сушилку клали, в сапоги или валенки, что-то такое вот было.
Когда это было, я не знаю, но нас возили в Магадан, на 13 километр, начали там строить аэродром, и мы начали, по-моему, даже достраивать двухэтажные дома для комсостава или для лётчиков. Я даже где-то потерял кепку. Там были скамейки, ну, по-человечески жили, по-моему, даже без охраны, какой-то сидел в кабине(на вышке?-ред.), наверное.
Да. Я должен еще один фрагмент рассказать , как мне везло, слава богу. В Марчекане отремонтировали пароход «Дзержинский». Но они его не успели покрасить. Я не знаю, в чём дело. И его пригнали в Нагаево, и от нас взяли маляров и в том числе – некоторых плотников, как маляров, на этот пароход, чтоб мы докрасили этот пароход. Мы там и жили. Вот там нам давали, как его, вот такие маленькие рыбки, один жир. Они потом ушли оттуда. Ну маленькая такая, сантиметров пятнадцать. Не селёдка, потому что тихоокеанская селёдка – это большая селёдка. И на второй-третий день мне попало красить палубу. А на палубе стоят, я не знаю, как у моряков называется, отдушины такие, диаметром, наверное, сантиметров 40-35. Там есть окошки такие, стоечкивысотой 25 сантиметров, которые поддерживают крышку. И кто-то туда воткнул брюки для того чтобы ему не было холодно там жить. Я их взял, и взял их с собой в каюту. На второй день приходит старпом, или кто-то такой из этих механиков, и спрашивает: «Вы не видели, кто тут взял брюки? – Я говорю – Я взял. – А почему, для чего? – Давно уже не носил гражданское». А они были уже не целые. Они были рваные. «А кто вам дал право?» – Знаете, такой вот тон, он знал, что я никто вообще, пылинка, а он – начальник. Я говорю: –»Я давно не носил брюки, я всё ходил в этом,… – Ну ладно, возьми себе».
В каком году разобрали… А, видно, когда мы построили транзитный городок. Из-за наплыва вольных: мужчин, женщин же очень мало приезжало, мужчин очень много было, кто-то построил на 4-ом километре целый лагерь для нас, для 10-гоОЛПа. И вот в один прекрасный день пришёл оркестр, и дали нам команду разобрать забор, не палатки и бараки, а только забор. И у нас такое чувство, что мы уже всё, лагерь разломан, уже всё. А потом нас построили и загнали туда, а в этих палатках поселили вольнонаёмных. Но мы в 41 году тоже работали без выходных. И вот надо, что субботу и воскресенье, или только в воскресенье, на 21, на 26 это точно, – война ведь началась 22? К концу выходного дня нас построили и погнали четыре километра в баню. Это хорошо. Но погнали нас не по Колымскому шоссе, по трассе, а потом по Сталина, Школьной улице до санпропускника, а стороной, по Пролетарской. И мы проходили мимо ЖенОЛПа. И надо, выходной, я знаю, что женщины делают за пределами зоны, и в этот момент, когда мы проходили мимо этих ворот ЖенОЛПа, то эта женщина, про которую я сказал, что у неё девочку в лагерь отправили, пионерлагерь, Фаина, или Фрида, я не помню, как звали, крикнула мне:– «Ребята, началась война с немцами!» И мы вошли в баню, мы знали, что война началась. Ну, в первые дни мы работали нормально. И видно, моё начальство что-то… – а я всё время работал с этим Фёдором, кровельщиком, – и видно, начальство уже что-то поняло, потому что… А, на второй день уже прошла по баракам у нас чистка. Многих забрали и, видно, расстреляли тут же. По некоторым статьям. Один человек как сейчас я помню, он был, кстати, в бригаде Жданова. Там были бригады Жданова, Караченцова, были тоже плотники Федак, американец, про него надо вообще отдельно рассказать. Вот, бригада Федака, Абакумова, какой-то тоже бывший комиссар. И меня почему-то одного переправили в сторону Марчекана, где был кирпичный завод. И там тоже как кровельщика, делать какие-то формы. И тут в зоне шла уже чистка людей. И, наверное, дней семь я там был. И потом всё-таки меня взяли, и взяли вот этого Федака, бригаду Караченцова взяли, нас человек что ли тридцать взяли на тралёр(трейлер?-ред.) и вывезли в Кадыкчан. Это, наверное, километров семьсот от Магадана. И повезли нас от Берелёха и от Сусумана, это теперь один город, по старой, тогда это была единственная дорога, через серпантин(Серпантинку?-ред.), по Прижиму до Кадыкчана. А от Кадыкчана была дорога только до Аркагалы. Там есть такой Аркагалинский угольный бассейн, и оттуда возили уголь вплоть, по-моему, до Магадана иногда, восемьсот километров. Машинами возили туда. И нас привезли на Кадыкчан. И этот бригадир Федак организовал из нас, магаданцев, бригаду. В июле месяце это было, в начале июля. Нас поместили тоже в какие-то дома, зона была, всегда сперва делаем дом, строим дома, потом строят другую зону, а в этих домах живёт начальство. И это былитолько (проемы?) дверей, простенки и всё. Но нам выдали простыни, мы натягивали их и жили как будто под палаткой. Я первый раз узнал, что когда дождь и простыня натянута под уклоном, то вода не проходит, вода уходит. Получается какая-то плёнка и вот так вот она уходит. И мы там начали строить мостики, трюмы, начали в Лежневе (?)трассу, когда за этим Кадыкчаном направо началась снова дорога. Налево там километра полтора, наверное, до Кадыкчана, по прижиму. Направо – до Аркагалы, на угольный бассейн, а налево – новая дорога до Оймякона, где потом стали строить аэродром, и до Хандыги, до Лены. Потому что думали, что японцы отрежут Магадан, и поэтому надо трассу проложить на телека (?) (по теплу?).
Я брал селёдку. Селёдка попадала к нам мочёная, солёная. Кстати, соли не было – любые каши, супы. Селёдку иногда давали кусками и так, а головы они бросали в суп вместо соли. А я брал проточную воду и оставлял в ней до трёх дней, и вода была чистая абсолютно и холодная, что соль не вымывала
и через какое-то время.
Когда мы проложили дорогу до первого или до пол пути второго прорабства, (из)нас сделали колонну и (отправили?)до 5-гопрорабства эмтегейского участка, там река Эмтегей, это пятьдесят километров где-то до Кадыкчана. Где-то мы ночевали, в каком-то там месте. Охрана делала костры, ночью же уже холодно, мы тоже имели костёр, разложили и там ночевали. А делали пролаз (ширину? - ред.)фактически, три с половиной метра, по-моему, или четыре с половиной метра дороги. И делали такие разъезды еще, через каждые пол километра или километр. Когда видимость была, они делали разъезды дальше. Если водитель заметил, что какая-то встречная машина появилась, он заходил на разъезд, ждал, потом машина проезжала мимо, и он в другую сторону ехал. Мы там видели скелеты людей, кости, видно кто-то пошёл в побег или не знаю, вот таких людей видели вдоль этих прижимов. И на одной дорожке, на одном прижиме небольшом, сидела бригада, армян в основном. Они должны были сделать с нуля, на вторую сторону насыпать сантиметров тридцать. Вот и весь треугольник насыпать. И насыпь взять и только посыпать и всё и просто каждый один новый десять-двадцать метров отсыпать трассу (?). Они сидят и о чем-то разговаривают. Когда началась война и нас сразу в первый день погнали на аэродром, на 13 километр, а там в другой бригаде были молодые ребята, я забыл фамилии, они начали сачковать. Там надо было в телеги(тачки?) бросать грунт, развозить. Я работал, а у одного парня была фамилия Вершинин.Был такой маршалВершинин, по-моему, авиации или кто, Красивый такой парень, молодой. Он говорит – Ты что, с ума сошёл? Зачем я буду Сталину дорогу делать? – Я говорю – Это же идёт война, – я как чувствовал, – Против России, против страны. Вот такой вот момент. И, по-моему, даже в первый день или во второй день давали еще по пятьдесят грамм спирта. Сидит какой-то капитан или кто-то, бочка спирта или две бочки, и каждому наливали. Ну, я не пил, и так всю жизнь. Один раз я расскажу что я был пьяным уже вольным. Чуть ли не до белых колен(белой горячки?).
И мы пошли, пришли на 5-е прорабство. Что такое 5-ое прорабство? Стоит кол, досточка и написано – «прорабство №5». Но там уже была палатка, прораб и там было пять или шесть вольнонаёмных десятников, маркшейдер, техник и одна женщина. Наутро развод, ну, мы отдельно. Прораб проходит и мне говорит, мне и еще одному: «Ты будешь рубить раш (?) под пекарню». Это что такое раш (?) ? Это небольшой сруб, метра три, может, полтора и высотой сантиметров девяносто или метр. Туда насыпают гальку, камушки такие, которые водой обкатаны, гладкие. До верху или, может быть, крупные камни, а потом гальку. В бочках из-под бензина вырубают окошко такое, тридцать на тридцать. С другой стороны, сверху, вырубают типа отверстие для трубы, и это – под. Под, знаешь, что это такое? В бочке делается гладкое (дно?), топится вот эта бочка, бочка тоже обкладывается камнями, и там пекут хлеб в форме. Мы это всё быстро сделали, ему это всё понравилось.На второй день идёт снова развод. И снова мне везёт: мне одномуи одному молодому инженеру(прораб?) говорит – Вот, пойдёте обратно километров десять на четвёртое прорабство, – а там уже работали, они обрабатывали, там прижим такой крутой – пойдёте и посмотрите, где можно перейти речку, реку Индигирку, нет, эту, Эмтегею, и перевезти угольник с продуктами, а то вслед за нами возили продукты – крупу гречневую, муку, на лошадях вьючных. По дороге, не доходя до этого прорабства, сидит человек на пне. А пни, зимой же это, невысокие. Подхожу. Вижу, это мой напарник с тюрьмы. Видно, он уже актированный. Знаешь, что такое актированный? Он уже на общих тяжёлых работах (не работает). «Ты откуда, что?» – он рассказал. У меня было полпайки хлеба с собой, я ему отдал. понятно, что больше я его на этой дороге не видел. А у этого прораба, Семёна Дмитриевича Шевченко, уже была контора срублена. Это они раньше, наверное. Это мы магаданцы, а они, видно, с дороги взяли или с приисков, откуда-то взяли людей на строительство этой дороги. Когда мы зашли в контору, а я был с ремнём и топор с собой, инженер мне рассказывал, что вот, через две-три недели мы шапками угоним Гитлера, что война кончится, что вот так и так, что он кончил ленинградский дорожный институт, и их всех на Колыму направили, в Магадан. Когда мы пришли, около этого прижима я срубил такую, нет, не трость, палку длинную, метров четыре-пять, снял ботинки, может, и брюки снял, в одних почти кальсонах. Взял эту палку и начал щупать глубину реки. Вода холодная была, а он(инженер?) стоит там. И когда я дошёл вот так, уже дошёл до высоты мотора, я вышел и сказал – Всё, трактор не пройдёт. Тем более с санями, сани-то низкие, ну, может быть, можно было поднять, меньше груза, чтобы пройти. Ну, идите, хотите, чтобы прораб разрешил нам пройти с санями по прижиму. Но сани где-то еще, еще саней-то нет, трактора тоже нет. Значит, мы приходим туда, я-то заключённый, какое моё дело, а прораб говорит, или он не прорабом был, десятник, или техник-маркшейдер, – что так и так, там же люди есть, немного, но люди есть и почти что без продуктов. Зимой туда не доставили продукты, не завели зимников, а, нет, это совсем по другой дороге.
* * *
Я должен сказать, что у меня как-то получалось так, что я через несколько, через пять лет, через три года, иногда чуть ли не через тридцать лет я еще встречал людей, которые были со мной или в тюрьме, или по лагерям, проходили вместе со мной, носили тот крест, который нес я. Вот когда мы шли с 5-го прорабства до 4-го Эмтегейского участка, мы шли с этим маркшейдером или прорабом, я не знаю, кем он был, вдруг я вижу, на пне сидит человек. И почему-то издалека сразу мое сердце дрогнуло. Мы подходим, оказывается, действительно это был один из тех, кто со мной был в камере в Житомирской тюрьме, когда нас было пять или семь человек или девять человек, и нас двоих только вызвали на этап. К сожалению, к очень большому сожалению я забыл его фамилию. И мы с ним поехали до Харьковской Холодной горы, в тюрьму. Я не помню, был ли он с нами, со мной в вагоне, а может быть, наверное. И где-то во Владивостоке на транзитке я его потерял, как видно, потому что ... а может быть, и нет, может, он был на том самом пароходе «Джурма», которым мы прибыли. Но на пересылке в Магадане я его не видел. И даже может быть когда вызывали уже на отправку в тайгу, я не услашал его фамилию, я его так и не видел. В общем, мы разошлись. Вот после трёх лет, да, прошло больше трёх лет, я подхожу и вижу, что он сидит. Ну, видно, что он сидит уже один. Раз человек в тайге один, значит, что он уже актированный. Он был как раз на просеке, до первого прижима. От конторы, от 4-го Эмтегейского до прижима, там было, наверное, километра полтора или сколько, я не знаю. Там уже была проложена эта дорога, потому что 4-е прорабство уже функционировала как строительная единица. Ну, я подошёл, обнял, отдал ему свою пайку, потому что я видел – всё, и так больше я его в жизни не встречал. Мне было очень его жаль, это человек вообще не был приспособленный активно физически работать, сориентироваться на месте. Даже я не знаю, знаю только, что он был из мест недалеко от польско-советской границы, есть такой город Корец, теперь идёт прямая дорога от Киева на Ровно через этот город. И я его растерял. А другого, тоже с нашей камеры, к сожалению, когда я приехал первый раз в Израиль, это было в 89 году, к сожалению, я уже не застал его живым. Но он моим ребятам рассказал, что был такой парень, он уже не помнит фамилию, с города Острога, и что меня раньше взяли. И что вот столько лет я сидел в тюрьме практически без следствия и без приговора, и так ведь и случилось, что мне ведь объявили приговор только во Владивостоке, когда нас выгружали с парохода. И как конвой меня принял без, как это называется, анкеты, без личного дела. Как старый каторжник, я себе не представляю, потому что всегда, куда бы ты не пошёл, всегда личное дело шло за тобой. Был вот такой казус.
По-моему, всё-таки где-то я отражал этот факт, что всё-таки прораб Шевченко под натиском (обстоятельств?), или как-то осознавал, что там есть люди. Может быть, единственный случай, когда он отнёсся к людям как к людям. Потому что он имел очень реноме очень крутого прораба. Он всегда говорил, что я любой план выполню, мне только нужна бухта проволоки, охрана и пачка махорки. Потому что он становился у одного участка, там каждая бригада имела же определённую дистанцию – пятьдесят метров, сто метров, – он становился и говорил: «Вот, кто первый досыплет эту дорогу, этой бригаде я дам пачку махорки». Жизнь всё-таки его наказала. Когда он поехал первый раз (в отпуск), он уже был вольнонаёмным, и это уже было после войны. Я уже, по-моему, был вольным, я не помню, когда этот случай был, но это было после войны. Он поехал в отпуск, и, возвращаясь, он привёз с собой пароходом свою жену и племянницу. И вот жена у него на пароходе из Владивостока в пути не выдержала качку и умерла. И он её похоронил в Магадане. Вот такое несчастье было. Трудно сказать вообще, она не была причём, виновата в этом. Я лично ещё у него работал на 8-м Эмтегейском участке, и надо сказать, вся бригада ушла в тайгу в 41-м году, это было в сентябре месяце, и они так и пропали в эту зиму, вся бригада погибла. Все магаданцы, которых я знал. Я это узнал только в 43-м году на 8-ом Чай-Урьинском участке, когда я работал временно, случайно так случилось, где-то я отразил этот момент, на строительство АРЭКа, новой электростанции, которую купили у американцев. Я работал тоже как кровельщик. Там в инструменталку, где я работал, я пригласил двух человек, которые шли в АРЭК. Был очень большой мороз, градусов под 60, я их к себе пригласил, и среди этих двух человек был мой учитель кровельного дела, Фёдоров, ленинградец. Мы обнялись, плакали оба, и он не верил, что меня видит живым, потому что вся бригада погибла в 41-м году: «Как ты выжил, как случилось? Слава богу, что ты выжил, мы тебя обратно заберём в Магадан». Ну, потом я расскажу, что я всё-таки не хотел обратно в Магадан, потому что у меня была такая статья, а война была, это был 43-й год, еще же никто не знал, сколько она будет, и потом: из Магадана вновь куда-то загонят. А я уже имел какое-то уважение среди прорабов, каждый прораб хотел, чтобы я у них работал. А у меня был прекрасный прораб, Борис Александрович Захаров, он был мне почти как друг, ну, я ему тоже, так сказать. Впоследствии выручил его, это целая история, иначе он пошёл бы под суд, когда разорвались угольники в пути с Озёрного до Усть-Неры. Как только в управлении узнали, что разорвались угольники, а надо было построить зимник, тут же сразу приехал начальник управления Бондаренко и поставил вопрос: или-или. И вот мы, нас пятеро, в актированный день, ну там же морозы, дай бог каждому, и мы за какие-то четырнадцать часов при лунном свете построили этот угольник. Ну. Этот угольник мы срубили, нас было пять человек, Костя Бибиков (?), потом был Зинченко, полковник, с Белоруссии, и, по-моему, еще был один мой земляк из под Ровно, с Мизоча, молодой парнишка. Ну, как его взяли, это просто целая история. А пятым был председатель колхоза, тоже из Белоруссии.
* * *
…Наконец-то я собрался передать на кассете свою одиссею, которую я прожил. Жизнь моя сложилась так, что периоды моей жизни были как будто разделены на двадцатки. Вот, тюремная моя одиссея, или, вернее, прожитая в тюрьме и на транзитке во Владивостоке, и Житомирская тюрьма, и полтора года до объявления приговора во Владивостоке, и сама транзитка, всё это как-то давало отпечаток на мою жизнь. И я начал осознавать всё, что со мной произошло. Вот, эти шесть или семь дней на пароходе «Джурма», на котором с Владивостока привезли нас, упаковав около шести тысяч человек, в бухту «Нагаево», и ночью мы прибыли. Начали нас высаживать с парохода на материк, на землю, и сразу, как мы только вышли с этих трюмов, оказалась в бухте, освещённой кругом электрическим светом. Это была довольно тёмная ночь, что впоследствии редко бывало в тайге. Оттуда нас погнали на транзитку и загнали в большие сараи. В том сарае, где был я, и сидеть негде было, просто стоймя загнали всех в эти бараки. Я как всегда вёрткий, как-то сумел выбраться на… а, да, в бараке потолка не было, была только крыша и связывающие балки. Я выбрался на одну из таких балок, и пролежал до утра на этой балке, и я единственный, наверное, человек, который мало-мальски мог отдохнуть в этом стоящей, даже трудно назвать это… Люди не могли спать, стояли до утра, потом только выгнали уже на проверку и они смогли тогда размяться немножко. На транзитке нас держали несколько дней. Правда, потом начали всем нам менять обмундирование. Обмундирование дали довольно хорошее. Дали белые полушубки, ватные брюки, новые валенки, телогрейки, шапки-ушанки. И как будто нас куда-то должны были направить на парад. Но, увы, парад оказался не совсем благополучный. В третьем томе Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», у него в отношении Колымы почти ничего особого не сказано. Только сказано, что он про Колыму имеет очень мало документальных справок, но он знает одно про пароход «Джурма», который прибыл 23-го октября в 38-м году, что почти весь контингент парохода погиб в тайге. Откуда у него такие данные – я не знаю, но на этом пароходе был я.
Ну, через три-пять дней всех начали направлять в тайгу. Загнали в такой большой барак, но уже не стоя, а там скамейки были в виде амфитеатра, такое построенное помещение, и начали вызывать по сорок-пятьдесят человек. И на трейлеры сразу железные сажали, четыре конвоира по углам машины. И в тайгу. Весь контингент, вернее, не контингент, а знакомые, которые были со мной на пароходе, не на пароходе, а в вагоне. Это уже по системе, лагерной системе: люди, которые находятся в одной бригаде, в одном пароходе, в одной камере, это уже, понимаете, какое-то знакомое звено. И каждый старается придерживаться именно этих людей. И я остался один из общей массы, которая всё время уменьшалась, уменьшалась. Когда уже остались считанные десятки, я подошёл к нарядчику, спросил: «А почему вы меня не вызвали? Все мои знакомые уже ушли». Он меня спросил: – А ты кто? Как твоя фамилия?». Я сразу назвал свою фамилию, а он говорит: «А у меня такой фамилии нет». Оказалось, просто, что он слово «Гершенгорен» не мог прочесть. И он сказал, что нету. «Подожди, потом разберёмся». И когда уже осталось несколько десятков человек, я еще раз к нему подошёл, он ко мне может быть даже подошёл и сказал: «Давай, правильно скажи твою фамилию». Я ему сказал свою фамилию, ну и как на порядочной проверке: отца-мать, год рождения, статья, и всё. Ну, правда, надо вспомнить еще раз, что мне статью объявили только во Владивостоке. Я даже не знал, меня привезли во Владивосток, конвой, который меня принял в Харькове и сажал в этот вагон, меня статью не спрашивал. Почему – видно в анкете, на пакете моём была заметка – объявить только во Владивостоке. И во Владивостоке мне объявили десять лет, подозрение в шпионаже и иди, и говори Святому духу, кому, какие протесты, что можно было сделать. Ну это факт. И поскольку у меня на руках начали объявляться цинга и чесотка, поэтому меня и оставили в Магадане. Это меня и спасло, потому что первые три года я проработал в Магадане.
Поскольку я Россию и Союз вообще не знал и все методы жизненные для меня были всё довольно дики и непонятны, то надо отметить еще много моментов, таких, которые потом вспоминаешь и начинаешь удивляться. Так, во Владивостоке, когда нас обмундировали так прекрасно, то погнали колоннами, погнали по Колымскому шоссе, это центральная трасса, которая уходит с бухты Нагаева в тайгу, через реку Магаданку и там стояли резервуары наливные, с бензином или соляркой, и там нам выдали ломы, чтобы мы подготовили еще площадку под будущие резервуары. И как-то странно казалось, что лом мог отколоть меньше кубического сантиметра грунта. Потому что морозы уже были порядочные, всё было заморожено, и я удивлялся, думаю, какое это безобразие – выгнать людей, непроизводительный труд. Но для того чтобы доказать, что у них люди не сидят, а работают, поэтому нас выгнали. И надо еще сказать, что когда мы были на транзитке, нас довольно еще кормили оригинально: не в столовой, а на улице стояли столы, и на столах стояли по пять, шесть банных шаек, и туда наливали какую-то типа манной каши, и по пять-шесть человек выдавали ложки и так из этих бачков нас кормили. Надо сказать, что если часть этой каши падало на стол, она тут же замерзала. Но такова жизнь, так мы её и приняли.
С транзитки я был направлен в 10-й ОЛП, я даже не помню, под каким конвоем меня туда привезли. 10-й ОЛП находился в центре города Магадана. Он выходил на улицу, насколько я помню, на Пролетарскую, Колымское шоссе и на Дзержинского. Один угол, в одном углу, Дзержинского и в сторону бухты, там был известный дом Васькова, это магаданская тюрьма. Это было не единственное кирпичное здание, были в Магадане в то время только два здания, построенных из кирпича. Это были дом Васькова и почта. Это было недалеко от моста, который по Колымскому шоссе через реку Магаданку, с левой стороны по ходу в тайгу. Но увы, это здание лопнуло, потому что грунт начал оттаивать под фундаментом и потом специальные работы делали не мы, а контора, в которой я работал, делали специальные охладительные системы труб для того чтобы замораживать, чтоб сохранить это здание. Почему я это подчёркиваю, потому что я потом работал на первом здании, кирпичном здании, жилом доме, пятидесятидвухквартирном. И там у меня есть некоторые воспоминания. Там я начал, кстати, учиться на каменщика. Я и на Колыме тоже менял специальности, получая одну за другой, которую требовала жизнь, и это практически мне спасло жизнь, я вышел сравнительно более здоровым, как и многие-многие другие, которые остались живые, надо это подчеркнуть. Потому что в основном с каждого привоза, не привоза, а смены, не было. У нас была такая пословица в тайге, что помощь придёт, а смена – никогда.
10-й ОЛП – это был очень большой лагерь, его контингент обслуживал в основном строительство города. И в этом лагере ещё был один отдельный лагерь, так называемая спецрота была в этом лагере. И командиром этой спецроты был Аркаша Смирнов, которого я всю жизнь помню. Он много раз, пока я был в Магадане, меня спасал. Спасал тем, что не разрешал меня направить в тайгу. Потому что для любого магаданца слово «тайга» это был уже полу приговор гибели в тайге человека. Мне повезло вообще. Как видно, у меня есть какая-то святая звезда, которая мне всё время меня опекала, всю мою жизнь. Я, когда попал на 10-й ОЛП, то была пометка, что я должен был обратиться в медпункт. В медпункте был весь этот ОЛП – это были палатки, и бараков как таковых почти не было. Бараки были, в основном, для друзей народа – для блатных и для бытовиков. А мы жили в палатках. Была особая зона, окруженная. В этой зоне лекпомом был поляк, к сожалению, я не помню его имени. И он довольно хорошо ко мне сразу отнёсся, поскольку мы, так сказать, нашли общий язык. И он меня направил в УСВИТЛовскую больницу. УСВИТЛ – это Управление Северо-восточных лагерей. Это здание находилось с тыла электростанции. Электростанции, которая уже работала для освещения, энергии, промышленной энергии, и даже для некоторых приисков и для некоторых, по-моему, управлений. Это была большая ТЭЦ и она давал энергию на большую часть территории магаданской области или, как мы это тогда называли, на Колыму. И странно, когда я пришёл туда, это был длинный такой барак, с комнатами, где принимали врачи, и я от своей простоты зашёл, спрашиваю: «Где тут шкурный врач?». Все рассмеялись, говорят: «Какой шкурный врач, кто тебе нужен?» – Я говорю, вот, у меня такое, ну мне показали, где находится нужный мне врач. И меня оставили потом при больнице. Если я прибыл туда где-то числа 27-го октября, и я там пробыл в больнице до 6-го ноября. Лечил меня, в основном, это был такой профессор Орлов, москвич, правда, я после ноябрьских праздников вторично был направлен в больницу. Но к 7-му ноябрю, 6-го ноября или 5-го ноября, всех нас. 58-ю статью, всех выгнали и отправили по своим лагерям. Потому что полусвободными быть в больнице таким людям, врагам народа, как нас называли так всю жизнь, до конца, даже до реабилитации (не полагалось). Потому что все, кто работал в управлении УСВИТЛа и даже вольнонаёмные, которые работали на руководящих местах работы, они нас всегда воспринимали как какой-то чужой элемент, который тоже должен быть уничтожен. Хоть мы назывались (перевоспитывались-?), срок давали для перевоспитания, так сказать, но всё равно вся Колыма – это место гибели сотен тысяч людей, привезённых специально с двойной целью: и выжать последние силы, и дать золото, и строить дороги для добычи золота, для приисков, а в итоге они должны были быть, эти люди, уничтожены. Кто имел пять лет, те вообще были наказаны на второй срок.
Почему-то весь путь моей лагерной жизни, и после лагерной жизни на Колыме, поскольку, когда я отбыл срок, мне всё равно на материк не разрешили выехать, да и некуда было выехать, но в основном люди мне доверяли, как и я до некоторой степени. Я по своей наивности был доверчив и не понимал, что такое стукачество, что любой человек может тебя продать за пайку хлеба. Была система во всех, даже дорожных лагерях, что каждый оперуполномоченный имел одного или двух стукачей, которые ему всегда докладывали, кто что говорит, кто чем дышит.
Но я вспоминаю о таком довольно казусном, но факте жизни. В этой же больнице был человек, который, в своё время был в Красной армии, и он был в Красной армии (командиром?), ну я не знаю истории, понимаете, вообще руководителей и командиров Красной армии. Ну он рассказал, или он во сне рассказал, не помню теперь это, что пришли они к Троцкому, как его там звать, забыл, Лев Давыдович, и сказали, что Лев Давыдович, видите, что творится? Дайте команду, и вся Красная армия будет на все сто процентов вам подчиняться. А он говорит – Нет, я это не сделаю по двум причинам. Во-первых, я еврей. Я не имею права стать во главе государства. И так вся публика, напряжена тем, что творится в нашей стране, а когда я приду, то сразу не смогу наладить жизнь нормальную, и это доведёт до гражданской войны. А во-вторых, вторую гражданскую войну, говорит, Советы не переживут. И он отказался. Ну это такой штрих, который мне просто вспоминается.
Когда меня вылечили, меня направили на работу. Это была организация Магадангорстрой. Я, как сказал, начал сперва, даже не помню, каким образом, на какой стройке я был сразу, но потом начали закладывать вот этот пятидесятидвухквартирный дом. Это угол Колымского шоссе и этой сволочи Сталина, теперь она Школьная. А за ней по улице Сталина была резиденция Павлова. Когда он был вновь назначен, предыдущего комиссара Дальстроя, начальника Дальстроя Берзина расстреляли, и всех его соратников, которые с ним были в руководстве Дальстроя, расстреляли, и заместил его Павлов. Я почему об этом Павлове, потому что потом на другой стройке, когда ночью меня оставили жечь костры под фундаменты, подошло два человека, и я потом только понял кто. И спрашивает меня один: «Что ты тут делаешь? Кто ты такой?» – Я говорю, что вот так, тут делаю, мы закладываем, столовая тут будет городская, и меня поставили… И начал он интересоваться, кто, что, а потом оказалось, что это был Павлов со своим телохранителем. А у него был свой, ну это не дворец, а его резиденция. Вот так у меня было даже какое-то знакомство с ним. Надо сказать, что когда прибыл Никишов через два года или сколько, то тоже он пришёл на стройку, где я работал. Там он с парохода приехал на стройку, но уже на другой объект. И у него даже была там стычка с одной девушкой, которая освободилась и работала штукатуром. Он что-то ей сказал, она ему полуматом ответила, как в блатном мире. А он: «Как ты, кому ты это говоришь? Я, понимаешь, приехал, я тебя сгною! – Она говорит – Ты меня сгноишь? Я уже срок отбыла». Так что это первые слова Никишова, который потом гулял много лет по Колыме, имея право расстрела и помилования. Мне тоже пришлось как-то познакомиться. Больше эту сволочь я не видел.
Когда я начал, в первую очередь нас поставили на рытьё котлована, и мы вырыли. Котлованы были там глубиной до семи метров. Это была тройная, четверная перекидка. А поскольку норму грунтами выдавали, а мёрзлый грунт (долбили?) ломами, тогда даже не было отбойных молотков там у нас, то мы сели на трёхсотку, 300 грамм хлеба. Наверное, по моей инициативе, тогда была талонная система, первый паёк, второй, третий, пятый – это был какой-то… ну, короче говоря, мы свои талоны для обеда вывесили на верёвках и уже не работали. Но контора, для кого мы работали, строительная контора, пошла нам на встречу, и начали нас кормить, уже давали по 700 грамм хлеба и обед, ужин, как будто мы выполняли все эти нормы. Там я начал учиться на курсах каменщиков. И я работал, наверное, до второго-третьего этажа, а потом потребовались плотники, и я перешёл работать плотником. Ну, это легче было, потому что ты независим ни от кого и сам выполняешь свою работу, и она как-то более живая. Но у нас был казус такого порядка: бригадиром был некто Жданов. Бригада была, в основном, из сибиряков. Там нас было только трое молодых ребят. Я путаю одно с другим, потому что хочется… Ну, это я потом расскажу, про этих ребят и про эту бригаду. В основном были иркутяне, с Дальнего Востока, это были партизаны дальневосточные, даже был из Черемхово один. Почему я помню Черемхово, потому что два года тому назад, нет, в прошлом году, по-моему, к нам в дом постучался парень с Черемхово, просил у Фимы материальную помощь. Фимы не было, мы ему что могли сделали, накормили, напоили, дали ему даже одежду, и потом он как-то больше к нам не пришёл. Поэтому я помню слово «Черемхово». А где это, точно я даже не знаю. И бригадир почему-то всем выписывал деньги, ну, на хлеб, на лук, а мне выписывал он просто копейки. Я пришёл к нему и говорю: – Что это такое, это же безобразие. Я работаю, как все. – а он говорит – Нет, ты не так работаешь, ты еще не умеешь работать. Тебе это не полагается». А наряды писал парень с Иркутска. Это тоже такая довольно интересная личность. Он учился на строительном факультете в Иркутске, на третьем курсе, по-моему, и как комсомольца, его сняли с учёбы и послали на раскулачивание в провинцию, в область. И он среди всех раскулаченных раскулачил свою тётку и дядю. Тётка была его родная. Они были политкаторжане ещё. И, увы, эта тётка потом оказалась в ЖенОЛПе в Магадане и работала, как многие женщины, которые по 58 статье. Им не давали никаких блатных работ по городу, работали на стройках. И потом, – фамилия его Шемякин, вот видите, я вспомнил – она ему приносила хлеб. Кормила его за то, что он её раскулачил. Вот такие вот были истории.
Но почему я подчёркиваю моё, так сказать, сопротивление бригадиру, почему он не кормит. Он ни в какую: «Не нравится, отправлю в тайгу». Почему он имел ко мне такое отношение, я не знаю. А поскольку курсы каменщиков еще шли в одну из ночных смен, я перешёл на какую-то ночную работу. Утром рано я не мог уснуть и сидел около палатки. И после развода появился полковник Комаров, начальник лагеря, и подошёл ко мне, и спрашивает: «Что вы тут делаете? Вы что, этот,- не помню, как это называется, – тебе дали право не идти на работу? – я говорю – Нет, я с ночной смены, и к тому еще учусь на курсах и поэтому я не сплю. – он говорит, – Надо позавтракать и надо идти спать. Силы набраться надо на работу». Я набрался смелости и говорю: «Гражданин начальник, у меня вот такое положение, что бригадир хочет направить меня в тайгу из-за того, что я требовал, чтобы он на меня тоже выписывал какие-то деньги. Он мне сказал, что он с нарядчиком живёт очень хорошо, и при первой отправке людей в тайгу он меня направит». Он (Комаров) говорит: «Как твоя фамилия? – Я ему назвал фамилию, он мне говорит – Ладно, не волнуйтесь, вы в тайгу не пойдёте». И в итоге потом сняли бригадира. Мне сказали, что для того чтобы не работать, он где-то на циркульной пиле отпилил себе – был он так называемым саморубом – отпилил себе пальцы левой руки, для того чтобы не работать.
Но до этого были ещё такие случаи: мы, когда работали и кантовали брёвна, то местные жители – там были жёны колонистов… Что такое колонисты? Это люди, которые получали срока, их направляли на Колыму, и они имели право вызвать свои семьи, и они жили семьями. А после 38-го года всех колонистов снова загнали в зоны, а семьи остались сами по себе. И мы щепу им продавали, а они нам давали кусок хлеба, и что-нибудь поживиться. Потому что хоть и Магадан, а всё равно кормили не ахти очень сильно. И надо сказать, а это было ещё при бригадире, одна из этих жён колонистов всегда приходила ко мне и брала у меня щепу. И поскольку уже после разговора с начальником я получил какие-то деньги, я попросил, чтобы она мне принесла конфеты. И когда мы проходили через верхнюю вахту, бригадир говорит – а там же порядок такой: по четыре человека, или по пять человек – первая пятёрка, вторая пятёрка, обыскивают как в направлении на работу, так и с работы, всегда идут обыски. Бригадир говорит: «Вот этот купил себе конфеты, оставьте его на вахте». А конвой запротестовал, сказал: «Нет, мы не дадим. Он хорошо работает, пропустите вместе с конфетами». Вот понимаете, какой это был человек, просто он меня хотел отправить в тайгу. Ну, слава богу, в тайгу попал он, а не я.
И еще были такие вот моменты. Однажды вечером подошёл парень какой-то молодой, и говорит – Вот в этот барак, такой-то номер, отнесите дрова, я с вами рассчитаюсь. Ну, расчет это был, наверное, рубль, я не помню стоимость этих денег и что на них можно было купить. Я набрал целую вязку конфет (видимо, дров), пришёл, постучался, положил эту охапку дров. И там были договорники, или направленная, как я потом понял, после учёбы, молодёжь, и когда я увидел там молодых девушек, я бросил и убежал.
Ещё один случай, довольно тоже характерный. К нам подошла женщина одна, довольно миловидная дама, ну это в моём понятии, молодая женщина, и говорит: –»Вот у меня есть замок, может быть кто-нибудь из вас его врежет, поставит на дверь». Как-то все постеснялись, а я говорю: «Давайте, я пойду и это сделаю». И вопрос не в том, чтобы поставить замок, а меня поразило – это была комнатка, потом оказалось, что она жена лётчика северного, ну, летавшего в северном направлении, довольно известного лётчика. Но меня в этой комнате поразило то, что в углу была полочка и стоял бюст Ленина. Я встал и смотрю. Видно, на моём лице было такое недоумение, что она спрашивает: «Что такое? Что вы видите? Что вы смотрите так? – Я говорю – Позвольте, я привык, что в углу стоит или святая Матка Боска Ченстоховска, или фигура Христа, но при чём тут Ленин? – Она говорит – А, вы откуда?» Ну, это один из штрихов моего непонимания этой жизни, к которой я должен был привыкать. И надо сказать, что я четыре года даже не ругался матом. Это было на удивление всем и вся.
………………………..
Мне придётся делать много обратно воспоминаний. Я хочу сказать, как я вышел с этой… что меня спасло от цинготного состояния. Этот лекпом дал мне пол бутылки рыбьего жира. Поскольку селёдка – это была не проблема в лагере, и я привык. Он мне велел всегда, для того чтобы воспринимать этот рыбий жир, ложками его надо было принимать, а (заедать) селёдкой. И я, действительно, до сих пор могу ложку рыбьего жира съесть, или принять. И это меня спасло от этих всех болезней. Но когда мы работали плотниками, и я в том числе, трещины на пальцах были до самых костей.
Я сказал, что в этой бригаде, среди этих пожилых плотников, мастеров плотницкого дела, было нас трое ребят. Это мы сами себя назвали «три комсомольца». Это был Володя Трусов из Благовещенска, он кончил техникум по направлению золотодобычи, драгёром. Женился, но, как видно, очень неудачно, что ему стоило вот эти десять лет лагерей. А неудачно было в том, что когда его забрали по какому-то навету, и он попросил жену свою молодую принести ему костюм и хлеба, она ничего ему не принесла. А что оказалось – оказалось, что она тут же, сразу вышла замуж за завгара предприятия, где он работал. И, видно, система тогда и была, что муж закладывал жену, а жена уходила к другому, писали доносы, это была вся система Советской власти. В тайге я его снова встретил. Он тоже попал в дорожные. В итоге он женился на якутке, где-то в районе Оймяконского аэропорта, и там он жил. Я не знаю его дальнейшую судьбу, потому что мы разошлись по разным направлениям. Я его встретил второй раз на направлении Кадыкчан – Оймяконский аэродром. Об этом потом уже будет разговор другой, это уже было, когда я работал в дорожном.
А второй был Димитриев, Леонид Александрович. У него тоже судьба довольно оригинальная. Про это потом я расскажу, постараюсь рассказать, как он встретился со своим братом, капитаном 2 ранга. Это уже было почти перед войной, перед началом войны. Лёня этот, как мы его называли, Лёня Димитриев, учился в Хабаровске в школе младших командиров. И там он познакомился с девушкой из Харбина, он женился, и прошло, наверное, два-три месяца, эту девушку посадили, и она впоследствии в Хабаровской тюрьме умерла. Видно, для нее вся советская жизнь была не в понятии. Ну, короче говоря, он получил официальную справку, что она умерла, не пройдя еще полностью следствия. Ему дали три года по подозрению в шпионаже за жену. Мы очень дружно, все комсомольцы, жили.
Я вспомнил слово – Аркашка Смирнов. Поскольку тогда еще не было военизированной охраны, регулярных частей МВД, а была только наёмная охрана в Дальстрое. Охрана дневная довольно (терпимая-?), хотя она проходила каждый день политзанятия в направлении, что хуже нас людей в мире нет. Она нас довольно (хорошо-?) знала, отпускала в магазин – иногда там покупать хлеб, ну что мы могли купить на наши копейки, которые мы имели. И вот каждый раз, каждый второй день должен был кто-то из нас пойти купить буханку хлеба, что мы делали, чтобы подкрепиться и лучше работать. И вот в один такой день выпала мне доля пойти в магазин за хлебом. Я пошёл. Это был немножко такой даже не пасмурный день, я пошёл в Магадане в 5-ый магазин. Это ближе к реке Магаданке. Зашёл в магазин. Подходит ко мне женщина, говорит – Вы уходите, идёт облава. Я так посмотрел, думаю: – Облава, тут? Там было шесть или семь покупателей, думаю: – Возьму себе хлеб и уйду. Как я только встал к кассе, подошёл человек в брезентовом плаще с капюшоном и мне говорит: – Ваши документы, кто вы такой? Ну, что мне осталось делать? Я ему доложил, он отвёл меня во 2-ое отделение милиции. Я даже не знал, что там есть милиция, кроме работников охраны лагерей. У меня в бушлате были лезвия, откуда они взялись – не знаю, или я их купил за кусок хлеба.
