Не сотвори себе кумира
Не сотвори себе кумира
Богатова, А. И. Не сотвори себе кумира / Богатова Агриппина Ивановна; – Текст : непосредственный.
Предисловие к публикации воспоминаний А. И. Богатовой
Две пожелтевшие общие тетради в коленкоровых обложках, объемом 96 листов каждая, принес в библиотеку Сахаровского центра Александр Владимирович Турков. Тетради были исписаны аккуратным, довольно хорошо понимаемым почерком. Все сто восемьдесят восемь страниц одной тетради были заполнены полностью, во второй тетради исписаны только пятьдесят пять страниц. Нумерация страниц, а всего их двести сорок три, сплошная для первой и второй тетради. На некоторых страницах внизу есть затеки, не позволяющие прочитать отдельные слова.
На форзаце первой тетради написаны фамилия автора и инициалы: Богатова А. И.
Ниже – название: «Не сотвори себе кумира». Тут же приписка: «Мы обязаны были не допустить этого».
На титульном листе вверху: «Второй вариант». Ниже повторено название и приведено оглавление всей рукописи. Все это хорошо видно на фотографиях.
Александр Владимирович Турков сказал, что рукопись попала к нему случайно, тетради передали его знакомые. Как они попали к ним, он не знает. А.В. Турков — сам автор воспоминаний об отце Латкине-Туркове Владимире Дмитриевиче, узнике Сухановской тюрьмы, опубликованных, так же как и воспоминания его отца, на сайте Сахаровского центра. Он понимал ценность этих тетрадей и принес их нам.
Мы попытались найти хоть какие-то сведения об авторе воспоминаний. В первой тетради в тексте на стр. 129 начальник колонны Андрей Иванович Белинский , обращаясь к автору воспоминаний , называет ее Агриппиной Ивановной: «Придется вам, Агриппина Ивановна, принять бригаду…». Можно предположить, что автором воспоминаний была Агриппина Ивановна Богатова. Причем, скорее всего, это ее подлинная фамилия, т.к. в той же тетради на стр. 109 автор пытается заменить фамилию Богатова на Терпигореву. Больше замен не было.
В тексте неоднократно упоминаются Ухта и Воркута — на стр.112 тетради 1: «Я попала в растениеводческую колонну Ухтинского совхоза, расположенную в двух километрах от Чибью…»; на стр.193: «В конце декабря 1937 года добрались до местожительства, совхоз «Кочмес», в трехстах километрах от Ледовитого океана, в шестидесяти километрах от Воркуты…». Мы решили поискать Богатову Агриппину Ивановну в книге «Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв политических репрессий».
В томе 8, часть 1 книги «Покаяние» мы нашли справку:
Богатова Агриппина Ивановна, 1903 г. р., русская. Арест. 29.07.1936 г. Приговор: 10.09.1936 г.; ОСО при НКВД СССР; ст. КРД; срок: 5 л. л/св. Выб. 01.07.1946 г.; Инталаг. (КомиКП-8 ч.1: Воркутинское отделение УхтПечлага).
Многие даты и сведения совпадают с воспоминаниями: дата ареста – лето 1936 года, срок приговора, место отбытия приговора – Воркутинское отделение УхтПечлага. Все это позволяет с большой степенью вероятности сказать, что автор воспоминаний – Агриппина Ивановна Богатова. Агриппина Ивановна в конце рукописи расписалась и поставила даты: «1965–1971 годы».
Очевидно, она готовила рукопись к изданию. Об этом говорят надписи на титуле: зачеркнутое слово «Черновик» и надпись «Второй вариант». Рукопись написана хорошим литературным языком, профессионально, ведь Агриппина Ивановна Богатова печаталась в «Красной газете» и в журнале «Рабселькор», работала в отделе писем в «Рабочей («Красной») газете», о чем она пишет в воспоминаниях.
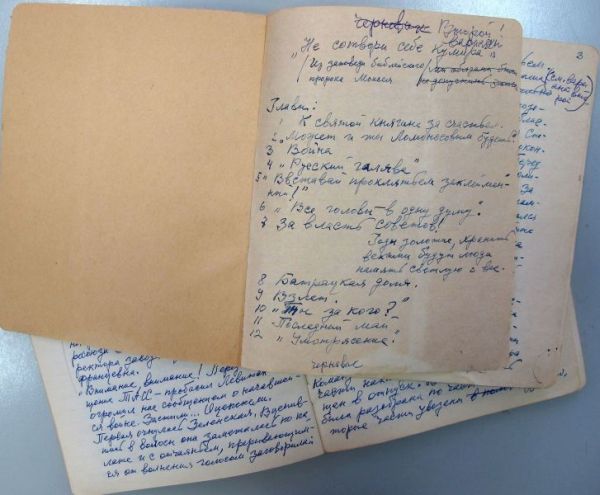
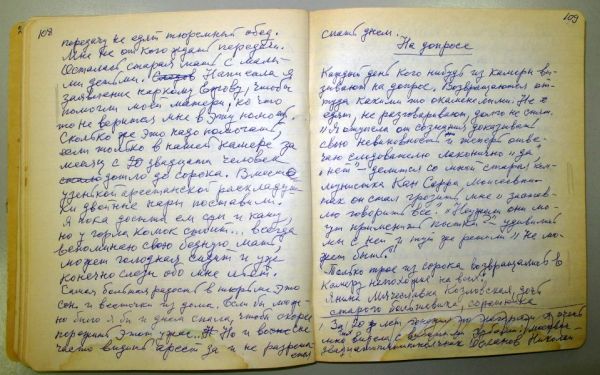
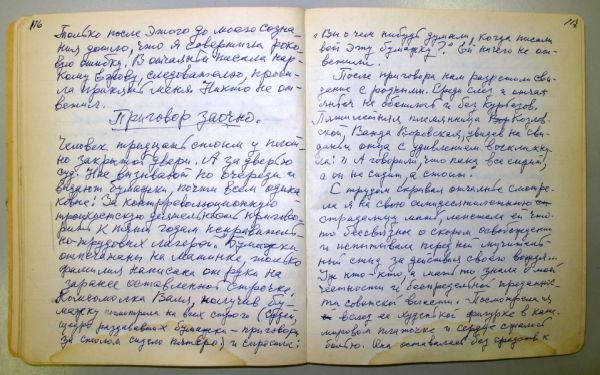
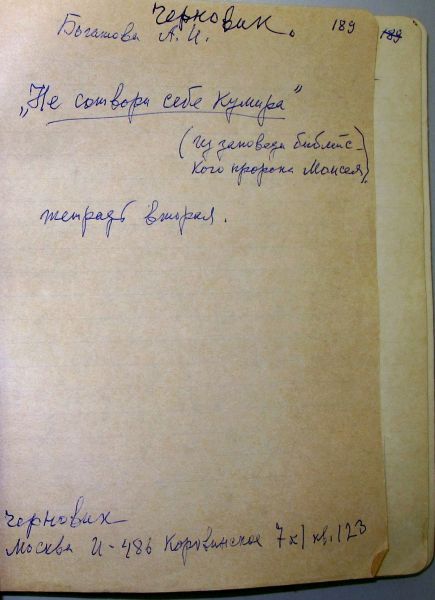
Главы:
- К святой княгине за счастьем.
- «Может, и ты Ломоносовым будешь».
- Война.
- «Русский галявá».
- Вставай, проклятьем заклейменный!.
- «Все головы – в одну думу».
- За власть Советов!
- Батрацкая доля.
- Взлет.
- «Ты за кого?».
- Последний май.
- «Умотрясение».
- Приговор – заочно.
- Этап.
- В кругу отверженных.
- И снова этап.
- В «земном раю».
- «Война, разве здесь мое место?».
- Начальник погрузки Ушлый.
- Победа!
- Третий и последний этап.
- Смерть Сталина – конец злого рока.
Глава 1
К святой княгине за счастьем
Мы – Богатовы, [хата наша] [среди] (см. вариант второй) поредевших лесов. В малоземельных полях Калининской области стоит моя родная деревня Стрелки. Там, в хате с тремя оконцами, проходило мое детство. Перед кивотом с множеством икон молилась я богу с младенческих лет. За столом, при свете керосиновой лампочки-«мигалочки» (в нее умещался стакан керосина), учила школьные уроки. И хотя больше полувека прошло с тех пор, с яркой отчетливостью встают передо мной родные картины.
Вот сидим мы, две маленькие сестренки, на лавке и наряжаем куклу на богомолье. Зима. Окна до половины замерзли. Вошла бабенька (так звали мы бабушку) с ведрами воды. Поставила ведра на пол и стала дыханьем согревать руки. Села на скамейку. Сбросила подплетеные веревками, заледенелые валенки. Я залезла на печь и достала ей подшитые, праздничные. «Словно в раю ноги очутились», – проговорила бабушка, надевая теплые валенки, и заулыбалась. Морщинки-паутинки прижались к самым глазам, а на щеках длинными канавками протянулись глубокие. Из сморщенного рта выглянули три гнилых зуба, и такая она смешная стала! Люблю, когда бабушка улыбается. Она сняла кафтан. Вылила воду в кадушку. Взяла с полки решето и прошепелявила:
– Грунька, отнеси бабке Марье решето. Да смотри ты у меня, богу помолись, когда войдешь к ним. «Здравствуйте» скажи. Подашь решето – «спасибо» скажи. Не забудь», – строго говорит она, и лицо ее делается сердитым, длинным. Очки совсем на нос слезли, если бы не веревочки, зацепленные за уши, то грохнулись бы на пол. А голос у нее гремит, словно дядя Иван дрова колет. А когда она ласковая, то голос у нее, словно моченый горох на блюде шуршит, когда я беру целую горсть. Люблю горох и люблю, когда бабушка ласковая.
– И я пойду к Марьиным, – тихим, тягучим голосом просится сестренка.
– Не в чем, доченька. Валенки то совсем дырявые, – вздохнув, отвечает бабушка. – Вот, бог даст, отреплем лен, продадим и купим тебе валенки. Нюша, вздохнув, лезет на лавку. Я надеваю шубейку, шаль и бегу к Марьиным.
Семья у них большая. Сидят за столом на двух лавках и скамейке. Посредине стола большая миска с похлебкой. Хлебают. Едва переступив порог, я скорей перекрестилась и сказала «здравствуйте» (всю дорогу думала, как бы не забыть сказать). Бабка у них седая, морщинистая. Согнулась – так и ходит. Все едят, а она все подает. Я отдаю решето, говорю «спасибо» и сажусь на лавку поодаль от стола.
– Какая девка-то умная растет у Дарьи, – говорит бабка. Это она про меня.
Съели похлебку. Бабка несет полную сковороду блинов. Мишка, мой сверстник, ест блины и, прячась за спину матери, строит мне рожицы. Я хохочу. Его рожицу не увидели, а на меня строго посмотрели все, а бабка сказала: «Попусту смеяться грешно». Лицо ее еще сердитее бабушкиного. Я встаю, говорю «Прощайте» и ухожу.
На улице подружка Манька катается на санках. Зацепилась за тын и ругнулась по-дедушкиному.
– Ругаться – грех, – говорю я, вспоминая наставления бабушки.
– А никто не слышал, – отвечает она.
– Бог все видит и слышит, – говорю ей.
Я уже большая и все знаю. Бабушка всему меня научила. Осенью в школу пойду. Она и считать меня научила. Я все дома в деревне пересчитала. Тридцать два дома. Только мужиков в деревне мало. Все уехали в Питер на заработки. Мама тоже жила там. Служила у господ. Ходила с барчуком на вокзал встречать барина. Барин с сыном ехали на извозчике, а маме велели нести тяжеленный чемодан. Надорвала живот. Заболела и приехала в деревню. Теперь по ночам стонет, и порошки не помогают, что лекарь в волости дал. Отец наш тоже в Питере. Пьет водку и не помогает нам кормиться. Я вырасту и тоже уеду туда. Заработаю денег, и нам легче будет жить. Об этом я часто думаю. Об этом и бабушка говорит. Она всю жизнь работала у господ, накопила денег и построила нам избу. Земли у нас мало. Мы бедные. У нас даже портрета царя нет. Даже у бедных рядом с иконами портрет царя, а нам не на что купить его. Староста корит за это бабушку. А у Кубышкиных и вовсе нет полевой земли. Только огород да маленькая усадьба. Зато у них дед старательный. Лапти плетет, валенки подшивает, корзинки плетет. А за прутьями в лес бабка с тетей ходят. У деда одной ноги нет. На Японской войне оторвало. Чудной дед – ноги нет, а ему вроде бы и ни к чему это, все песню свою поет:
«Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши деды?
Наши деды – славные победы,
Вот где наши деды!».
Как-то наша бабушка спросила: «Чудной ты дед. Все поешь. Достается ли тебе хлебушка-то? Все, поди, ребятишки съедят».
– А я тогда и пою, когда нахлебники от каравая ничего мне не оставят, – засмеялся дед. Ребятишки – это его внуки, а сын от чахотки умер.
Я пришла домой. Бабушка сразу ко мне: «Помолилась ли богу, когда вошла к Марьиным? Сказала ли «здравствуйте»? Сказала ли спасибо?».
– Все сказала, – отвечаю я.
Лицо у нее становится доброе, круглое, словно повойник на ее голове. Я рада. Мне всегда хочется угодить ей.
–Бабенька, я не буду с Манькой дружить, она ругается по-дедушкиному.
– Она ругается, а ты не ругайся. К золоту грязь не пристанет. А дружить со всеми надо. Мы не господа, чтобы народа чураться». Нелегко ей угодить. Видно, я не все знаю, что она. Как-то услышала я, дед Тихомиров сказал: «Незваный гость хуже злого татарина», и спросила бабушку, бывают ли у татар добрые.
– И у татар добрые бывают, и у русских подлецов сколько хочешь. У всякого народа и плохие и хорошие люди есть, – ответила она. Мудреная какая-то моя бабушка.
– Давай в прятки играть, – прерывает мои думы сестренка.
– Лучше давай играть в богатых, – отвечаю я. Я буду барыня, а ты будешь шить мне шелковое платье. Нюша никогда не спорит. Она слушает и маму, и бабушку, и меня.
Мы достаем мамину девичью шаль, дырявую, с длинными кистями, и я наряжаюсь.
Барынь мы каждое лето видим. Они приезжают в деревню. Бабушка говорит, что такие же деревенские были. Уехали в Питер, нашли клад и разбогатели. У них девочки в шляпках ходят. Сначала с нами не знаются, а потом подружат.
– Бабенька, есть охота, – просит Нюша.
– Поешьте моченого гороха. Скоро мать приедет, обедать будем, – отвечает она.
Мама дрова привезла на Егоровой лошади. Достала из сундука завернутый в тряпицу полтинник и пошла платить за лошадь.
За обедом мы едим постные щи, картошку, сваренную в скорлупе. Чистим и макаем в льняное масло. Запиваем квасом. Была у нас корова – пили молоко. Продали «маленку», починили избу. Голодно стало. Только в Рождество, в Пасху и в Родительский день мы едим досыта все хорошее. Женщины в праздник приносят бедным молока, яиц на поминовение покойников. Бабушка берет, говорит «спасибо», а потом горько плачет, что мы – нищие.
Вечером мама зажигает лампочку- «мигалочку» и ставит на стол, на опрокинутый чугунок. Бабушка вяжет чулок, мама прядет лен. На дворе метель. Ветер, словно живой, воет на разные голоса. Мы с Нюшей сидим на постели у маленькой печки, наряжаем куклу и слушаем бабушку. Она рассказывает, как девушкой в лавру ходила на богомолье, про монашек, про свою мачеху. Как по морозу босиком ходила. А иной раз обе молчат. Думают о чем-то. Или мама запоет тоненьким голосом: «Разлука ты, разлука, чужая сторона…».
Как-то бабушка сказала маме: «Достань книжечку, да почитай». У нас в сундуке четыре книжки хранились: «Библия», «Евангелие», «Псалтырь» и «Бог правду видит, да не скоро скажет». Мы слушали, как разбойник купчиху зарезал, а нож мужику в котомку подсунул. Страшно! Утром я спросила бабушку: «В тюрьме плохо?».
– Как люди сказывают – не приведи бог и злому ворогу. В нашем роду никто не бывал в тюрьме. Бедные, но честные. И вы живите по-божьи, – сказала она и зачем-то два раза перекрестилась.
Пришла тетя Егорова. На ней новый полушубок, новые валенки и красивая клетчатая шаль.
– Дашка где? – спросила она. Нашу маму все зовут Дарьей, а она Дашкой.
– На речке, белье полощет, – ответила бабушка.
– Пусть придет ко мне избу помыть.
– Ладно, скажу, – ответила бабушка и ушла в чулан. Тетя посмотрела на нас, вздохнула и сказала: «Девчонки-то у вас… В чем только душа держится, словно восковые… А вот, живучи… А у меня Митенька… И отчего только помер? Ведь мы и ветерочку не давали дунуть на него. Так в пуховых подушках и держали. Пряники не выводились. Кажиный день пряниками кормили. А уж забавляли-то мы его! Тятенька возьмет на руки, шувыхает, шувыхает, вверх-вниз, вверх-вниз. Маменька шувыхает. Отец возьмет…». Она не договорила. Губы ее задрожали.
– Бог даст – еще родишь, – сказала бабушка, не выходя из чулана.
Когда Егорова ушла, я спросила бабушку:
– Почему тетя Егорова шляпу не носит, ведь она богатая?
– У нее хвост в навозе, – засмеялась бабушка.
– А у Басклеевой барыни не в навозе хвост? – спросила я.
– Ей прислуги вымоют. На то она и барыня.
– Нашей бы маме купить шляпку и она красивая была бы, – вздыхаю я.
Бабушка посмотрела на меня сердито и сказала: «Уж ты не завидуешь ли? Никогда, никому не завидуй. Зависть – змея. Она сердце точит и мозг сушит».
Весной собрались бабы в город Кашин на богомолье, поклониться мощам святой княгини Анны Кашинской. Я со слезами просила бабушку взять и меня. Она отказывалась. Боялась, что не дойду.
– Возьми, Григорьевна. Может счастья себе намолит, безгрешная душа ее, – вступилась за меня соседка. Меня взяли. Поснимали мы полусапожки, подвесили их на палки вместе с узелками еды, положили на плечи и шли босиком все тридцать верст. Трава на колее дороги вымазана дегтем от колес телег. Чтобы не испачкать юбки, бабы заворотили их до пояса. Короткие холщовые исподницы белели на солнце и далеко видны в поле. Со всех сторон шли к Кашину православные на поклон святой княгине. Шли полями, перелесками. Ночевали в какой-то деревушке. Спали на полу, под голову котомку. На другой день пришли.
Кашин – уездный город. Дороги грязнее, чем у нас в деревне. Бабушка сказала, что здесь богатые много ездят в каретах и людей много ходит, вот и растоптали дорогу. Дома здесь все за заборы упрятаны. За каждым забором гремят цепями собаки. В Кашине тридцать церквей и все в этот вечер, накануне праздника, звонят в колокола. Серебряный звон, как назвала его бабушка, мы услышали еще издали. Все усердно закрестились. Уходя из дома, я обещала подружкам рассказать все, что увижу. И теперь старательно разглядываю все. Мы ходим по улице, стучим в калитки, просимся ночевать. Собаки отвечают лаем. Сердитые голоса кричат: «Все занято». Какая-то старушка напустила полный дом богомольцев. Мы укладываемся рядами на полу. Хозяйка дала мне пиджак под голову и сказала, что мне бог счастья пошлет за мое подвижничество. Я надеялась увидеть свое счастье во сне, но мне ничего не приснилось. Утром сильно заболели голова и горло, ломило спину, но я ничего не сказала бабушке, ведь сама напросилась.
В соборе народу битком. Иконы блестят. Столько свечей, как будто солнце подвесили в куполе церкви. Люди стоят рядами, как и в нашей церкви: мужики направо, женщины налево. На клиросе много певчих. Они часто повторяют: «Святая княгиня Анна Кашинская, моли бога о нас». Службу ведет архиерей. Я стою в середине собора и вижу только его седую бороду, сердитые глаза и на голове его золотую шапочку, украшенную красными камушками. Он машет кадилом, певчие ноют, народ молится. Я долго молилась, просила святую княгиню послать мне счастье. Устала от молитвы, теперь стою и смотрю, как другие молятся. После службы все выходят на улицу. На высоких мостках встали священники. Один из них говорит проповедь. Хоть я и не поняла, но слова его мне очень понравились и запомнились: «Веками копится, по капле собирается идейное богатство». Бабушка купила книжечку с этой проповедью и сказала: «Будем беречь. Пойдешь в школу, научишься читать и прочитаешь мне эту проповедь».
«Может, и ты Ломоносовым будешь»
Мама снова уехала в Питер и поступила к господам в прислуги. Она хотела поступить на фабрику, где работал наш покойный дедушка, но надо было купить очередь, а у нас денег не было. К празднику Успения мама прислала нам новые платья в цветочках и денег. Бабушка купила на ярмарке школьные сумки, пеналы с ручкой и грифелями и грифельные доски. Мы очень обрадовались. Надели сумки за спину и ходили по избе, будто в школу идем.
– Бабенька, ведь я нынче пойду в школу? – спросила Нюша.
–Ты на тот год пойдешь, доченька. Нынче Груне сошьем шубу из моей новой, на тот год тебе перешьем из маминой, – сказала бабушка и погладила ее по голове. Нюша вздохнула и ничего не ответила.
Когда в деревне убрали с поля хлеб, многие ребятишки пошли в школу. Встаем мы по-темному. Школа в пяти верстах от деревни, у церкви Николы- угодника. Я всех меньше. Не успеваю за ребятишками. На меня все кричат: «Не отставай!».
В старом доме псаломщика учительница Александра Михайловна учит нас по букварю. Батюшка, отец Михаил, учит молитвам.
Наступила зима, метели. Ребятишек все меньше ходит в школу. Матери не пускают – обувь рвется. Ребятишки плачут, просятся в школу.
Вечер под Введение богородицы. Мы попарились в печке. Под праздники всегда моемся. Бани только у богачей. Остальные моются в печке, на соломе. Бабушка зажгла лампадку перед иконами. Лики святых посветлели и будто живые стали. Бабушка говорит, что они радуются за нас, что мы соблюдаем веру Христову.
Постучали в калитку. Мама открыла. Вошел староста и сказал, что надо платить пятнадцать копеечек.
– Отец родной, погоди с недельку. Лен отреплем, продадим и принесу. Егоровы скоро закончат трепать лен и нас обещали пустить в свой овин, – проговорила бабушка.
– Мать родная, не могу ждать, – сердито сказал староста.
Бабушка открыла сундук, развязала узелок красной тряпицы, подала старосте пятиалтынный и сказала: «На рождество берегла. На молебен».
– За богатыми гонишься, Григорьевна… От такой-то бедности девчонку в школу послала. Обувь-то рвать. Щи варить, лен прясть и без грамоты можно. Ей писарем не быть. А подати и сборы надо платить вовремя, – сердито сказал староста и, хлопнув дверью, вышел. Бабушка опустилась на лавку, тяжело вздохнула и задумалась. Весь вечер я все думала, что бабушка не пустит больше в школу. Но на утро она сама разбудила меня. «Походи пока в Николино. Скоро в Петровском откроют новую школу. Благодать будет – рядом», – сказала она.
Вскоре с радостью бежали мы на открытие новой школы. Собралось много народу. Два класса с большими окнами уставлены партами. В одном из них в углу большая икона Николая Угодника с висящей лампадой. Икону купил на свои деньги и подарил школе наш деревенский богач Басклеев. На открытие приехал батюшка, отец Михаил, и служил молебен. После богослужения стал говорить перед народом мужчина, с виду учитель, называется «инспектор школ». Мне не приходилось слышать, чтобы с нашими мужиками кто-то разговаривал, кроме старосты. На сходе староста смотрел на всех важно и сердито и говорил чьему сыну надо идти на призыв, когда начнется общественный сенокос. Требовал оброки, подати, пастушню. А вот так, по-доброму, будто за столом в гостях, с мужиками никто не разговаривал. Этот же мужчина говорил, что ученье – свет, а неученье – тьма. Советовал всем посылать детей в школу. Рассказал о Михаиле Васильевиче Ломоносове и нам, ребятишкам, советовал так же старательно учиться во славу отечества, как учился великий ученый из крестьян.
Дома я рассказала бабушке про Ломоносова. «Учись, старайся, может и ты Ломоносовым будешь», – сказала она. И я старалась. К концу второй зимы я чуть не всей деревне писала письма, по просьбе женщин их мужьям, что работали в Питере и оттуда присылали деньги и посылки. Я наизусть знала, как пишутся поклоны и как благодарить за деньги: «Дорогому супругу Ивану Макаровичу от супруги вашей Аксиньи Ивановны и от деток ваших: Ефимьи, Паши и Кости. Низко я тебе кланяюсь и желаю доброго здоровья. Дорогой тятя, кланяемся тебе и просим твоего родительского благословенья. Еще кланяются тебе сватья Марья, кума Дарья, соседка Анна. Сообщаю тебе, дорогой супруг, что деньги твои, десять рублей я получила. Пишу все, до копеечки, на что потратила».
Из восьми человек в нашей деревне одна я доучилась до конца. Все четыре класса прошла. А во всей школе, из девяти деревень, только семь человек окончили школу. Учительница, Мария Ивановна, повела нас в волость, в Кесову, сдавать экзамен. В волости собрались ученики со своими учителями из нескольких деревень. Иные приехали на лошади за пятнадцать верст.
В школе, в большом классе за столом сидел наш батюшка отец Михаил. Из уезда приехал тоже священник, называется «благочинный». Сидели учителя других школ и наша Мария Ивановна. Нас по очереди вызывали к доске. Задачу я с трудом решила. Несколько раз стирала и снова писала. Зато по закону божьему без запинки рассказала про заповеди пророка Моисея. Благочинный спросил меня, что такое «не сотвори себе кумира»?
« А это, – говорю, – чтобы люди больше не делали себе идолов-кумиров, как раньше, когда язычниками были, а молились бы богу небесному». Я рассказала про крещение Руси, про князя Владимира, которого церковь причислила к лику святых, а народ с тех пор стал православным.
Меня вся комиссия похвалила. Нам всем выдали свидетельства об окончании школы, а мне еще и картину «Избрание царя Михаила Романова на царство».
Мама долго держала в руках свидетельство и картину. Передала бабушке. Та дрожащими руками взяла, подержала и сказала маме: «Отнеси в Кесову, закажи мастеру рамку со стеклом. Это будет память на всю жизнь». Меня она погладила по голове и сказала: «Вот ты у нас и большая. Уже помощница». Как-то чудно мне было это слушать. Показалось, что я маленькая вовсе и не была. А ведь была же. Играли мы все, ребятишки, в прятки, в пятнашки, в лапту. На всю глотку горланили «А мы просо сеяли…». А когда училась в последнем, четвертом классе, кто-то прислал ребятам из Питера две песни: «Трансваль, Трансваль, страна моя» и «Маруся отравилась». Мы ходили по деревне с песнями и пели только эти новые песни, оставили пока наши постоянные: «Уродилася я» и «Веревочку». Раньше мы не ходили по деревне с песнями. И впрямь стали большие. И мальчишки перестали драться с нами. Вместе танцуем кадриль. Только если кто из больших парней или девушек подходят к нам, чтобы посмотреть, как танцуем, то мы разбегаемся, а то засмеют.
Подули теплые ветры, ярче засветило солнышко, побежали ручьи. Все радуются весне, а мне и радостно и горько… Опять в няньки наниматься придется. Ох, тяжко жить в чужих людях. А дома жить нечем. У нас одна десятина земли кругом заезжена дорогами. Чужие люди спашут для нас на своем коне, засеют, на свой овин пустят обмолотить, свезут на мельницу смолоть, и за все это маме надо отработать, а она по ночам стонет. Болит надорванный живот.
Война
Бабушка достала из печи похлебку и стала резать хлеб. Нюша принесла ложки и солонку. Я поставила миску на стол. Запыхавшись, вбежала тетя Калиниха.
– Григорьевна, война! Ерманец пошел на Русь. Староста пришел из волости и сказывал. Уж и повестки мужикам пришли. Многих забирают. Бабушка вытаращила глаза, словно не поняла, что та сказала. Потом опустилась на скамейку, всплеснула руками и вскрикнула: «Господи! Миру-то сколько поляжет на бранном поле! Сирот-то, вдов-то сколько останется!». Голос у нее задрожал. Слезы поползли по щекам. Она ухватилась рукой за грудь, будто хотела разорвать кофту на себе и запричитала: «Закатилося солнышко красное, понадвинулись тучи грозовые, налетели черные вороны на родимую нашу сторонушку…». И будто к кому-то обращалась, кого-то стыдила, причитывала: «Ты ерманец, черный ворон, что тебе в земле чужой? Или места тебе мало на земле твоей родной? Или дела тебе нету в твоей ниве трудовой? Видно солнце тебе краше на земле-то на чужой, видно крови хочешь нашей, ненасытный коршун злой».
Бабушка выла истошным голосом. В открытое окошко услышали ее и сбежались бабы. Еще до этого бабка Карасиха рассказывала на завалинке, что, когда я была еще маленькая, в Питере казаки запороли насмерть дядю Ивана, соседа. Тетя Аксинья прибежала к бабушке с этой страшной вестью. Пятеро ребятишек осталось сиротами. Тогда бабушка и завыла об этих сиротах, да так складно запричитала, что набежали бабы и все уревелись. А после многие просили бабушку повыть по покойникам. Она отказывалась. Говорила, что смерть – это воля божья и потому чужим выть грешно, свои могут, родные. А когда злые люди несут смерть человеку, тут поневоле завоешь и по своему, и по чужому. С тех пор про нее и говорят, что если Григорьевна завоет, то весь свет уревется. Вот и сейчас, сбежались бабы и одна за другой разревелись навзрыд. А бабушка все голосила: «Ой земля, земля родная, сколько ты к себе встречала злых, непрошенных гостей, сколько во тебе зарыто наших соколов костей…». «Оо, ох», –поддакивали бабы. Мы с Нюшей забрались на полати и боялись пошевелиться. Нюша ладошками вытирала слезы, а меня трясло всю, словно с мороза прибежала, но слез не было.
Когда у бабушки вылились все слезы, она разом утихла. Сняла улитый слезами и усморканый фартук и пошла в чулан застирывать его. И вдруг, тетя Егорова пискливым голосом запричитала о своем младенце, что недавно умер: «Митенька, сыночек, ангельская душенька, прибрал тебя Господь, может и к лучшему. Живешь теперь, безгрешная душа, в раю господнем, не придется тебе муки принимать на бранном поле от врагов-супостатов».
– Полно тебе, Егоровна, – заговорила старостиха Василиса. Коли все будут помирать во-младенчестве, то и вовсе ерманец всю землю займет, а нам быть под игом не лучше татарского. Сам Господь благословляет воинов на поле брани за веру, царя и отечество. Егорова сразу умолкла. Вроде бы застыдилась.
Как началась война, сразу все вздорожало. Лавочники в Кесове накинули цены на все товары: на мыло, керосин, сахар, спички. Теперь уж мы не пьем чай по вечерам, хотя кулек с сахаром и стоит на полке. Бабушка и щипчики для сахара убрала в сундук, сказала: «Только по праздникам придется пить чай».
Приехал из Питера отец. Больной, кровью харкает. Бабушка совсем состарилась, еле ходит. В этом году мор наступил, много ребятишек умерло от скарлатины. Умерла сестренка Нюша, следом за ней бабушка, а вскоре и отец. Будто сговорились. Остались мы с мамой вдвоем. До темной ночи жнем у Егоровых рожь. У них придется и молотить, и лен трепать. Задолжали мы им много. Троих покойников похоронили. И то на гроб Нюше не хватило. Пришлось ломать переборку в избе, их этих досок дядя Яков, сосед, сделал гроб и за работу ничего не взял, хотя их семья очень бедная. Сядем с мамой на межу отдыхать и все думаем, как жить, как прокормиться. У нас телка растет. Зиму бы нам протянуть, а там своя корова будет. Легче станет жить.
– Придется землякам в Петроград писать, может на фабрику тебя устроят, – говорит мама, а сама чуть не плачет.
– Не беспокойся, – говорю, – лишь бы приняли, а я работать научусь.
Под Покров пресвятой богородицы Господь нам радость послал. Земляки написали: «Присылай, Дарья, Груньку. Устроим на фабрику. Одна работница записала на очередь свою племянницу. А та, пока ждала очередь, выросла, замуж вышла, в деревне жить осталась. Тетка обещала продать эту очередь нам. Только дорого просит, десять рублей. Не уступает. Мне, говорит, позарез деньги нужны. Муж кровью харкает. Надо лекарство покупать».
Мать дрожащей рукой подает мне тряпицу с узелком и со слезами говорит: «Береги, доченька, тут вся наша «Буренка». Я уж как-нибудь, а ты на фабрику поступишь, в люди выйдешь». Подсчитали мы с мамой наши расходы, да обе и разревелись. От «Буренки»-то ничего не остается. За очередь надо уплатить десять рублей. Билет на поезд семь рублей. Писарю в волости один рубль уплатить, чтобы год прибавил в моем паспорте. Принимают с шестнадцати, а мне еще только пятнадцать лет. За обучение отдам пять рублей, и останется мне на прожитие семь рублей. Ну а там, бог даст, может и заработаю.
Поезд остановился в Петрограде. Котомку на спину и выхожу на площадь, да так и ахнула. Народу – как на войне! (Про войну нам рассказывали и отец и бабушка. Наш прадедушка, Михаил Моросев, ополченцем был. Француза наполеоновского гонял). Все куда-то бегут. Никто ни на кого не смотрит. В бумажку с адресом заглядываю. Прохожих спрашиваю. Дошла до конки и забралась на крышу. Конка пыхтит, кряхтит, из трубы дым выбрасывает. Приехала на Невскую заставу. Иду по Палевскому проспекту, по доскам, тротуаром зовут. Стоят дома и в один, и в два этажа. Видно старые, краска на стенах облупилась, и крыши потемнели. Захотелось мне спросить у прохожих, да не посмела, почему у вокзала дома все каменные, большие и красивые, а здесь вроде бы деревенские, только раза в четыре больше избы. Налево за углом переулок. На углу на доске написано «Александровский». Вот и нашла.
Тетя Надежда меня чаем поит, про своих ребятишек спрашивает (их оставила в деревне), плачет. Дядя Луипа, муж ее, курит и молчит. Вошла квартирная хозяйка.
– Тетя Матрена, обучи девчонку ткачеству, – просит тетя Надежда.
– Обучу. Пусть приходит, – отвечает она.
А наутро повела меня тетя, что продала мне очередь, будто свою племянницу, к фабриканту Максвелю. Сидит в широком мягком стуле седой, важный господин. На рукавах рубахи брошки приколоты. Под горлом бантик. Молча подал тете бумажку. На меня и не взглянул. А я-то боялась, вдруг не поверили, что мне шестнадцать лет, и все стояла на носках, чтобы повыше казаться. Счетовод записал меня в большую книгу и число поставил – 23 июня 1916 года. Я взглянула и вспомнила, что сегодня день моего ангела. В душе помолилась: «Святая великомученица Агриппина, моли бога о нас».
Вышли во двор. Меня любопытство мучает, почему в деревне девки носят брошки на груди, а господа на рукавах рубахи.
– Дура, – смеется тетя, – то не брошки, а запонки.
Пока шли по двору, слышался только шум, а как открыли дверь фабрики, такой грохот ударил в голову, будто упала высокая, до самого неба, поленница дров. Крутятся ремни, колеса, машут палки, словно руки, ползут нитки и полотно. Будто бог душу вдунул в эти вещи, и они стали живые, как вдунул он душу в кусок глины, и стал живым первый человек на земле, Адам.
Тетя Матрена улыбнулась беззубым ртом, заткнула мои уши шариками из ниток и показала, как надо пускать станок. Я попыталась затолкнуть челнок и не достала конца коробки. Мала ростом. Дядя Иван, подмастерье, посмотрел на меня, покачал головой и ушел куда-то. Вскоре принес сколоченные из досок мостки, положил их к станкам. Я встала на них и пустила станок.
«Русский галява»
Еще темно, а гудки заревели на разные голоса: зарычал семянниковский, запищал наш максвелевский, засвистел палевский, застонал торнтовский. Наскоро слезаю с сундука. Тетя Надежда уже оделась и заправляет постель, а дядя Луипа уже ушел на работу.
– Торопись, Грунюшка, не опоздай, а я побегу, – говорит тетя Надежда и уходит. На кухне тетя Матрена колет щипчиками сахар. Кладет в узелок пирога с рыбой, хлеба, соленых огурцов. Накрывшись ковровой шалью, торопливо зашагала. Я вприпрыжку за ней. На улице ветрено, фонари мигают. Между первой – Петровской и второй – Спасской фабриками стоит часовня с большой расписной дверью. На стене лики святых угодников. У двери висит большой расписной ящик, похож на почтовый. На нем написано «На построение храма божьего». В первый день я опустила сюда копеечку и Господь помог на фабрику устроиться. У часовни городовой к стене прижался от ветра. Глаза у него сердитые.
Ой, как тепло на фабрике! Внизу «титаны» бурлят кипятком. У станков мы раздеваемся. Одежду на подоконник кладем, тряпкой прикрываем от пыли. Подвязываемся тряпками. Матрена чистит коробки, смазывает шпинделя. Я гляжу на нее и делаю то же. Пропищал третий гудок. Ремни, будто подкрались, зашевелились потихоньку, разбежались и пошли крутиться.
– Не подходи близко, подцепит, оторвет руки, ноги, – предупреждает она.
– У кого-нибудь оторвало? – спрашиваю я.
– Было дело. Садись сначала на подоконник и учись узлы вязать, а потом будешь у станков стоять.
Трудное дело узлы вязать. До боли сжимаю пальцы, а нитка, словно насмех, соскальзывает и не завязывается. Матрена наощупь продевает крючком оборванную нить, а сама на меня смотрит. Подошла и на ухо проговорила: «Не нажимай крепко пальцами. Спокойнее держи нитку». И верно. Спокойно стала держать пальцы, и узел завязался. Я хожу вокруг станков, то на полотно смотрю, то на основу. Караулю, чтобы не наработался брак. Полотно медленно мотается на валик. Еще тише движется основа, и кажется, совсем не двигается часовая стрелка. Я давно согрелась. Теперь душно. В горле першит оттого, что при заправке челнока надо вдыхать в себя нитку, прижимая к губам челнок. Я как вдохну, то нитка соскользнет в рот, до горла достанет. Ноги гудят. Матрена взяла ящик с пустыми патронами и повела меня в шпульную на четвертый этаж. Я еле поднимаюсь по лестнице. Устала.
– А ты живее шевели ногами, – говорит она, а сама тоже задыхается. Туда мы несли пустые ящики, а на обратном пути с лестницы спускались с полными ящиками шпуль. Потом мы снимали сработанный кусок и несли его вниз, в ткацкую контору. Мы не остановили станки, пока ходили, – «пусть прибавляется заработок». А вернулись, тетя Матрена чуть не заревела. Такой брак наработался, что нам хватило до самого обеда выдергивать по ниточке, что наплелось на полотне. И руки и ноги устали, а прошла только половина дня. Обед.
– Беги, девчонка, за кипятком.
Мы сидим на ящике со шпулями. Я достаю из узелка кусок ситника.
– Ешь мой пирог. Все равно зачерствеет, – говорит тетя Матрена. – Подойдет воскресенье, опять напеку, если мука будет. Плохо что-то стало. Очереди кругом. Булки и ситники из темной муки пекут, – вздыхает она.
Опять зашевелились ремни. Вторая половина дня короче будет. Пять часов осталось работать. Затыкаем уши и пускаем станки. Грохот мне уже не кажется страшным. Привыкла. На одном станке сработалась основа. Матрена учит меня чистить и смазывать станок. Пыль поднялась и стоит на месте столбом. Приоткрыть бы хоть щелочку в окне, но оно плотно забито и до половины замазано белой краской.
– Тетя Матрена, зачем окна замазаны? – спрашиваю.
– Чтобы такие, как ты, любопытные, не пялили глаза на улицу, а лучше бы смотрели за работой, – беззубо улыбаясь, говорит она.
Я передумала все свои думы. В душе помолилась богородице, чтобы помогла мне научиться хорошо работать. Устала и думать и станки пускать. Ноги гудят, и, наконец-то, день пришел к концу. Выталкиваем челноки. Протираем коробки. Одеваемся. В проходной становимся в очередь, полы нараспашку. Нас обыскивают, не украли ли чего.
Вечером в квартире полно народу. У плиты теснота. Торопятся, ужин варят. Матрена насилу разыскала своего «кормильца», пятилетнего Миньку. Убежал куда-то гармошку слушать. Чтобы никому не мешать, я забралась на сундук. Жду ужина. Тетя Надежда обещала кормить меня супом, пока сама зарабатывать не стану. На окне лежит книжка. Взяла, читаю. Ловко сыщик Нат Пинкертон воров ловит, которые богатых обкрадывают.
Много дней прошло. Я привыкла к работе. Смело пускаю станки, разрабатываю брак, чищу и смазываю станки. В голове постоянный шум. Памяти совсем не стало. Раз пустила станок в два челнока. Порвала полотно и основу. Вызвали к мастеру. Стою и дрожу, словно лист на ветру. Англичанин взглянул на меня – аж сердце уколол. Губы скривил, прошипел: «Русский галява!». Обидно мне стало, что из-за меня одной он весь наш народ дураками считает. Помню и мама говорила: «Господа нас за людей не считают, а особенно чужеземцы». А разве Ломоносов без головы был? Еще какой башковитый-то. А учительница наша Марья Ивановна, разве не башковитая? Что бы мы ни спросили, она все знает. Вышла я от мастера и все думаю про русские головы, про свою маму и про нашего подмастерья, дядю Ивана. Разве не башковитый он? Какой хочешь станок наладит.
Вот уже полгода жду, когда на свой станок поставят. Все еще держат ученицей. Нет свободных станков. «Жди, может умрет кто на твое счастье или расчет возьмет», – смеется дядя Иван, подмастерье. «На чужом несчастье не строй свое счастье», – говаривала покойная бабушка. Не желаю я другим несчастья, а чтобы станок для меня освободился, очень желаю. Жить мне трудно. Обувка рвется, кормиться надо. И вот счастливый день настал. Дядя Иван подал мне номерок на станок 980. Не помню себя от радости. Чищу, смазываю, налюбоваться не могу на свой станок. Теперь сама прокормлюсь. А выйдет очередь, поставят на пару, и маме помогать буду.
Глава 2
Вставай, проклятьем заклейменный
Ночью горел полицейский участок, что стоял на углу Палевского и проспекта села Смоленского. Кое-кто из жильцов нашего дома не ночевал дома. Вечером кто-то спросил тетю Матрену, где дядя Кузьма. «Сейчас придет», – сказала она, а пришел он только утром и сразу же лег спать. В ту ночь свергли царя. Утром, когда мы шли на работу, участок все еще дымился. По всей мостовой ветер гнал обгорелые бумаги. Люди громко говорили: «Царя свергли…», «Свобода…», «Революция…», « Во дворе корниловского дома убили городового». Подходя к фабрике, мы уже не видели того сердитого городового, что прижимался к стене часовни.
Двор фабрики полон рабочими. На ящиках из-под хлопка стоят мужчина и женщина с красными бантиками на груди. Возле них кто-то держит красный флаг.
– Товарищи! ( Чудное слово, у взрослых не слышала такого. Ребятишки говорили ). Царя свергли! Революция! Свобода! Кто-то запел: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!». Значит, мы не одни в деревне голодали. Рабы… Вспомнилась мама с чемоданами… Барин… «Русский галява». Мысли путаются, обрываются и снова в узелок завязываются…
– О чем задумалась, девчонка? – спросила меня черноглазая, бойкая соседка по станкам.
– «Мир голодных и рабов» … – проговорила я и посмотрела на нее, может она мне что-нибудь расскажет.
– Так это же песня так поется, – ответила она и, немного подумав, проговорила: «Пойдем окна отмывать».
Паровая в тот день покружилась впустую и остановилась. Никто станки не пускал. В коридоре у «титана» очередь. В чайники, в инструментальные ящики мы наливаем горячую воду, моем окна, скоблим ножами, трем наждачной бумагой. Кто-то достал керосину, чтобы оттереть краску. Уж очень она присохла. Старушка с широких станков говорит, что когда она молодая была, еще с тех пор эти окна замазаны.
– А светло-то как стало! – радуется Матрена. Только сейчас вижу, что сорок лет я здесь в сумерках ходила.
– Царь пал – свет настал, – с улыбкой говорит черноглазая.
Завертелись события. Каждый день новости. Во дворе фабрики становимся рядами и идем в город на Марсово поле. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног», – льется песня по всем рядам. Я быстро заучиваю и изо всей силы пою. «Чтобы весь свет услышал», – смеется на меня черноглазая.
О работе в эти дни никто не думает. То митинг, то куда-нибудь идем. Два раза ходили на вокзал. Один раз встречали нашу работницу. Ее царь в Сибирь упек, а теперь она вернулась.
Другой раз встречали на Финляндском вокзале какого-то вожака. Наша фабрика пришла раньше и мы встали ближе к вокзалу, а обуховцы пришли позже и с шутками да прибаутками оттеснили нас назад, а сами заняли наше место. Так мы ничего и не слышали. Только видели, кто-то стоял наверху и руку поднял. Народу было! Будто весь Петроград собрался.
А голод, словно вор, подкрадывается к народу. С ночи занимаем мы очередь за хлебом. На фабрике хотя и работаем, но заработка нет. Кончается хлопок. Шпули выдают с перебоями. Мы их расхватываем чуть не в драку. Англичане на фабрике не показываются. Конторщики говорят, что они спешно переправляют деньги за границу, а потом и сами уедут. У нас оставят только стены и станки. «Как же мы тогда работать-то будем? Где возьмем деньги, где достанем хлопок?», – говорят некоторые. «Крышка всему народу из-за всяких смутьянов», – говорит трактирщик из соседнего дома. Все молчат, никто ничего не знает толком, как жизнь пойдет.
В глубине двора, на самом берегу Невы стоит круглое кирпичное здание. В нем всегда хранился хлопок. Теперь его осталась горсточка в одном углу, а посредине чуть не каждый день митинги, собрания.
У меня всегда кружится голова. Нет памяти, хотя я и стараюсь понять, что творится кругом. Кому-то кричат «Ура». Кого-то «Долой». Собирали подписи на какое-то голосование в Учредительное собрание. К моему удивлению в этот день и обо мне вспомнили. Каждой стороне хотелось собрать больше голосов.
– За кадетов пиши, – уговаривала меня одна богомольная ткачиха. Про нее говорили, что она каждое воскресенье к братцу Иванушке молиться ходит. У братца Иванушки и я раз была. Не понравилось. Нарядился в атласную голубую рубаху, плисовые штаны, шелковым поясом подпоясался, словно парень на гулянке, а не святой. Вокруг него женщины в кисейных чепчиках, молятся прямо на него. Помню я, как-то в деревне перекрестилась на портрет царя, а бабушка строго сказала: «Молиться на живого человека грешно. Молиться надо только богу». А тут, взрослые женщины кланяются на живого, а он вовсе и не святой. «Кадеты – ученый народ, не нам чета. Они все знают», – говорила она.
– За социалистов пиши. Они жизнь за народ отдавали, – говорили другие.
На листочке от старой книги я написала стишок, что голосую за тех, кто счастья в жизни всем желает.
Вдоль всего проспекта села Смоленского, от фабрики к фабрике стоят высокие деревянные заборы. Сейчас они все оклеены плакатами. По воскресеньям я хожу вдоль заборов, смотрю картинки, читаю.
Вот огромный красный кулак сбросил царскую корону с дворца. Корона летит, а вместе с ней и царь вверх тормашками. А рядом длинноносый, худущий уселся верхом на разбитую корону и штопает ее иголкой. Написано «Керенский». Мне и чудно, и страшновато. Бабушка учила богу молиться, царя почитать.
А сколько тут всего понаписано: «Да здравствует Учредительное собрание!»; «Долой капитал, да здравствует диктатура пролетариата!»; «Не поддавайтесь поповскому обману, освобождайтесь от религиозного дурмана!».
Фабрикантов теперь зовут «буржуями». На фабрику кто-то приносит работницам газету. Потом ее передают из рук в руки. Кто умеет читать – читает, другие слушают. Как-то раз и мне дали. Я прочитала про царицу и какого-то Гришку такое… сказать стыдно. Бабушка говорила, что царь – помазанник божий, он о народе печется. Самый праведный человек на Руси. А в газете написано, что он народ расстреливал. Как мне до правды добраться?
Все головы – в одну думу
После ужина жильцы всех восьми квартир собираются на крыльцо. У всех в голове одна дума: «Что-то будет? Как теперь жизнь пойдет?». Теперь уж не играют в «подкидыши» (карты), как всегда, а обсуждают новости. Даже ребятишки забросили «чехарду» и «бабки» и усаживаются возле взрослых. Как-то пришел лавочник, что жил невдалеке. Ему уступили место на ступеньках, где почище. Работницы говорили, что он добрый. Всем дает в долг харч. «Ноги бы протянули, кабы он не выручал». Был он мужик степенный, богомольный.
– Царя спихнули, веру пошатнули, как жить-то будем? – спросил он и строго посмотрел на всех. Все молчат. – У скотины одна забота – пожрать да вывалить, и то без пастуха да без хозяина не живет. А мы разумные существа. Нам жизнь надо ладить. Так можно ли без головы прожить?
– А если вместо одной головы да все головы в одну думу объединить? – проговорил Кузьма, муж Матрены.
– Уж не ты ли в Думу собираешься? Выбери «фатеру» (квартиру Кузьма называл «фатерой») поменьше, – усмехнулся лавочник. Это он насчет полицейского участка намекнул, куда Кузьму забирали не раз.
– Моя фатера разбита. Придется взамен особняк какой-либо взять, –засмеялся Кузьма.
Все молчали. Даже ребятишки вытянули шеи и слушали.
– Царская власть нам от бога дана. Скинули плохого царя, выберем хорошего. Брат царя, Михаил, всегда за народ стоял. Думу новую выберем и царю воли не дадим. Соберется Учредительное собрание. Всю землю по народу разделят, – говорил лавочник тихо, с расстановкой и сердито смотрел на всех, словно отец Михаил у нас в школе на уроке «закона божьего».
– Землю, говоришь, разделят? – рассмеялся Кузьма, – Так тебе первому дадут что получше да побольше, а мне болото достанется да два метра на погосте.
–Хватит земли на Руси великой, да ты сам же сбежал с этой земли.
– Сбежал не я, а отец, с голоду сбежал в город. А я сорок лет на фабриканта работаю. Много ли радости вижу? Перед каждой получкой к тебе с поклоном иду – выручай.
–Не грех и поклониться. Не краденое, свое даю. Дороже других не беру, – сказал лавочник и ушел.
На фабрике мы работаем только восемь часов. Нас больше не обыскивают. Выходим из фабрики прямо во двор и на улицу. А в проходной, где нас обыскивали, отгородили небольшую комнатку и на двери прибили дощечку с надписью «фабричный комитет». На собрании одна женщина уговаривала работниц записаться в профсоюз. Записалась и я. В фабком ходили получать книжки. Я очень обрадовалась, думала, хлебом оделять будут по этой книжке, и спросила, что мне дадут по ней. Все засмеялись. Кто-то сказал: «Мала, а дотошна». Потом женщина, худющая, старая, с красными глазами и добрым лицом сказала мне: «Пока ничего не дадут, а придет время, много даст тебе профсоюз. Сейчас же он твоя защита, никому в обиду не даст». Хотя ничего я не поняла из ее слов, но стало как-то легче на душе. Одна живу, без отца, без матери, а теперь вроде кто-то родной объявился.
Какие-то тревожные дни наступили с середины лета. Вроде весь свет притаился. Много спорят о каком-то Ленине. Одни говорят, что он немецкий шпион, другие – вожак революции. Одни говорят, что надо на трон брата царя посадить, другие – дядю царя. Третьи говорят, надо выбрать думу. Четвертые – надо Учредительное собрание. Спорят и на собрании, и у станков в перерыве. Из фабрики по берегу Невы бегают на Обуховский завод в какую-то «яму» на собрание. В ворота завода управляющий приказал никого не пускать, так они приловчились берегом, прямо во двор, а там – в «яму».
«На берегу сторожа свои», – говорят работницы.
Наискосок от меня работает тихая, добрая ткачиха. Никогда ни с кем она не спорит, никого не осуждает. Была у нее привычка оглядываться назад: говорит с кем – назад оглянется. Идет куда, нет-нет да и оглянется. За это прозвали ее «Марьей с оглядкой». Меня она всегда жалела: что и мала-то я, и худа-то я. Иногда советовала мне по работе, что и как сделать. Подошла я как-то к ней и спросила, как бы и мне попасть на собрание в «яму», куда наши работницы бегают.
– Не ходи, девонька, неровен час… вдруг стрелять будут… Мы пойдем, когда все пойдут, – проговорила она и оглянулась. «И впрямь не пойду, –подумала я. – Вдруг убьют, кто же маме помогать будет?». «А кто убьет? За что? Кого будут убивать? Кого не тронут?», – потянулась веревочка-дума. Не отцепиться от нее и спросить не знаю кого.
Летом в городе опять бои были. На заборах приклеили новые плакаты: «Долой министров - капиталистов». С плакатами словно кто-то в кошки-мышки играет: кто-то ночью повесит, и кто-то, ночью же, сорвет и другие повесит. Про министров сорвали, про немецкого шпиона повесили. Про шпиона сорвали, про отечество повесили.
На фабрике работницы из других отделов приходят в наш флигель и о чем-то с черноглазой шушукаются.
Булочник Скоробогатов, что напротив фабрики держит булочную, стал такой злой, чуть не в лицо бросает хлеб, когда светает. Один раз зло сказал нашему подмастерью, дяде Ивану: «Вот допродам и конец. А там пусть вас большевики накормят».
За власть советов!
Через весь двор фабрики качается на ветру красное полотно. Огромные буквы на нем уцепились друг за дружку и кричат на весь мир: «Вся власть Советам!». В круглом здании битком рабочих и работниц. На трибуне моряк Балтийского флота.
– Товарищи! – Гул постепенно утихает. Я попала в самую середину. Зажата со всех сторон плотной толпой. Духота. Немного подташнивает. Приподнимаюсь на носки. Круглолицый, большелобый моряк размахивает правой рукой и громовым голосом кричит: «Товарищи! Мы с вами свергли царя. Смели и его прихвостней – министров-капиталистов. Сами будем решать свою судьбу, чтобы всем хорошо жилось, чтобы никто из трудового народа в обиде не был». «Чего мы понимаем?», – шепчет рядом со мной «Марья с оглядкой».
– Мир народам! Земля крестьянам! Хлеб голодным! – гремит моряк. От слова хлеб у меня закружилась голова и потекли слюни. Моряк рассказывает, что у нас теперь свое народное правительство, и главой его Ленин – вожак революции, большевик. Он рассказывает о товарищах Ленина – большевиках, чего они добиваются. После моряка выступала работница Болдырева, которую мы встречали на вокзале и многие другие.
Вот и добралась я до истины. Все оказалось очень просто: царь и буржуи угнетали народ, чтобы самим привольно жилось. Народ сбросил их, чтобы всем привольно жилось. Иду домой и все думаю о словах моряка: «Почувствуйте себя настоящими хозяевами своей страны. Заботьтесь о ней так же, как о своем доме, о своей семье». «Только бы научили меня, как надо заботиться, я все сделаю», – думаю я.
Как быть с богом?
Ко мне на работе подошла Катя Графчикова, дочь Матрены. Прокричала на ухо: «Приходи после работы в ячейку на собрание». Я кивнула головой.
Небольшая комната полна молодежи. Кому не хватило места на скамейках, уселись на полу. У двери за столом сидела Катя и всех записывала.
– Ты комсомолка? – спросила она меня.
– Какая кансамолка? – недоумеваю я. Она растолковала, что такое комсомол.
– Так я тоже хочу быть комсомолкой, – отвечаю я.
– В бога веришь?
– Конечно. Это язычники не верят в бога, так их теперь нет на Руси. А мы крещеные.
Некоторые засмеялись, другие строго посмотрели на меня.
– Верующих не принимаем. Вот тебе книжечка. Почитай.
– А почему это вам бог помешал? – говорю я, – ведь он никого не трогает.
– Ты верно сказала. Бог никого не трогает: ни убийцу, ни святошу вроде тебя. Каждый живет сам по себе, а бог тоже сам по себе, – засмеялся председатель и добавил: «Будешь ли ходить в политкружок?».
– А верующим-то можно ли у вас учиться?
– Можно.
– Ладно, приду. Учиться я люблю. А в бога до смерти верить буду. Мы крещеные.
Вошли еще двое парней. Один в старом пиджаке. Видно прядильщик, вата прилипла к одежде. Другой одет не по-рабочему: выутюжены брюки, начищены ботинки, чистая, хотя и старенькая, рубашка с галстуком. Волосы зачесаны на бок.
– Это откуда «пижон» появился? – спросил кто-то. «Пижон» смутился и молчал.
– Тебе чего надо, гражданин в галстуке? – спросил председатель.
– Я хочу комсомольцем быть, – ответил он.
– Пиши заявление. Обсудим. Ты из каких будешь?
– Мать служащая, счетовод.
– Там посмотрим. Вообще-то мы рабочих в первую очередь принимаем, – заметил председатель.
«Пижон» ушел.
– Будем начинать, – сказал председатель. Все встали. «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!..», – запел председатель. Голос у него был хриплый, но когда он пел – слушать хотелось. Будто душа пела. Все подхватили песню, только я молчала. Не знала слов. Когда кончили петь, то председатель сказал: «Катя, дай новенькой Интернационал. Пусть выучит».
Катя дала мне листок старой книги, на нем между строчек написан Интернационал. И объяснила, что это не песня, а гимн коммунистов.
– А я слова гимн не понимаю, – говорю ей.
– Ну, вроде бы, как молитва для верующих, так гимн для коммунистов. С ним на царя шли, с буржуями боролись, в тюрьму шли. Понятно?
– Очень даже понятно.
Пришел докладчик, парень в кожаной тужурке. Председатель дал ему слово.
«Товарищи, как мы есть передовой отряд революционной молодежи, так сказать, значит, нам надо учиться и учиться, потому что мы – первый помощник коммунистической партии большевиков», – начал он и долго рассказывал про съезд комсомола, про капиталистов, что из-за границы со всех сторон идут на нас войной, что нам надо и республику защищать, и хозяйство народное поднимать. Чтобы хозяйство ладить – учиться надо, чтобы государство советское защитить – надо на фронт записаться. После собрания человек пять записались на фронт и очень многие в вечернюю школу, что возле Смоленской церкви стоит.
Давно не было у нас получки. Говорят, денег нет. «Пока министры-капиталисты временные правили страной, – сказал как-то дядя Кузьма, – фабриканты и заводчики переправляли капиталы за границу. Хлопок тоже скоро кончится».
Вместо получки нам выдали ткани «репса» по куску. Очень мы обрадовались этому. На деньги-то ничего не купишь, а ткань можно поменять у финских колонистов, что живут за Невой, на картошку, молоко.
Как-то вызвали нас, рабочих- подростков, в фабком и на целую неделю дали талончиков в столовую, что у Семянниковского завода. Туда мы бегаем после работы. Хоть жиденький суп дают из воблы и крупы, а все равно еда. И впрямь профсоюз-то – защита и помощь, вроде родной.
Вечером я читаю книжку «Ленин о религии», пока хозяйка варит ужин или чинит одежду. Кончает свое дело и сразу гасит лампу. Керосин трудно достать.
Прочитала книжку. Слушала лекцию. Ходила в политкружок и уже написала заявление о приеме в комсомол, как вдруг объявили, что фабрика остановилась. Нет хлопка.
Многие рабочие ушли на фронт Гражданской войны. Иные уехали в деревню. Кому некуда ехать, стали искать работу, чтобы хоть хлебную карточку получать. О заработках думать не приходится. У меня ботинки вот-вот развалятся, а купить и негде, и не на что.
А на заборах, стенах фабрик, домов плакаты: «Защитим республику Советов!»; «Пролетарий – на коня!»; «Ты записался добровольцем?».
Батрацкая доля
Выше всех в деревне дом Нарышкиных. Двухэтажный, под железной крышей. Наличники на окнах резные, крашены желтой краской. Балкончик под самой крышей, «князек» тоже украшен резьбой, а на самом верху петух, словно живой, шею вытянул, вот-вот запоет. Во дворе всякая живность.
Коротка летняя ночь и ту недосыпаем. Бабка-хозяйка первую меня будит. Я таскаю кормушки, ношу пойло, дою коров, посыпаю зерна курам. Несу бабке дров, хворосту на растопку, воды с колодца. Зазвенел колокольчик. Тетя с дядей, бабкины сын и невестка, тоже оделись, взяли косы, крикнули мне: «Пошли!».
Со всех изб выходят мужики, бабы, молодежь с косами на плечах. Идем полем. Пестреют цветы, блестит роса. Прохладно. Я заторопилась и не захватила кацавейку. Вспомнила, когда выходили из ограды, а вернуться не посмела, бабка заворчит. Теперь бегу и дрожу от холода. Вспомнила рассказ покойной бабушки. Вот так же, девчонкой, бежала она по росе за своей мачехой и все про себя причитывала: «Ты согрей меня, солнце красное, помолись за меня, родимая матушка» (мать ее в могиле лежала).
По четыре прокоса прошли мы, когда выглянуло солнышко. Я улыбнулась яркому свету и подумала: «Без тебя согрелась, даже жарко стало». Поневоле согреешься… Дядя поставит впереди себя и скажет: «Не отставай, Аграфенушка, а то догоню и срежу тебе пятки своей косой». Тетя смеется, а я нажимаю на косу со всей силы. Ну как и впрямь тяпнет по пяткам. Угадай, что у него на уме. Хозяин – барин… Разбирайся потом. Хоть власть-то и советская, а в райсовете-то самый богатей сидит, Комолкин, из Поповки. Он самый грамотный, вот его и выбрали. Говорит-то он всегда складно, а делает-то все по-своему.
Подошел дед Бедушкин. Высоченный, с длинной бородой. Залюбовался на мой чистый и широкий прокос. «Ну и девка, мала, да удала. Прокос мужику под стать. Возьму я тебя замуж за внука Петьку. Оженю стервеца». «Не знаешь ты, дед, – думаю я, – я с Петькой каждый день ругаюсь, а то и подеремся. Он все насмешничает, а я не терплю».
Солнце уже высоко, а мы еще не ели. Ноги гудят, плечи ломит, живот подвело, есть охота.
– Перекусим, – говорит тетя, и мы усаживаемся на мокрой траве. Тетя достает из узелка по две четвертиночки ржаной ватрушки и подает нам. «Экономят все. Я бы таких три доли съела», – с досадой думаю я. Да и как им не экономить. Каждый день ходят по деревне городские, предлагают в обмен на картошку и хлеб всякие товары. Вчера бабка за обедом сказала, что Грызиловы за ломоть хлеба выменяли батистовую косынку. «А у нас за каждый присест полкаравая уходит», – сказала она и сердито посмотрела на меня. Я как раз за третьим куском потянулась. Все равно взяла, но когда ела, то кусок горло давил.
Солнце к полудню двигалось, когда мы перестали косить. Разбросали по лугу накошенную траву и пошли домой.
Прямо из сеней дядя идет в чулан, опорожняет без передышки крынку молока и ложится в сенях на свою постель. Мы с тетей помогаем бабке собрать на стол. Едим овсяную похлебку, картофельную запеканку, молочную яичницу, кислое молоко. Вот тут-то уж я сыта-сытехонька. Чуточку бы соснуть и хоть снова в покос. Не тут-то было.
– Беги-ка, девушка, на усадьбу, развали вчерашнее сено, – говорит мне дядя и опять идет в сени на постель.
–Пусть приляжет маленько, отдохнет, – вступается за меня тетя.
– Это что еще за отдых в горячую пору!? – ворчит бабка. – Мешок муки недешево стоит. Вот у Умновых батрачка за кормежку работает и то не много отдыхает.
– Маменька, у Умновых батрачка своя, родная им, – говорит тетя.
– Ты, я вижу, совсем хозяйкой становишься. Хозяйка пока еще я. Как велю, так и делайте, – сердито говорит бабка. Тетя замолчала. Я бегу досушивать сено. Потом едем в поле за сеном. По-темному ложимся спать. Я как подойду к постели, только и помню, когда укрываюсь. Засыпаю, словно убитая. Всегда кажется, что легла, закрыла глаза, а бабка тут же подошла ко мне: «Вставай, пора».
Наступила самая тяжелая пора – жнитво. С утра и до темноты, не разгибаясь, жнем. Дядя часто садится покурить. Тетя то снопы поставит в десятки, то присядет ненадолго. Беременная, ей тяжелее нашего. А мне нельзя говорить, что поясницу словно ножами режет, что пальцы от серпа не разгибаются. «Девушке зазорно говорить, что спина болит. Примета плохая – никто не посватается», – сказала мне бабка. И я молчу. Как-то сели мы на снопы обедать, а тетя и сказала мне: «Вон сухое болото, беги и ляг на кочку поясницей. Помни ее хорошенько, легче станет». И я теперь каждый день в обед бегаю на болото.
Кончилось жнитво. Расстелили лен. Закончили молотьбу. Отрепали лен, и кончилась моя каторга. С егорья и до покрова – с 23 апреля до 1 октября. Дядя запряг коня, положил заработанный мной мешок муки. Вся семья провожает меня. Добрых слов наговорили, если складывать в карманы – полны будут.
Мешок муки маме оставила. Ей теперь надолго хватит, а сама к попу нанялась, в село Кожино, невдалеке от Кашина, куда в детстве ходила с бабушкой о счастье молиться.
У попа та же каторга, только врут больше да чаще напоминают, что ты подневольная, а они господа.
Осенью земляки написали из Ленинграда: «Что же ты не едешь? Фабрика снова работает».
Глава 3
Взлет
И опять я на комсомольском собрании. Меня принимают в комсомол. Катя Графчикова поручается за меня. Она у нас групорг. Закончился прием в комсомол. Должен быть доклад о международном положении, но докладчик еще на соседней фабрике. В ожидании его мы говорим о будущем. Мы любим об этом говорить. Каждому хочется хорошо пожить.
– А что, ребята, при коммунизме каждой семье дадут отдельную комнату? – спросил Алеша Кузьмин. У Алеши чахотка. Врач навыписывал лекарств и сказал, что надо бы семье больного отдельную комнату. Сейчас они живут в одной комнате две семьи. А при фабриканте три семьи жили в отдельной комнате. Фабком записал Алешу на получение комнаты в первую очередь.
– А я так думаю, что и по две комнаты на семью давать будут, для ребятишек отдельно, – сказал Илья Фридберг. Он очень умный парень. Много читает и даже умеет рассказать про международное положение.
– Ребята, у нас в смене уже семьдесят комсомольцев. Если так будут записываться, то лет через пятьдесят вся страна станет коммунистической, – проговорила Катя.
– Может коммунистами и не все будут, но воров и убийц наверняка не будет, – ответил Илья.
– Что мы время-то без толку тратим. Давайте пока проверим, кто как комсомольское задание выполняет, – сказал председатель. Катя, расскажи, что у тебя на комплекте делается.
Катя вынула листок из кармана и начала читать: «В МОПР вступили пять человек, в Красный крест – трое, в ОСО-Авиахим – семь человек, в Смычку города с деревней – всего двое».
– Мало, – сказал председатель. Хлеб едим все и союз с трудовым крестьянством должны держать все. Ленин завещал крепить смычку рабочих и трудовых крестьян. Поручи новенькой, пусть беседует с работницами (это он про меня). У нее пока никакой нагрузки нет.
– Она выучила Интернационал, выучила устав РКСМ и теперь читает «Ленин о религии». С нее пока хватит. Не шибко она грамотная, – вступилась за меня Катя.
Пришел докладчик. Лицо утомленное, будто две смены отработал. А как стал говорить – куда усталость девалась. Словно ручей гремит, каждое слово прямо в сердце кладет: «Ленин завещал нас дружбу с трудящимися всего мира!», – говорит он. «Мы никогда не забудем, как в годы Гражданской войны американские рабочие бросили вызов капиталистам: “Руки прочь от России!” . Итальянские моряки как узнали, что везут груз для войны с Россией, то устроили забастовку: “Пусть капиталисты сами грузят и везут”. В 1919 году рабочие многих стран собрали миллиард марок в помощь голодающим Поволжья. Недаром первый декрет советской власти был о мире, его подписал Ленин – такова наша задача по международному вопросу».
Когда же он стал рассказывать про внутреннюю жизнь, про строительство Волховской электростанции, мы долго аплодировали ему.
Политкружок
Всю зиму каждый вечер мы ходим после работы в клуб на занятия политкружка. Руководительница – девушка в голубой косынке, сотрудница газеты «Ленинградская Правда» так интересно рассказывает о жизни революционеров, что я бегу туда с радостью. Несколько занятий она рассказывает о партии «Народная воля», в которой состояли брат Ленина Александр Ильич, Желябов, Кибальчич, Перовская, Михайлов и другие. Стали эти люди для меня святыней, вошли в сердце на место бога.
Иногда на занятия приходит председатель партийной ячейки. Один раз задал вопрос всем нам: «Как относился Ленин к этой партии 70-х годов и во время революции 1917 года?». Илюша Фридберг только усмехнулся. Для него и еще некоторых никакой вопрос не труден, а я продумала до полночи и не додумалась. На другой день после работы дождалась Илюшу у ворот и попросила его растолковать мне.
Мы долго сидим в саду у клуба. Он рассказывает мне, как боролась наша партия со всякими противниками все годы. Так мне захотелось быть агитатором, таким, как Илюша, чтобы в душу людям вкладывать нашу большевистскую правду. Я и в заявлении о вступлении в партию написала: «Хочу всю жизнь нести в народ Ленинскую правду о жизни». Поручились за меня двое, такие незаметные, тихие, вроде бы и неактивные товарищи, а на самом деле самые преданные партии: инструктор райкома Лускина и счетовод фабкома Сладэк. Когда мне подавали партбилет, то Лускина сказала: «Смотри на все вокруг, как хозяйка на родной дом. Береги в нем каждый винтик, каждый кирпичик».
Быстрокрылой птицей летит время. Словно в кинематографе мелькают события. Уже два года прошло, как приняли меня в партию. Куда только меня не выбирали за это время: я – делегат райсовета; уполномоченный нескольких добровольных обществ; редактор стенгазеты «Основа»; рабкор «Ленинградской правды», «Красной газеты», журнала «Работница и крестьянка». Не я одна. У нас теперь большой актив.
Как я ни стараюсь, а не угнаться мне за Катей Графчиковой, у которой на комплекте чуть ли не половина работниц выписывают газеты и журналы. Не угнаться за Марфой Егоровной Телятниковой, у той чуть не весь комплект записались в добровольные общества.
Мы перешли на четыре станка вместо двух (с нас сняли подсобные обязанности, чтобы больше было выработки). На комплекте у дяди Ивана Волкова работницы несколько месяцев работают без брака. Лучшей ткачихой считается моя землячка Мария Забелина. Ее ткань послали на международную выставку. Работница Леонтьева, член Ленинградского совета, добилась, что на фабрике открыли ясли. Ткачиха Храмова не в бровь, а в глаз подмечает, если кто допустит брак в работе. Я смотрю на все это, и у меня так радуется сердце, что, наверное, меньше бы радовалась, если бы мне подарили шелковое платье или плюшевое пальто. Я все сомневаюсь, можно ли коммунистке носить шелковое платье. Катя сказала, что можно. Мы и на собрании обсуждали, можно ли нам носить шелковые чулки и красить губы. Постановили, что шелковые чулки носить можно, а губы красить не годится.
Неповторимое
Давно уже «Красная газета» печатает мои заметочки о жизни фабрики. Но вот журнал Рабселькор поместил мой рассказ. И на собрании рабселькоров меня выбрали делегатом на третье всесоюзное совещание рабселькоров. Пятнадцать человек во главе с писателем Геннадием Фишем едет в Москву.
Огромный зал Дома Красной Армии полон делегатов. На трибуне одна знаменитость сменяет другую. Вот рассказывает Демьян Бедный о встречах с Лениным. Надежда Константиновна Крупская говорит о нашей вековой темноте, неграмотности, что надо всем нам учиться. Мария Ильинична Ульянова рассказывает, как создавалась «Правда», поддержанная рабочими. Она говорит о задачах рабселькоров.
Один из первых советских философов Слепков советует нам научиться думать: думать о прошлом, настоящем и будущем, думать о поступках окружающих и своих.
Журналист Сосновский призывает рабселькоров активно бороться за действенность заметок в газете. А сколько рабкоров и селькоров выступали со всех концов страны. На обратном пути в вагоне я говорю писателю Геннадию Фишу, что раньше я думала, чем богаче человек, тем счастливее: какое хочет платье, такое и купит, что захочет, то и поест. А вот сейчас вижу, что самая счастливая – это я, все мы, коммунисты, потому что поняли, в чем счастье, потому что знаем, наступит время – не будет бедных, голодных, обиженных. И от этого хочется мне молиться на наших вождей, на всех наших руководителей за то, что ведут они нас к светлой жизни. Стали они для меня вроде бога, которому со слезами молилась в детстве.
Внимательно слушал меня писатель, а когда кончила, то как-то с тоской сказал: «Не сотвори себе кумира…». Я спросила, что это значит, зачем заповеди-то Моисеевы читать? А он задумался, а потом как-то вроде невпопад ответил: «Поживем – увидим».
А жизнь преподносит мне все новые радости. На днях вызвали в редакцию журнала «Работница и крестьянка» и вручили путевку в Коммунистический Институт Журналистики.
«Ты за кого?»
Дискуссия, возникшая перед четырнадцатым съездом партии, продолжалась и после съезда. Казалось, что вся страна спорит, как целесообразней, как быстрей прийти к желанной цели – социализму. В КИЖе (Коммунистическом Институте Журналистики) спорили на занятиях, спорили в коридоре, спорили в общежитии.
– Ты за кого? – спросил меня как-то студент нашего курса Абажуров.
– Откуда я знаю, за кого я. – Чтобы прочитать все, что пишут о дискуссии, надо бросить все занятия, а я и так не справляюсь с учебными заданиями, – ответила я и, подумав, добавила, – конечно я за Зиновьева. Ведь он вместе с Лениным был. Он наш ленинградский вождь. И он выше всех занимает пост – председатель Коминтерна. Конечно больше всех знает.
– А хочешь его послушать?
– Конечно хочу!
– Приходи. Вот адрес.
В небольшой комнате человек двадцать студентов. Зиновьев говорит не столько по существу разногласий, сколько о личности Сталина, о его деспотизме – «хочет, чтобы все слушали только его одного». Рассказывает о характеристике Ленина, данной Сталину. «Уже исполнилось предсказание Ленина о том, что Сталин не сможет правильно воспользоваться всей полнотой власти, доверенной ему», – продолжал он. «Троцкого выслали за границу. Дойдет дело до арестов остальных противников Сталина. Разве так проводил Ленин дискуссии?».
С тяжелым сердцем ушла я с этого собрания. Я привыкла идти в партячейку, как в родную семью, с открытой душой. А тут, друг от друга таимся, друг против друга окрысились, будто враги.
Обстановка на втором нелегальном собрании произвела на меня еще более отвратное впечатление. Никто не стоял у двери, как на первом собрании. Беспрепятственно входили и уходили, кому вздумалось.
– Это вы называете партийной дискуссией? – с раздражением спросила какая-то женщина сидящего за столом мужчину.
– А в чем дело, товарищ? – удивился тот.
– К вам идут все, кому не лень. Любой враг пройдет беспрепятственно, и вы примете его за коммуниста, – ответила она и пошла к выходу. Несколько человек, в том числе и я, направились за ней.
Заявление 38-ми
Праздничная демонстрация 7 ноября 1927 года. На площади Дзержинского Зиновьев и Каменев выступают перед народом. Рассказывают о своих разногласиях с ЦК партии. Трудно передать чувство негодования, охватившее многих из нас – почитателей Зиновьева и Каменева. «Выносить разногласия партии на улицу, чтобы Контрреволюция воспользовалась этим в своей борьбе с советской властью. Это шаг недостойный и рядового коммуниста, не только вождей!», – проговорил Генкин и, придя домой, написал заявление, в котором признал неправильными свои взгляды на линию ЦК партии и обещал искупить свою вину своей преданностью партии. Это заявление подписали тридцать восемь сторонников оппозиции. Оно было напечатано в «Правде» и вошло в историю борьбы с троцкизмом под названием «Заявление 38-ми».
После этого заявления в «Правде» появилось множество заявлений отходивших от оппозиции ее бывших сторонников.
После этого мы девять лет честно и, как это водится у коммунистов, с «огоньком» работали. И все же нам беспрерывно напоминали о наших «грехах». Часто «сокращали политику». Хотя придраться было не к чему.
Последний май
Солнечный майский праздник 1936 года. С улицы доносится торжественная музыка. Старушка-мать подошла к нашей постели и тихонько толкнула меня в плечо: «Вставайте, опоздаете».
– Встаем? – обращаюсь к мужу.
– Встаем, – соглашается он.
Двухлетний сынишка, услышав наши голоса, карабкается к нам в постель и начинает борьбу с отцом.
– С праздником, сыночки, дочки! – поздравляет отец и подбрасывает малыша вверх.
– Папа, я с вами пойду на Красную площадь, – просит дочка.
– Пойдешь, Элиночка. Ты уже большая. Нынче в школу пойдешь.
– Толенька, пойдем на улицу, – зовет бабушка и уводит сына на улицу, чтобы не мешал нам одеться.
Мы завтракаем. Соседка принесла обещанный, уже разожженный утюг. Глажу праздничную одежду. Элинку охватывает бурная радость. «Я тоже буду идти и петь», – щебечет она. И запевает: «Шути и пой, чтоб улыбки цвели». Маршируя по комнате, она «по-взрослому», громко поет: «Никто пути пройденного у нас не отберет, конная Буденного дивизия вперед!».
– Мама, запевай ты, – командует дочка. Я запеваю свою любимую: «По долинам и по взгорьям…».
– Папа, твоя очередь запевать, – приказывает дочка. С большой грустью запел Абрам Борисович: «Полегли, уснули на земле сырой скошенные бурей Октября герои».
Глава 4
«Умотрясение»
Отзвенел Май 1936 года. В трудовые будни острей чувствуется усиливающаяся тревога в партийных рядах. Идут аресты коммунистов, которые не были согласны с линией ЦК в период дискуссии XIV съезда партии. Их объявляют врагами народа. Многие из них не были сторонниками Троцкого, но при аресте их клеймили «троцкистами». Приемные руководящих лиц, что называется, ломятся от жалобщиков. Множество записок, о сем писалось в НКВД: «Знаю товарища по работе в ссылке…»; «Прошу разобраться…» и т.д. «Разбирались…». Останавливали дело, обнадеживали человека и, как только успокаивались жалобщики, их вновь забирали. В редакцию «Рабочей газеты», где я работаю, приехала рабкорка Топилина из Ростова-на-Дону. Она рассказала следующее. В кабинет секретаря обкома партии вошел прокурор города. С возмущением стал рассказывать, что по городу идут массовые аресты без санкции прокурора. Секретарь немедленно пригласил начальника отдела НКВД. Прокурор повторил свою жалобу. «Вы что, не верите органам безопасности?», – вызывающе спросил начальник. «А вы не верите органам юстиции?», – ответил на вопрос вопросом прокурор. Секретарь потребовал от начальника разобраться. Но… едва прокурор вышел из обкома, его встретила машина «черный ворон»… Прокурор и до этого много возмущался, и его арест уже был решен.
В одном из центральных журналов появился рассказ писателя Артема Веселого. Письмо солдата к своему командиру, с которым они вместе прошли фронты Гражданской войны. «Могу ли я быть «врагом народа», если я сам отстоял советскую власть?», – писал солдат. Едва вышел в свет этот рассказ, Артем Веселый был арестован.
Странное дело, какое-то непонятное чувство охватило меня. Будто я сама перед кем-то очень виновата. А сегодня, в перерыв, остановила меня в коридоре наборщица типографии Аня и говорит: «Прочитала я в журнале «Письмо солдата своему командиру» и разревелась, будто я посадила в тюрьму этого солдата».
– Аня, – говорю я, а сама чуть не плачу, – может так и нужно поступать с теми, кто принес вред партии тогда, в 1924 году. Во время дискуссии нелегальные собрания устраивали. Правда, все они признали свои ошибки, и давно уж никто не говорит о своих платформах.
– Так их всех давно пересажали. Многих уже нет в живых, – говорит она. А теперь словно под метлу метут, массовые аресты. Забирают таких, которые ни словом, ни делом не были противниками советской власти. Под маркой борьбы с троцкизмом расправляются с народом. Вот что непонятно. Моя мать – старая коммунистка. Она знает Блюхера, Раскольникова, Сысоеву и многих других. Эти люди не были в оппозиции; Блюхера нет в живых, Сысоева в тюрьме, а Раскольникова объявили врагом народа, а потом кто-то выбросил его из окна парижской гостиницы. Он был там посол во Франции. А с народом что делается? Понаблюдай, что творится у Бутырской тюрьмы – стон стоит. Сотни людей стоят с передачей. Мою родственницу, семнадцатилетнюю Зою Смирнову в Ярославле арестовали за то, что она пришла в редакцию и пристыдила их за то, что они написали ложь в своей газете. И из редакции не выпустили девочку. Так в легком платьишке и привели в тюрьму.
В коридоре раздались шаги. Аня замолчала. Мы и не заметили, как проговорили весь перерыв. Вечером я рассказала мужу о разговоре с Аней. В его глазах блеснул гнев. Он подошел к портрету Сталина, висевшему на стене, и продекламировал из Пушкина: «…Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть твою я с гордой радостью увижу».
– Нечестно таить от партии такие мысли, – как-то нерешительно, с чувством сомнения, сказала я. Он подошел ко мне и с болью произнес:
– Понимаю, что поступаю нечестно. Коммунист должен любить и уважать своего вождя. Но что я поделаю с собой, если нет у меня любви к нему.
– Я сама не питаю к нему добрых чувств, но считаю, если партия утвердила его вождем, надо уважать его.
– Уважают по велению сердца, а не по обязанности. Мы боялись, чтобы контрреволюция не воспользовалась разногласиями в партии, а выходит Сталин воспользовался разногласиями в партии и косит народ наповал.
Мы проговорили до полночи. На работе и […] и сердце на части рвется: в редакционной почте большой наплыв писем, а в письмах тот же стон, что у Бутырской тюрьмы:
«За что?», – пишет малограмотная работница Калмыкова из совхоза Салтонского района Алтайского края, рассказывая о знатном агрономе, чье имя недавно красовалось на доске почета. Его арестовали. Жену с двумя детьми из коммунальной квартиры выгнали.
«За что?», – пишет учительница Микрюкова о своей сестре Федосье Тимофеевне, из Павловского района того же края.
«За что?!», – с гневом пишет сын участника Гражданской войны, каторжанина царской каторги Сергея Ивановича Ткаченко.
«Проверьте, кто пробрался в НКВД и арестовывает настоящих советских людей», – советует слесарь Московского автозавода, комсомолка Валя Матвеева.
«Дети порвали портрет Коссиора, а бабушку посадили за это на три года», – с трудом разбираю письмо школьницы из деревни Ларьки, Коми АССР, Ани Смирновой.
В редакции было распоряжение: такие письма отдавать для сводки в ЦК партии с пометкой «Л». К концу дня я целую папку таких писем отдала заведующему отделом писем Коржу.
После работы экстренное партийное собрание. Секретарь парторганизации Масленников плетет на меня какую-то ересь. Приклеивает мне ярлык «контры», а ярлык не клеится. Он нервничает, заикается и все же уверяет, что я скрытый враг. По его настоянию меня исключили из партии. Одни голосовали решительно, другие – едва подняв руку, третьи воздержались. В протоколе записали «исключили большинством голосов». После собрания подошла к Масленникову, спрашиваю, как у него язык повернулся сказать такое.
– Знаете, товарищ Тернигорева, бывают в жизни моменты, когда говоришь не то, что думаешь, – смущаясь, ответил он и быстро отошел от меня.
После этого меня перевели с редакционной работы на техническую, в издательство.
Арест
К моему рабочему столу подошел человек в штатском и с подчеркнутой вежливостью попросил пройти с ним. Тут же подошел начальник отдела подписки Ринейский.
– Что у вас тут еще не закончено? – спросил он.
– Не беспокойтесь, вечером посижу подольше и все сама сделаю, – отвечаю я. Он с удивлением посмотрел на меня и ничего не сказал. Мы вышли. А через час я уже лежала на цементном полу в «собачнике», так прозвали уголовники эту конуру из цемента с окованной дверью. Нигде ни щелочки. Приток воздуха поступает из коридора в те секунды, когда дверь открывается, впускает и выпускает арестантов. Словно рыба на суше я широко открытым ртом ловлю воздух. Мыслей нет. В оцепенелом существе одно желание – дышать, а дышать нечем.
Из «собачника» перевели в клетку из железных прутьев. В этой клетке я со всей остротой почувствовала, что свобода отнята: клетка находится на лестничной площадке. Я вижу, как вокруг меня снуют люди, приходят, уходят. Женщина-дежурная сказала своим товарищам «до завтра», и ушла домой. Какое счастье – прийти домой! Меня ждут: двухлетний сынишка, престарелая мать, восьмилетняя дочка. А муж? Наверное, и он где-то тут в клетке сидит. Оба мы ни в чем неповинны. Если меня взяли, значит, и его тоже. А может завтра отпустят?
– Выходите, – выводит меня из раздумья резкий, женский голос.
– Домой? – спрашиваю я. Она насмешливо скривила рот.
Меня раздели догола и бесцеремонно обшарили голое тело от головы до пят две усердные женщины. Потом ввели в какую-то черную мастерскую. Мрачный «алхимик» приготовил состав, велел растопырить пальцы над столом. Я подумала, что продолжается обыск, и только когда он нажал на мои пальцы, и я увидела отпечаток, тогда поняла, что меня сравнили с убийцами. Дико вскрикнув, забилась в истерике. Меня куда-то заперли. Кто-то чем-то попоил, и уложили на скамейке.
Поздно вечером конвоир повел меня по двору от одного к другому корпусам, по коридорам, по этажам. Как в тумане мелькали суровые лица охранников, усталые, раздражительные лица следователей и камеры, камеры с волчками в двери. Наконец ввели в десятый коридор и распахнули тяжелую дверь. Со скрежетом, тяжело ухнув, дверь закрылась за мной. Я пошатнулась в изнеможении. Несколько рук узниц подхватили меня и усадили на скамейку у длинного стола. Вздрагивая от беззвучных рыданий, я лила слезы о своих детях.
Мы перезнакомились. За малым исключением, камера была заполнена коммунистами, комсомольцами, беспартийными – передовиками производства, стахановцами. Все мы жили надеждой, что все разъяснится, что нас поймут и поверят. Ведь мы не врали.
Нас предупредили, что на политические темы говорить нам запрещается. Рассказывали анекдоты, кое-что из литературы. Как-то, обсуждая никогда не стареющую тему о любви, наша староста камеры Зина, женщина с бледно-серым лицом, какие бывают у узников от долгой неволи, рассказала историю. В мирную, с виду счастливую семью, где жизнь шла ровным, спокойным течением, жена-домохозяйка заботилась о муже, который, что называется, дневал и ночевал на вновь строящемся заводе, в эту тихую заводь вторгся пылкий любовник. Не обладая умом и совестью, женщина потеряла рассудок в омуте пылких свиданий. По заданию любовника она выпытывала у мужа что-то, по ее словам, не очень значительное, о заводе. История кончилась арестом изменницы. Каково же было ее удивление, когда, войдя в кабинет следователя, она увидела своего любовника. Он смотрел на нее глазами кота, поймавшего глупого мышонка.
Ворох мыслей и вопросов закружился в голове после этого рассказа. Что это? Провокация? Что со мной? Кого подозреваю? Самую святыню советской власти. Неужели я теряю бдительность? Неужели перерождаюсь? Разве можно не доверять органам безопасности?
А почему эти органы мне не верят? Вот и опять у меня в голове мысли «контры». Лучше не думать… Разберутся… Партия поверит, что мы не враги.
Как душно в камере. Разгар лета. Окна плотно закрыты. Кроме решеток, у каждого окна прибиты деревянные ящики, чтобы арестанты ничего не могли видеть за окном. Дневной свет попадает только в верхнее стекло. На верхнее стекло я подолгу смотрю, пока голова не устанет от напряжения. Только в этом стекле качается на ветру зеленая ветка тополя, будто приветствует нас.
Сидим в лифчиках и трусах и обливаемся потом. Каждый день прогулка на 15 минут в каменном дворике.
Каши и супа можно есть досыта… Многие, получая передачу, не едят тюремный обед. Мне не от кого ждать передачи. Осталась старая мать с малыми детьми. Написала я заявление наркому Ежову, чтобы помогли моей матери, но что-то не верится мне в эту помощь. Сколько же это надо помогать, если только в нашей камере за месяц с двадцати человек дошло до сорока. Вместо узенькой арестантской раскладушки двойные нары поставили. Я пока досыта ем суп и кашу, но у горла комок стоит – всегда вспоминаю свою бедную мать, может голодная сидит и, уж конечно, слезы обо мне льет.
Самая большая радость в тюрьме – это сон и весточки из дома. Если бы можно было, я бы и днем спала, чтобы скорее пережить этот ужас... Но и во сне часто видишь арест, да и не разрешают спать днем.
На допросе
Каждый день кого-нибудь из камеры вызывают на допрос. Возвращаются оттуда какими-то окаменелыми. Не едят, не разговаривают, долго не спят. «Я отупела от сознания доказывать свою невиновность и теперь отвечаю следователю лаконично: «да, нет», – делится со мной старая коммунистка Кан Сара Моисеевна. – «Так он стал грозить мне, мол, заставлю говорить все». «Неужели они могут применить пытки?», – удивились мы с ней и тут же решили: «Не может быть».
Только трое из сорока возвращались в камеру непохожие на всех.
Янина Мячеславна Козловская, дочь старого большевика, соратника Ленина, Мячеслава Юльевича Козловского. В 1917 г. Янина прямо со школьной скамьи вступила в партию. Тогда отец сказал ей: «Доволен я, дочка, твоей судьбой. Правильный путь в жизни взяла ты. Жаль, что не пришлось тебе посидеть в тюрьме. Тюрьма закаляет революционера». Сейчас мы сквозь слезы смеемся над словами ее покойного отца.
Уходила на допрос Яна и возвращалась оттуда спокойная и суровая, какая-то строгая. Следователь ли ей попался человечный, или она сумела повлиять на него, но не было в ее выражении лица моральной пытки, присущей всем.
Комсомолка с московского автозавода Валя Матвеева возвращалась с пылающими щеками, будто с шумной дискуссии. Один раз она с горечью произнесла: «Ну почему они не верят мне? Какой я враг, кому это пришло в голову?».
– Поверят, Валя, поверят. Придет время, – тихо произнесла Козловская, молчавшая целыми днями.
Третья, непохожая на всех, была полная, с болезненным цветом лица, средних лет женщина. Ее дело было связано с какой-то тайной о бриллиантах. Из обрывков слов, когда она рассказывала, столпившимся вокруг нее было слышно: «сад»…, «яблоня»…, «бабушка»…, «лопата»…, «лом»…
Нервы этой женщины выработали защиту от следователя – она быстро падала в обморок. Не успеют вызвать, как смотрим – уже несут на носилках, или ведут под руки.
Было в камере несколько спекулянток. Бесшабашные, веселые, они, как говорится, и в ус не дули.
Дошла очередь до меня. Первые три допроса создали у меня впечатление, будто я не на допросе у следователя, а на приеме у секретаря райкома! Следователь Поляков с чувством говорил о моей комсомольской юности. Он просил быть искренней и помочь другим отойти от «вражеского влияния». Я не знала, чего от меня хотят, но поверила ему и готова была и в огонь и в воду.
Как-то привели на допрос. В кабинете были два следователя.
– А все-таки вы неискренни с нами, Агриппина Ивановна, – встретили они меня. Я с удивлением посмотрела на них. Ведь я рассказала о моем выступлении против Сталина в студенческие годы. Рассказала о посещении двух нелегальных собраний троцкистов. Ведь мы тогда же осудили свои поступки. Я рассказала на партийном собрании, а муж в своем «Заявлении 38-ми», напечатанном в «Правде». Девять лет мы после этого работали в партии без замечаний. Чего же сейчас от нас хотят?
– Вот заявление вашего мужа. Он показал мне на большом листе знакомый почерк мужа и со всеми подробностями рассказал о нашем с мужем разговоре у портрета Сталина.
Они принялись стыдить меня за неискренность, я подосадовала в мыслях за свойственную ему правдивость. Какая-то интуиция подсказывала мне, что об этом факте не стоит говорить. А теперь, когда им все известно, мне ничего не оставалось, как подтвердить тот разговор.
– Вот, подпишите, – подал мне следователь огромный лист. Я стала читать и сердце похолодело. Там было сказано, что все мы, посещавшие нелегальное собрание, являемся контрреволюционной группой, ставившей себе задачей убить Сталина. Я со слезами уверяю, что ничего этого не было. Они на меня кричат, грозят принять крайние меры! И вдруг утихли и снова ласково убеждают, что это обвинение оттолкнет от троцкистского влияния всех, кто еще не отошел от них, что мой муж, искренне желая побороть троцкизм, подписал этот документ. Подпись мужа они мне показали. Оба убеждали меня, что нас всех отпустят домой, что цель арестов – добиться искренности и освободить массы от троцкистского влияния.
Чтобы я верила им, они назвали свои фамилии, Поляков и Вершинин, и показали свои партбилеты. Словесная пытка закончилась тем, что я подписала этот документ.
В камеру меня привели в полночь. Все спали, только Козловская лежала с открытыми глазами в состоянии глубокого раздумья. Я поделилась с ней своими сомнениями. Она резко осудила меня за необдуманность. «Вы дезориентировали партию. Она может думать, что мы и на самом деле враги. Дискуссия перед XIV съездом была разрешена партией. О наших ошибках знали и, если не исключили, то значит, не считали врагами», – сказала она.
– Но следователи-то коммунисты, они сказали, что это в интересах партии, – засмущалась я.
Она усмехнулась и тяжело вздохнула.
Только после этого до моего сознания дошло, что я совершила роковую ошибку. В отчаянье писала наркому Ежову, следователю, просила принять меня. Никто не ответил.
Приговор заочно
Человек тридцать стоим у плотно закрытой двери. А за дверью суд. Нас вызывают по очереди и выдают бумажки, почти всем одинаковые: «За контрреволюционную троцкистскую деятельность приговорить к пяти годам исправительно-трудовых лагерей». Бумажки отпечатаны на машинке, только фамилия написана от руки на заранее оставленной строчке.
Комсомолка Валя, получив бумажку, посмотрела на всех строго (судей, щедро раздававших бумажки-приговоры, за столом сидело пятеро) и спросила: «Вы о чем-нибудь думали, когда писали вот эту бумажку?». Ей ничего не ответили.
После приговора нам разрешили свидание с родными. Среди слез и отчаянья не обошлось и без курьезов. Пятилетняя племянница Козловской, Ванда Воровская, увидев на свидании отца, с удивлением воскликнула: «А говорили, что папа все сидит, а он не сидит, а стоит».
С трудом скрывая отчаянье, смотрела я на свою семидесятилетнюю страдалицу мать, лепетала ей что-то бессвязное о скором освобождении и испытывала перед ней мучительный стыд за действия своего вождя… Уж кто-кто, а мать-то знала о моей честности и беспредельной преданности советской власти. Посмотрела я вслед ее худенькой фигурке в кашемировом платочке, и сердце сжалось болью. Она оставалась без средств к существованию. Из родных и близких я была у нее одна! (Наскитавшись по миру за милостыней, она в войну умерла с голоду.)
Этап
После свидания с родными нами набили товарные вагоны с двойными нарами, заперли двери на железные засовы и поезд тронулся.
Интересное совпадение, в такой же солнечный денек, за десять лет до этого, как я уже писала, ехала я в Москву в составе ленинградской делегации на Третье всесоюзное совещание рабселькоров. Делегацию возглавлял весельчак, писатель Геннадий Фиш. Он лежал на верхней полке и на ходу писал частушки о каждом из нас и общий припев. Пока мы успевали пропеть частушку и припев, сверху, словно блин со сковороды, летела новая частушка о следующем из нас. В эту минуту, когда арестантский поезд тащит нас в неведомое, а сердце надрывается тоской о детях, матери, муже, я впервые, мне кажется, по-настоящему задумалась над выступлением философа Слепкова: «Учитесь думать»… Задумалась над тем, что же происходит вокруг? Откуда вдруг сразу столько врагов набралось? Ответа никто сейчас не даст. Надо было искать ответа, пока взаперти не очутились.
Не торопясь идет арестантский поезд. Подолгу стоит на станциях, видимо, пропуская другие поезда. В определенное время конвой с грохотом раздвигает двери. Вносят бачок с кашей и кипятком. Делают перекличку и запирают двери. Мы снова одни в полумраке своего «купе». При шуме колес безопасно беседовать. Выкладываем друг другу свои израненные души: «…Шли мы с Сашенькой в баню. Хотя ему всего четыре года, но шел молча, и вообще последнее время был крепко задумчив. Тосковал об отце, арестованном несколько дней назад. Был вечер. Шел дождь. Вдруг темноту прорезала фара «черного ворона» и остановилась перед нами. Из машины вышли двое, и опомниться я не успела, как меня подхватили под руки и втолкнули в машину. На ходу объявили, что я арестована. Я услышала душераздирающий крик Сашеньки.
– У меня не лучше. Двое малолетних детей с семидесятилетней старушкой без средств остались. Запасов не было. Жили от получки до получки».
За много дней пути слушаю эти надрывные рассказы и ни в одном не вижу враждебности к советской власти, а недоумение, растерянность у всех.
В нашем вагоне почти все коммунисты, комсомольцы, передовики производства: слесарь, комсомолка Валя Матвеева, каторжанка царской каторги Нина Валентиновна, педагог Елизавета Ильинична Печеник, литератор Агнесса Борисовна Солнцева, медсестра Людмила Смирнова, комсомолка из Управления НКВД Клава Комарова, высказавшая свое возмущение в адрес Сталина и многие, многие советские труженики.
Когда мы садились в арестантские вагоны в Москве, яркое солнце слало нам прощальный привет, а небо было голубое, чистое и такое огромное. А когда вышли из поезда в Котласе, первое, что я увидела, были огромные кучевые, серо-белые облака. Казалось, что небо спускается, чтобы придавить нас. Это впечатление усилилось, когда мы услышали команду: «Встать на колени!». Нас ставили на колени, чтобы конвою было удобно считать нас по головам.
Дальше нас везли на пароходах, в трюме, конечно, по северным рекам. Шли пешком по тайге и, наконец, на грузовых машинах въехали в совсем еще молодой город Чибью, построенный руками невольников.
Среди непроходимой тайги город выглядел сказочным. Двухэтажное, со всех сторон застекленное здание столовой. Со вкусом отстроен театр и стадион. Широкая улица, окаймленная с обеих сторон канавой, поросшей высокой травой. По обе стороны одноэтажные домики, выкрашенные светлой краской. И к каждому дому через канаву мостики с резными перилами. Дома со всех сторон окружены молодым сосняком. В городе живут вольные и лагерное начальство.
Нас проверили у Управления лагерями и распределили по многочисленным лагпунктам. Я попала в растениеводческую колонну Ухтинского совхоза, расположенную в двух километрах от Чибью.
Едва мы переступили зону лагпункта, нас окружили «старожилы» и начали расспрашивать: кто, откуда, что «там на воле» делается, что слышно о нашей судьбе. Мы только и могли сообщить, что идут бесконечные аресты, а у них здесь идут упорные слухи, что скоро всех освободят.
На пункте стояло несколько хорошо побеленных бараков. В одном из них была столовая, она же клуб. Небольшой домик – медпункт. В стороне баня и совсем в стороне, прижавшись к соснам, стоял домик агронома. Нас встретил комендант Алексеев, пожилой человек с ястребиным взглядом, резкими движениями и повелительным тоном. Позже мы узнали, что он много лет находится в лагерях, имеет несколько судимостей, а первая судимость за участие в банде Махно.
В кругу отверженных
Комендант направил меня в первый барак. Я вошла в светлую длинную комнату с побеленными стенами, чисто вымытым полом. У стен по обеим сторонам стояли топчаны. На многих из них лежали только матрасы, набитые сеном, и такие же подушки. И только несколько из них были прикрыты одеялами. Посредине стоял длинный стол, и возле него длинные скамьи.
Был вечер. Все обитатели находились в бараке. Которые постарше, сидели на своих топчанах и у стола на скамейках и тихо разговаривали. Несколько девчонок вертелись перед обломками зеркала, поставленными на подоконник. Кто-то смеялся, кто-то напевал песенку. Ко мне подошла пожилая женщина и охрипшим голосом спросила: «Тебе чего?». Я подала записку коменданта. Она молча указала на мое место, крайнее у двери.
Положив свой узелок на топчан, я села и задумалась. Обстановка в бараке показалась мне благоприятней, чем в тюрьме и этапе.
– Ты чего не раздеваешься? – спросила дневальная.
– Да я смотрю на вас и удивляюсь… Вы и смеетесь, и поете, и даже пудритесь, будто на воле, – говорю я.
В ответ раздался взрыв хохота. Ко мне подошла худенькая, с блеском живости в глазах женщина и тоном, в котором слышалась и грусть, и ирония, проговорила: «А ты думала, что мы здесь все слезы льем? Выплакали слезыньки-то… Их не осталось больше». И уже совсем весело добавила: «Погоди, мы и тебя замуж выдадим». И снова дружный смех.
Дневальная принесла ведро кипятку и вылила его в бачок, стоявший у двери на табуретке. Все потянулись к нему с кружками.
– Тебя на довольствие зачислят завтра, – сказала она мне.
Я достала оставшийся от этапа кусочек хлеба и половину воблы, налила в кружку кипятку, поужинала и улеглась на топчан, постелив на него свое пальто. Подушка и одеяло были у меня из дома.
Уже затихали разговоры. Кое-где раздавался храп. В барак вбежала высокая, рыжая, веснушчатая. Не рассчитав высоты двери, стукнулась головой о косяк. Хриплым голосом пустила многоэтажную брань.
– Договорились же не ругаться…
– Ты зюзя, – раздался укоризненный голос и добавил: – Может новенькая-то бригадиршей будет… Она вроде ничего.
– А мне один х.., что та, что эта, – ответила рыжая.
– Дождемся, что от нас все сбегут. И пайку некому будет выписать, – заметила первая.
– Подъем! – раздался властный голос. В барак вошли трое: нарядчик – мужчина средних лет, старик каптер и воспитатель, высокий, слегка полный. Одет он в приличную одежду вольного. Лицо его выражало спесь и тупость. Еще вечером я слышала о нем из разговоров в бараке, что осужден он за растрату крупной суммы. Как бытовик, в отличие от политических, пользуется кое-какими привилегиями, живет в отдельной каморке. Стараясь придать голосу начальствующий тон, он назвал мою фамилию и объявил, что меня вызывает начальник.
В конторе, постройке барачного типа, с широкими, из мелких стекол окнами, в ожидании начальника беседовали между собой молодой мужчина- кавказец и женщина средних лет. Это были два бригадира. Они назвали себя: Марфа Ивановна и Григорий Гагуа. Узнав, что меня вызывает начальник, они заранее посочувствовали мне: «Видно, назначат бригадиром самых «отпетых» (уголовников). За короткое время от них сбежали три бригадира».
Вошел начальник. Тоже заключенный. Он числился заместителем. Начальник был вольный, но его здесь никто никогда не видел – рассказали мне бригадиры. Огромное хозяйство совхоза целиком лежало на плечах заместителя, Андрея Ивановича Белинского и его помощника, заведующего парниками и теплицами, шестидесятилетнего Александра Гавриловича Бахарева.
Начальник открыл свой «кабинет», маленькую каморку, отгороженную дощатой стенкой, и пригласил нас. Бригадиры, получив распоряжение, вышли. Я осталась.
– Придется вам, Агриппина Ивановна, принять бригаду. Опыт массовой работы у вас есть, – сказал он.
– Откуда вы знаете о моем опыте? – удивилась я.
– Вы же работали в редакции.
– Там люди другие.
– Да, люди здесь не те. Убийцы, воры, мошенники. Вот и наставляйте их на путь истины. Зарабатывайте себе освобождение.
– У меня тяжелое самочувствие. Не справлюсь.
– Самочувствием здесь никто не интересуется. Нас обязывают не просить, а приказы выполнять. Вот нарядчик Щукин введет вас в курс дела, – указал он на мужчину средних лет, сидевшего рядом и усмехавшегося при нашем разговоре.
Мы вышли. Каптер, черноглазый, дышащий здоровьем старик выдал мне брюки, гимнастерку, фуфайку, бутсы – прорезиненная обувь сверхбольшого размера, матрас, наволочку и простыню.
– У вас одеяло есть? – спросил он.
– Есть, – отвечаю.
Нарядчик незаметно толкнул меня в бок. Я не поняла этого намека, а когда вышли, он сказал: «Зачем сказала, что одеяло есть? Здесь такие холода бывают, что и под тремя не жарко будет. Эх ты, новенькая, не научилась еще хитрить».
Он дал мне бланки для рапортичек и повел в бригаду.
Мы шли полем, изрезанным четырехугольниками глубоких, но узких канав. Поле было очищено от кустов и пней. Всюду стояли штабеля из пней вековых деревьев. Перепрыгивая через канавы, мы добрались до поляны, усеянной пнями.
– Что мы будем делать? – спрашиваю я.
– Будем сторублевый лес валить и на его месте копеечную репу сеять, – рывком, как будто сгоряча, ответил он и, как бы спохватившись, что сказал неладное, рассудительным тоном пояснил, – заключенного надо исправлять трудом, а какой труд можно придумать в этой вековой тайге, где до нас еще не ступала нога человека? Надо валить лес, и что-нибудь сеять. И опять же, бараки строить надо и отапливать их. От лесоповала никуда не спрячешься. Вот только пни жаль. На дрова их никто не осилит колоть. Велят жечь на месте. Вот и отапливаем вселенную. Построить бы бумажную фабрику, сырья хватило бы на несколько десятков лет.
– Почему же вы не внесете это предложение через газету? – удивилась я.
– Я уже внес предложение… И попал сюда. Вижу, ты надежный человек, поделюсь с тобой, – озираясь кругом, проговорил он. – В Москве, возле Тимирязевской академии стали строить кирпичную стену метровой ширины. Предполагалось построить ее в несколько километров, якобы для охраны лесопитомника, чтобы никто туда не ходил. Вот я и написал злое письмо: «Народу, говорю, жить негде, жилья не хватает, кирпич – дефицит, а вы лес огораживаете». Через несколько дней за мной подъехали ночью на «черном вороне»…
Мы подошли к опушке леса, где должна была работать моя бригада. Поляна была размечена делянками в сто квадратных метров и отмечена колышками. У первой делянки лежал в куче инструмент: кирки, лопаты, ломы, пешни и несколько вал – огромных жердей. В стороне в нескольких местах сидели и лежали «работяги». Большинство из них молодые, некоторые выглядели совсем юными. Они были привезены из детских колоний при совершеннолетии. Все одеты в брюки, бутсы, фуфайки. На голове шапки-ушанки, без меха, напоминающие монашеские клобуки. Лица у всех серые, какие-то изможденные. Две из них обратили на себя мое внимание. Кареглазая средних лет женщина с выражением безысходной тоски на лице пела какую-то грустную песню о разлуке. Другая, совсем юная блондинка с пухлыми, по-детски сложенными губами, лежала на спине и задумчиво смотрела на ползущие над нами облака.
– Вот она, бригада «ух», работает до двух. Время – одиннадцать, а они еще и за инструмент не брались, – зло проговорил нарядчик.
– А ну, собирайтесь сюда! – крикнул он. Никто и ухом не пошевельнул.
– Хомутинникова, Викорева, Штурмина, идите сюда, – повторил нарядчик.
Вызванные не спеша поднялись и тихо подошли к нам. Остальные продолжали лежать. Нарядчик взял список бригады и стал перечислять всех по одному. И только тогда бригада «ух» собралась вместе.
– Вот ваша бригадир, Агриппина Ивановна, – представил он меня, облегченно вздохнул и поспешно удалился. С сегодняшнего дня с него снята ответственность за работу этой бригады.
Меня рассматривали с любопытством и насмешливо. Маленькая ростом, в сильно поношенной арестантской одежде и обуви огромного размера я выглядела чучелом на огороде.
– У тебя какая статья? – вызывающим тоном спросила меня рыжая, что вечером стукнулась о косяк двери.
– Пятьдесят девять – три, – усмехнувшись, назвала я статью, означающую бандитизм с убийством.
– Ты давай к нам не примазывайся, контра, – отрезала рыжая.
– На корчевке все статьи равны, – ответила я и добавила, – меня предупредили, что понесу уголовную ответственность, если буду писать «туфту» (записать незаработанное), так что имейте в виду – что заработаете, то и запишу. В ответ мне кто свистнул, кто крякнул, кто пустил острое словечко. Из толпы выделилась невысокая, полная, с оплывшим лицом женщина. Поднося мне фигу к носу, она зло проговорила: «А вот этого не хочешь? У нас недолго и туда угодить…» – указала она на реку, протекавшую вблизи. Раздались возгласы одобрения. Вокруг меня сжалось тесное кольцо озлобленных лиц. Сердце похолодело. Вокруг ни души. Бригада расконвоирована. «Так вот где таилась погибель моя…», – мелькнула мысль. И в миг, когда зачинщица схватила меня за шиворот, я решила – умереть, так с песней!
– Мне все равно, где погибать, – стараясь придать голосу спокойный тон, проговорила я. Но вам-то какая польза? Пришлют другого. Может еще строже. И то сказать, хотя меня и называют контрой, а следствие все равно вести будут. То ли вам решетка не надоела?
– Герка, перестань бузу затевать. Ты, бригадирша, нас не обижай, а мы тебя не выдадим, – умиротворяюще произнесла кареглазая и первая пошла за инструментом.
Дуся, так звали кареглазую, была воровка с многолетним опытом. Обладала уравновешенным характером и рассудительностью, что в их среде было редкостью. Не теряя воровских привычек, она в то же время не лезла на рожон, предупреждала друзей от «провала», за что пользовалась авторитетом. Свою историю она рассказала мне в первый же вечер. Работала на кондитерской фабрике в Петрограде. Была бойкой, веселой девушкой. Всегда пела. Случайно проходивший мимо ее окна главарь воровской шайки услышал ее голос, добился знакомства. И она пошла по его черной тропе, перешагивая через трупы его жертв.
За инструментом пошла и юная Хомутинникова. Понемногу все принялись за работу, за исключением Ирки Субботиной, что подносила мне фигу к носу. Я подошла к ней и не успела ничего сказать, как она сама мне отрезала: «Вот что, бригадирша, не я пеньки сажала, не я их и дергать буду. На другую работу пойду».
– Я попрошу начальника насчет другой работы, но сегодня делай то, что я тебе запишу, ты подумай, Ира, – сказала я.
– Эх ты, размазня, – вновь закипела Ирка. Посмотри на эту поляну. Те штабеля пней неугасимым огнем горят: как кто норму не выполнил – «сжигание пней». Работа поденная…». Она прищелкнула языком и окинула меня уничтожающим взглядом.
– Как же я запишу тебе «сжигание пней», когда ты их не жгла? – недоумеваю я.
Взрыв хохота потряс всех, кто стоял вблизи и слышал этот разговор. Одна из них очень ловко скопировала мое недоумение и этим еще больше рассмешила всех.
Ко мне подошла черненькая, с завязанной щекой, с челкой до глаз и укоризненно проговорила: «Святоша, тебя в монастырь надо было сослать, а не сюда. Не на тот поезд ты билет взяла. Здесь все врут, а больше всех –начальство. Норму-то тот написал, кто тайги не видел и баланды не нюхал. В кресле-то сидя, да в обед свининой обжираясь, можно на бумагу норму наворочать. Я бы за жирные щи да за кусок свинины, эдак с килограммчик, может две нормы бы выполнила».
– Тоська, давай не заливай, – насмешливо произнесла молоденькая, с завитушками на висках Клава Штурмина. Давясь смехом, она добавила, – за кусок свинины ты бы только один день поработала, а потом бы сказала «украсть легче».
– Не больно легко… Скулы-то нет, – добродушно отозвалась Тося, показывая завязанную щеку.
– А знаешь, Клавка, – заговорила Тося, – дали бы мне работу в красивой мастерской, чтобы ковры на полу были, шелковы занавеси на окнах, вышитые скатерти на столах. Сидела бы я на венском стуле и мастерила бы шляпы. И на твою дурную голову смастерила бы шляпу, – рассмеялась Тося.
– Давай, Тося, подтянем норму вместе, – предложила я, – и будет дело в шляпе. Все уже принялись за работу, один твой участок не начат.
– Уж если хочешь помочь нам, бригадирша, то давай вон того черта выдернем, –- сдалась наконец Тося, указывая на пень вековой сосны.
Мы подошли к пню. Тося ударила обухом топора по стволу. Плотный, звонкий звук подтверждал, что пень и не начинал дряхлеть.
У Тоси в звене были трое: она, юная Хомутинникова и подтянутая, даже в лагерной одежде опрятная, с завитушками на висках, Клава Штурмина. Звено принялось работать дружно и, к моему удивлению, ловко.
– Если так будете работать, то о вас загремит слава по всей тайге, – заметила я. В свою очередь они удивились, что я, «фраерша» (не уголовница), так хорошо работаю топором.
Опыт батрацких лет пригодился мне в неволе.
Мы уже расчистили большое углубление и чем глубже обрубали корни, тем больше, казалось, таится их в земле: сотнями корней, расположенных вертикально и горизонтально, переплетенных с корнями других деревьев, держалась сосна за землю. Несколько раз подкладывали мы под пень вагу (очень толстая жердь) и повисали на ней все четверо, но пень и не собирался вылезать, обнаруживая все еще не обрубленные корни. Наконец, пень зашатался, но тяжести наших тел не хватало, чтобы перевесить его.
– В кучу малу! – крикнула Тося. Из соседних звеньев сбежались еще шестеро. Все повисли на ваге, и пень с каким-то кряканьем вывернулся и лег на бок, обнаруживая многочисленные корни, упругие, плотные, тонкие и толстые, длинные и короткие. Невольно подумалось, вот если бы человек так держался за землю, за каждый ее клочок, то всегда был бы сыт и долголетен, как сосна.
– Бригадирша, принимай работу, сейчас звонок будет, – крикнула Ирка. Я взяла двухметровку, замерила участки и тяжело вздохнула. Только звено Дуси кареглазой выполнило норму на семьдесят процентов. Остальные еще меньше, а звено Ирки – всего тридцать процентов.
Что же мне делать? Писать правду – значит обрекать людей на голод, выдумывать – обрекать себя на изолятор (тюрьма в тюрьме).
Арестантское меню досыта никогда не накормит. Вся сила нашего питания в килограммовой пайке тяжелого, со всякими примесями ржаного хлеба. Но килограмм получают выполняющие норму на физической работе. Конторщики, медики и прочие получают 800 грамм. Не выполнившие норму – от 800 грамм до 400, в зависимости от степени невыполнения.
В бараке я с жадностью проглотила баланду, половину пайки хлеба, заедая все это куском трески, подкрепилась кипятком и села писать рапортичку. Пока я писала, сзади рысью подползла Ирка и, стоя на коленях на топчане моей соседки, смотрела, что я пишу. Она шушукалась со всеми, обходя от одной нары к другой. И, так как мне никто не выразил протеста, я подумала, что они осознали, что я поступила правильно.
Начальник пришел в ярость, прочитав мою рапортичку.
– Это же саботаж всей бригады! Не только вам, но и мне не миновать изолятора, – закричал он. – В других бригадах перевыполняют, а у вас до нормы не дотянули. Чего им не хватает?
– Щей со свининой, – ляпнула я не подумав, вспомнив слова Тоси.
– Так вот на что вы их настраиваете. Забыли, где находитесь, – свирепел он. – Перепишите рапортичку. Злостным запишите поденку, и завтра же чтобы выполнили норму. Которые работали лучше, запишите норму и следите за выполнением, иначе – изолятор.
Беру бланк и иду в бухгалтерию писать рапортичку. Там никого нет. Села и задумалась. Вошел бригадир-кавказец и, закрыв за собой дверь, принялся учить меня уму-разуму: «Только площадь корчевки должна сойтись с записями в рапортичке. Записывайте норму тем, кто старается. Остальным – «сжигание пней», «отнес поломанный инструмент чинить» и так далее. Для выдумки не жалейте фантазии. Скоро выпадет снег. Мы столько его «расчистим», на все нормы хватит», – улыбнулся он. И чтобы я перестала унывать, тут же выдумал историю о своем самоубийстве: «Бригада не выполнила норму. Я решил покончить с собой», – начал он серьезным тоном. Я насторожилась. «И вот, – продолжал он, – пришел в барак и грохнулся головой об… подушку. Гляжу – жив. Еще раз. Опять жив. Плюнул. Решил не умирать».
На другое утро вся бригада заявила мне, что не могут пойти на работу, нет портянок. Наступали холода, дул порывистый ветер.
– Что же вы с вечера-то ничего не сказали? – спрашиваю.
– А ты нас не спросила, – язвительно усмехаясь, ответила Ирка.
Увидев меня в каптерке, начальник сделал строгое замечание, что я не позаботилась о портянках с вечера.
Получив охапку тонкого, дырявого тряпья, иду в барак и лихорадочно думаю: «Что же предпринять»? Вспомнила, что вчера у всех было что-то теплое на ногах. У кого носки, у кого шерстяные тряпки. Куда все подевали? Разговоры бесполезны. Надо что-то предпринять. Решение созрело вмиг. Войдя в барак, рванула с топчана свое родное, домашнее байковое одеяло. При помощи ножа располосовала его на портянки. Шерстяную юбку и теплый платок. Демисезонное пальто. Делала все это с остервенением, лихорадочно, ни на секунду не задумывалась, что мне все это самой нужно. В голове одно стремление – побороть эту провокацию во что бы то ни стало. В бараке стояла необыкновенная тишина. Со всех нар на меня смотрели насмешливые и удивленные глаза, но не злые. Теплое раздала лучшим звеньям. К звену Ирки и рыжей поднесла тряпье из каптерки: «Девочки, выберите из всего этого что возможно. Мне больше нечего рвать».
Все молча оделись и, как по команде, вышли. Через вахту мы проходили молча, с деловым видом, что редко бывало у нас. Молоденький вохровец насмешливо заметил: «Что-то они сегодня молчат, будто порядочные». Ирка пустила ему крепкое словцо. «Бытовикам» это сходило с рук.
Работа веселей пошла, когда мы ввели порядок выворачивать большие пни «всем миром». Со всех звеньев сбежимся и быстро расправимся. Стали и отдыхать вместе и одновременно. Много было рассказов о былых, ночных «походах». Один из таких особенно потряс душу.
Женька росла в большой семье. Отец с матерью работали, дети оставались одни. Женька хорошо училась в школе и дружила с сыном секретаря райкома. В этой семье она была словно родная. Вместе с Виктором учила уроки. Часто сидела у них за обедом. Однажды она познакомилась с бойким парнем старше ее. А через полгода, в возрасте шестнадцати лет стала тайной женой его. Нагоревались родители, когда узнали тайну, да и согласились на замужество дочери.
С первых дней поняла она, что вышла за темного человека. Нигде он не работал, хотя и имел документы рабочего. Каждую ночь уходил куда-то. В комнате появились чужие вещи. Хотела уйти, но он пригрозил убить ее и ее родных.
Однажды муж объявил ей, что они проиграли секретаря райкома. Узнали, что едет в соседний район и решили при помощи Женьки остановить его машину и убить его. Она сопротивлялась, спорила, и только при виде блеснувшей финки в его руках, молча согласилась.
Доверчиво остановил машину секретарь райкома. Заботливо взглянул на бледную, трясущуюся Женьку и, видимо, хотел что-то спросить, как в это время ему саданули нож в бок. «Только вскрикнул, а глаза его так до сих пор и глядят мне в душу», – надрывным голосом произнесла Женька.
– Подумаешь, разнюнилась, а нас мало кокают? – развязным тоном произнесла рыжая.
– Нас за дело кокают, а вот мы за что на тот свет людей отправляем? Видно так жизнь устроена, – с напускной веселостью проговорила Ирка.
Каждый день сыпал снег. С нетерпением ждали мы, когда кончится корчевка.
В конторе собрались все до одного заключенные на торжественное собрание, посвященное празднику Великого Октября. Начальник делает доклад и упоминает несколько человек-ударников и из моей бригады. Воспитатель ласково, почти нежно, смотрел на каждого, кого упоминал докладчик. После начальника он произнес прочувственную речь. Перечисляя ударников - «бытовиков» и призывая их честно трудиться, он заключил: «Ведь вы – «бытовики», а не «контра». Этого забывать нельзя. Здесь на вас опирается советская власть».
Его речь тронула многих. До сих пор им никто не говорил, что на них кто-то оперся. И вдруг… Поди же ты… По рядам прошел тихий говорок. Порывисто встала Ленка рыжая и попросила слова. Взволнованная, раскрасневшаяся, с блестящими глазами, хриплым голосом она прокричала: «Сталин-то у нас не дурак. Знает на кого опереться!». Больше она ничего не могла сказать от волнения. Выступления прекратили и собрание спешно закрыли.
В праздник у нас был приличный мясной суп, густая каша и даже компот. Вечером многие пошли в клуб-столовую. Там были танцы под балалайку. Влюбленные устраивали встречи. Жизнь шла своим чередом.
Прошел праздник. Сидим вечером на разнарядке. Начальник дает моей бригаде задание перевезти компостную землю к парникам с противоположного берега. Берега крутые. Придется объезжать в обход километра два. Кони и быки распределены по другим работам. Для нас сделали небольшие санки, чтобы возить компост на себе. На берегу у парников поставлены весы, чтобы принимать землю с весу. Норма такова, что килограмм хлеба и премиальную стограммовую булочку заработать можно плюсом к обычному рациону. Деньги давно перестали интересовать нас. Хоть разбейся, но больше пяти рублей в месяц на руки не придется, за вычетом за наш «пансионат» и надежную охрану… А паичка – это сама жизнь. Поэтому стоимость работы бухгалтерия измеряет рублями, а мы переводим на пайку и премиальную булочку. Ведь на баланде далеко не уедешь.
А снежок все идет и идет. Выручает он меня при случае невыполнения нормы. Приписываньем «расчистки снега» я так увлеклась, что однажды начальник сказал мне: «Вы столько расчистили снега, что можно бы весь город Чибью с его заводской трубой засыпать и еще останется». Я промолчала, виновато опустив голову и… опять за то же.
Вошла в барак. Мое сообщение, что завтра будем перевозить землю на санках, произвело впечатление разорвавшейся бомбы.
Ко мне подлетела всегда придиравшаяся Таня Вихорева. Размахивая руками, она кричала с ненавистью: «Мы что, тягловая сила?!». Ей вторили многие: «Не пойдем завтра на работу!», «Все не выйдем!», «Упрячем ее туда, откуда нет возврата!», – кричал кто-то из-за угла. «Ей хорошо поддакивать начальнику, она техническое питание получает» (специалистам и бригадирам полагалось несколько улучшенное питание). Я сидела растерянная, оцепеневшая, не зная, что делать. И вдруг вспомнила, что клин клином вышибают. Подлетела к столу и тяпнула кулаком так, что стоявшие на нем котелки зазвенели. Громко, но твердо, без истерики проговорила: «Я давно положила крест на свою жизнь, но вам напоминаю, ведь отвечать-то за меня всем придется. Кто соскучился по «каталажке» – действуйте».
В бараке воцарилась тишина. Со всех сторон на меня уставились любопытные глаза. А я уже мягко проговорила: «Возить будем, сколько по силам. Каждый сам себе положит. Принимать буду с весу. Норма такая, что большую пайку и булочку заработать можно. Если мы откажемся, то за эту работу с радостью возьмется бригада Марфы Ивановны. Кончили работу, и барак рядом, а из лесу когда еще притопаешь. А самое главное, кончим возить землю, и на всю зиму за нами остаются работы в теплице».
О техническом питании мне больше не напоминайте. Я завтра же откажусь от него.
– Ну и дура ты будешь за это, – добродушно отозвалась Тося.
На другой день мы пришли на парники. Нас встретил заведующий парниками и теплицей, шестидесятилетний Александр Гаврилович Бахарев.
– Ждем ваших распоряжений, товарищ начальник, – обратилась я к нему.
Он взглянул на меня добрыми глазами и задушевно произнес: «Такого бригадира здесь давно поджидали».
– Выходит арестовали на пользу, – подметила Клава Штурмина.
Все рассмеялись. Бахарев открыл широкую дверь небольшой сараюшки, сколоченной из досок. В глаза бросился безупречный порядок. Бережно сложены парниковые рамы. Аккуратно поставлен инструмент: лопаты, вилы, грабли. В дальнем углу лейки, уложенные кубиком до потолка. В переднем углу зимний инструмент: деревянные лопаты, метлы, ломы, пешни.
Мы забрали инструмент и пошли на парники. На крутом берегу уже стояли весы и 19 санок. А на противоположном берегу, рукой подать, стоят штабеля компоста. Я принимаю привезенную землю от каждого и мучительно обдумываю, как бы, минуя обход, перебросить землю с берега на берег.
Видно, у меня «еврейское счастье» – куда я иду, туда мое горе вперед меня скачет (из еврейских поговорок). Вечером на разнарядке начальник объявил мне, что в изоляторе держит голодовку некая Шибанова. «Побеседуйте, чтобы сняла голодовку, заберите в барак, и чтобы через три дня на работу шла».
Я онемела от отчаянья. И так-то они все истеричны, а тут еще голодовка. Сколько же в ней озлобленности. Но возражать бесполезно.
– За быстрый успех не ручаюсь, – ответила я.
– Если захотите – сделаете, – отрезал начальник.
Из конторы пошла к коменданту, передала распоряжение начальника проводить меня в изолятор. В бараке я узнала, что Шибанова держит голодовку в знак протеста, что разлучили с любимым. Оба они просили или обоих отправить в этап, или оставить здесь. Сожительство в лагере строго запрещено, но некоторым «бытовикам» неофициально шли навстречу за хорошую работу.
Со скрежетом, визгом открылась дверь изолятора: небольшой, но высокий, квадратный, словно ящик, заполненный сплошными нарами в четыре яруса. Наверху маленькое зарешеченное окно. Полутьма, спертый воздух. В узком проходе между дверью и нарами, почти рядом бачок с питьевой водой и «параша».
Сверху глянуло на нас бледно-серое лицо. В глазах, полных лютой злобы, уже сквозил оттенок безразличия ко всему. Мне показалось, что состояние Шибановой (она находилась там одна) на грани между остервенелым желанием жрать и безразличием к медленно наступающей смерти. Она не пошевельнулась, когда мы вошли.
– Это ты Тося Шибанова? – спросила я.
– А тебе какого х… надо? – резко повернувшись, злобно прохрипела она.
– Я твой бригадир. Пришла спросить, не хочешь ли ты поесть, – ответила я.
Она пустила на меня поток словесных помоев.
– Ругаться и я умею. Пришла сюда не по своей воле. Ты это знаешь. Каждое утро и вечер буду приходить к тебе…
– Да ты уйдешь ли отсюда, мать?
– Осади! – крикнул стрелок, видя, что она собирается слезть с нары на расправу со мной.
– А ты какого х… привел ее сюда? Уведи, пока цела.
Я ушла ни с чем.
Утром, проглотив заваруху и желанный «медовый» кусочек хлеба, третью часть пайки, я помчалась в изолятор.
Стрелок отпер дверь. Шибанова открыла глаза и безразлично посмотрела на меня.
– Тося, умрешь – никого не испугаешь, не огорчишь. Кое-кто даже обрадуется… Хлопот меньше. Переходи в барак. У нас хорошо. Девчата дружные.
– Ох, и настырная же ты, – уже без злобы проговорила она.
– Я сейчас принесу тебе поесть, а вечером приду за тобой, – и не дав ей ответить, убежала на кухню.
По пути забежала к начальнику, попросила записку для кухни, чтобы Шибановой дали поесть не из штрафного котла.
Я несла ей кашу из больничного котла и микроскопический кусочек сливочного масла. Поставив завтрак перед Тосей, убежала в барак.
– Товарищи, давайте посекретничаем, – заинтересовала я свою «братву». Все насторожились.
– Нам надо придумать что-нибудь такое, чтобы перебросить компост с берега на берег, а не возить его в обход. До поры до времени никому об этом ни слова, а то сразу норму набавят. Если дело пойдет на лад, то мы со старой нормой да по-новому хватанем процентов на двести и опередим бригаду Марфы Ивановны.
Посовещавшись, решили установить на берегу устройство по принципу колодцевого барабана. К барабану прикрепили два конца веревки. Один конец раскручивался, спуская привязанные к нему порожные санки, другой в то же время закручивался, поднимая с середины реки груженые санки. На середине реки принимали пустые санки и подавали тоже по веревке на тот берег. И прицепляли спущенные по ложбинке с того берега груженые. Барабан крутили по очереди. А на том берегу ломами кололи штабель, грузили на санки и спускали их вниз. В этом конвейере один погонял другого, и это увлекало всех. Штабель компоста словно таял на наших глазах.
На четвертый день работы по-новому гора привезенной земли выросла вдвое против предыдущих дней. По окончании работы я стою у весов и высчитываю выполнение. Меня окружила, оперевшись друг другу на плечо, моя «братва» и выжидающе смотрит на карандаш, бегающий по фанерке. Цифра «двести» встречена криками восторга.
Вечером, просматривая мою рапортичку, начальник ехидно спросил: «Вы не перепутали компост со снегом?».
– Можете принять так же по весу, как принимаю я, – отвечаю ему.
А наутро на доске почета красовались фамилии всей моей бригады, в том числе и дневальной. Над списком алел красный флажок.
– Маладец, сестра, маладец, – встретил меня бригадир-кавказец и крепко пожал руку.
– Наша бригада гремела и греметь будет! – с восторгом повторяли наши победители, пересыпая восхищения отборной матерщиной.
Вечером, торопливо закончив обед, спешу, пока до разнарядки, в изолятор. Ахнула, когда увидела, что завтрак так и стоит на месте, и только кусочка масла нет. Не дожидаясь моего вопроса, Тося простонала: «Не могу я больше жить без него. Умру лучше». И сама не пойму, какими словами, какими доводами вселила я в нее надежду на лучшее будущее, но часа через два она вышла из изолятора, а через несколько дней вышла на работу и стала стахановкой.
Конвейер нашей жизни проходил по раз заведенному порядку. В семь подъем. Летом – в шесть. Напяливаем брюки (из-за комаров и летом ходили в ватных брюках), бутсы, гимнастерки, фуфайки. На голову – платки, шапки. Летом поверх платка накомарник. Котелок под мышку и в столовую. Полторы шумовки пареной репы или турнепса. Три раза в неделю ржаная заваруха или галушки и туда же, на наших глазах, с наперсток хлопкового масла. Пайку еще с вечера режем на три части, но не все выдерживают. Иные зараз слопают, иные – за два и редкие берут на работу третью часть. Девятичасовой рабочий день на воздухе, на тяжелой работе. К вечеру до тошноты кишки ноют. Ждем звонка. Воздух на несколько километров разрезает пронзительный звон – удар железа о подвешенную рельсу. Он нам кажется малиновым звоном. По пути с работы заходим в инструменталку, точить, исправить инструмент.
В бараке вымыт пол, натоплена печь. Дневальная принесла хлеб, разложила его по списку каждому на нару и незаметно следит, чтобы кто не прихватил чужой пайки. Вваливаемся и сразу же за котелки, в столовую.
В зимнее время вместе с обедом давали что-нибудь и на ужин, например, щи, кусок трески и за ужин черпачок со стакан каши-полусупа. Летом, в двенадцатичасовой рабочий день, на обед давался часовой перерыв. Ужин готовился самостоятельно, за перевыполнение нормы стограммовая ржаная булочка.
К раз заведенному порядку привыкли не только люди, но и животные.
Была у нас кобыла, силач. Тонну везла зараз. Заслышит Фекла звонок, остановится, если даже десяти шагов не доехала до конюшни, и с места не сдвинешь. Бывало, распрягали ее и в поле, и посреди горы, где застал звонок, и вели обедать.
Если все было мирно, то в бараке вечером стоял ровный гул от разговоров, прерываемый смехом, крепким словцом. Иногда затягивали песню. Иной раз какая-либо разудалая голова пустится в пляс вокруг стола. Бывало и такое: ходит Ленка рыжая по бараку : «Кхы, кхы».
– Что ты стонешь? – спрашиваю.
– Крови хочу.
– Тьфу ты, нечистая сила, ты – волчица, тебе крови надо? – злюсь я.
Мое изумление вызывает дружный смех. К ней подходит которая-нибудь из «бывалых». Хлесть по физиономии. И пошла потасовка. Сначала я не могла спокойно относиться к этому. С руганью бросалась разнимать их. Тогда меня хватали в охапку и держали, пока кончится «зарядка». На мое недоумение, для чего нужна драка без ссоры, ответили, что раз в жизни пролитая кровь, т.е. убийство, вызывает желание время от времени видеть кровь.
– Но на войне-то которые были, те не дерутся сейчас до крови, – возражаю я.
– Так то на войне.
Устоявшееся болото нашего существования будоражили письма родных. Ждем с нетерпением, а получив – рев, истерики: «Домоуправ Алфимов грозит выселить нас из комнаты и поселить в уборную, как семью врагов народа, – писала мне моя страдалица-мать, семидесятилетняя с двухлетним внуком. Дочку устроили в детдом. А мать выселили на родину, в Кесовский район Калининской области, где у нас ничего и никого не было. Там семь лет скиталась она по миру, а за месяц до смерти устроили в дом престарелых. Сынишку отдали в детдом.
В январский морозный день закончили мы переброску земли. До звонка оставалось два часа. Парники находились в километре от Чибью. Там у многих из наших женщин, девушек были возлюбленные, работающие в большинстве на механическом заводе. Тоже заключенные. Пользуясь свободным хождением по городу до вечера, они устраивали свиданья…
–Бригадирша, мы к звонку придем, – говорили девчонки и исчезали.
Я сижу в теплице, слушаю инструкцию старика Бахарева, что и как завтра делать, а сама с беспокойством смотрю в окно, не идет ли начальник или, упаси боже, вохровец. Тогда не миновать мне изолятора за самовольное разрешение женщинам идти в Чибью.
– Распустила свою поножовщину и трусишь теперь, – - усмехнулся Бахарев.
– Александр Гаврилович, если и эту радость отнять, то что же у них останется в жизни. Ведь они и на работе-то стараются ради этих встреч и большой пайки.
– Ты права, – задумчиво проговорил он. – Я смотрю на них и чувствую себя так, будто я виноват, что у нас такие выродки, воры и убийцы. У нас, взрослых, на каждом шагу ложь и лицемерие. А жестокости сколько. Вот они оттого с юности озверели.
– Александр Гаврилович, расскажите, как горшки делают, – перебила я, испугавшись скользкой темы. Он не поднял своей седой головы, опущенной в горьком раздумье, и только вытер глаза рукавом своей засаленной фуфайки.
Наутро мы с радостью вышли на работу в теплицу. Светлое, застекленное мелким стеклом помещение. Одна половина занята стеллажами в три яруса. Там что-то уже было посеяно. Лагерное начальство ранней весной уже получало зеленые овощи. Вторая половина помещения была уставлена высокими прилавками, у краев которых были привинчены примитивные устройства для поделки горшков. Пригоршни удобренной навозом, торфом, компостом, глиной и песком земли кладем в железный стаканчик. Нажимаем сбоку ручку с пружиной. Толчок, и земляной горшочек, размером со стакан, вылетает вверх. Ставим на лежащую сбоку узкую доску, а в стаканчик опять пригоршни земли. Работа, казалось бы, не трудная, но норма – тысяча сто штук в день. К вечеру от толчков пружины руки от пальцев до плеч ноют. Все же эта работа была самая лучшая. Мы сбрасываем фуфайки, надоевшие нам на всех других работах. За работой то одна, то другая, а то и хором пели. Неизменно начинала Дуся кареглазая свою любимую «О, маленькая Нелли». Голос у нее был задушевный и, пока она пела, все молча слушали. Забавно было слушать юную Хомутинникову. Тоненьким голоском (ее недавно перевели из детской колонии в лагерь взрослых, как не исправившуюся ко времени совершеннолетия) она пела свою любимую: «…И на твоих, и на моих сединах следа любви ты больше не найдешь».
Была в нашей бригаде, шофер по профессии, маленькая, коренастая, с мужской сноровкой в труде Лена Анкудинова. Затянет, бывало, «Скакал казак через долину…», и вся бригада подхватит. Трудолюбива была она и, хотя второй срок сидела, никогда не унывала. Начнет рассказывать про шоферские муки от бездорожья или неисправности машины, и в самый трудный момент для шофера обязательно вспомнит смешной случай.
Принимать продукцию поставили старика Леонида Петровича, а я встала за «станок». Глянет Анкудинова на мои не очень сильные, хотя и ловкие руки, ухмыльнется, нажмет на рукоятку и обгонит меня. У меня 500 штук, а у нее уже 540. Затянет «Стеньку Разина» или «Ермака», а руки ловкие, сильные, только отщелкивают стаканчики, будто печатают.
Давно уже наша бригада числилась на хорошем счету. Все, за исключением меня, получили большие зачеты, 60 дней в квартал. На торжественном собрании по случаю праздника 8 марта почти всю бригаду, в том числе и меня, наградили почетными грамотами. На листке, украшенном гербом, алели слова «Да здравствует свободная, равноправная, трудящаяся женщина!».
Близилась весна. Добрались-таки всесильные лучи солнца до снежного царства Севера. Неторопливо таял снег, темнели поля. В солнечный день на высоком берегу Ухты, в зарослях осинника рубили мы молодняк для черенков лопат, граблей, вил и палки на подпорки помидор. Неслыханной силы взрыв потряс окрестность. «Лед трещит», – крикнул кто-то, и все выбежали на берег. Необычайная картина открылась перед нами. Река, словно живая, задрожала, зашевелилась. Снова взрыв раскроил весь лед на большие и малые льдины. С гулом и скрежетом напирали они друг на друга, образуя ледяные глыбы. Многометровые льдины, подпираемые такими же, становились во весь рост и падали, разбиваясь вдребезги, образуя под собой течение. Проснувшееся течение с шумом понеслось вперед. И только крайние льдины у берега, безопасно для себя балансировали на отплесках и, увлекаемые боковым спокойным течением, благополучно шли своим долгим путем. Они целехонькими вплывают в океан, заканчивая свою ледяную жизнь, не потревожив ни себя, ни других, – подумалось мне, глядя на бурное течение середины реки и спокойное береговое.
Джафар Агулиев
Смуглый, коренастый, добродушный, средних лет, Джафар Агулиев пользовался особым вниманием начальника. Ему разрешалось покупать в ларьке для вольных все, что он захочет. Беспрепятственно выдавались с его личного счета деньги, которые ему переводили родные. По первой его просьбе выписывали ему пропуск в Чибью, где он покупал в магазинах что хотел. Выходной у него был чаще чем у нас, ввиду вредности производства.
Была у Джафара любимая, смешливая, веснушчатая, с плутоватыми глазами девчонка, осужденная за мелкое воровство. После ужина, до поверки, встречаются пары, выискивая уединенные уголки по всей зоне. Безуспешно ищет свою любимую Джафар. И в медпункт заглянет, и в Красный уголок, и по улице походит, и в барак постучит не раз – нет Нафисы. А она, после ужина напилась кипятку с пряниками, что вчера принес ей Джафар из Чибью, и спит себе на своей наре, приказав подругам говорить, что ее нет в бараке. Когда же Джафар деньги получает, Нафисе словно повестку кто пришлет. Огоньками засверкают ее глаза. От улыбки заиграют ямочки на щеках, еле слышно шепнет: «Пойдем в ларек». Счастлив Джафар, расплывается в улыбке его лицо. Заскорузлыми руками достает он бархатный, с поблекшей вышивкой, мешочек, когда-то бывший кисетом.
– Чего тебе? – спросит он.
Наберет возлюбленная немудреного товару в ларьке для заключенных: пудры, мыла, помады, карамелек, обхватит покупки обеими руками и побежит в барак хвастать перед подругами. Сладкие сны видит в эту ночь Джафар. А наутро запрягает прикрепленную к нему «Сивуху» в телегу с бочкой, кладет в нее полуведерный вонючий ковш на длинном шесте. Наполнит бочку содержимым из уборной и везет на поле.
По краям дороги стоят бочки из-под рыбы. Наполнит Джафар эти бочки наполовину, а другой возчик доливает их водой из озера. Бродит на солнце удобрение. Вонь на все поле. Ходим мы мимо на очистку луга, и поет у меня сердце от предстоящего конфликта. Начальник сказал мне, что следующее задание нашей бригаде – разливать фекалии по полю.
– Ну тебя к лешему, Джафар, провонял все поле, – ругаются мои труженицы.
– Пархымерия, нухай (парфюмерия, нюхай), – расплывается в улыбке Джафар.
Неожиданно помогло мне сравнение нашей работы с медиками, лаборантами, которые годами «роются» в наших отбросах.
Беспрекословно все пошли поливать поле. Правда и оплату нам назначили хорошую. И большая пайка, и премиальная булочка со сливочным маслом, и выписка обрата в ларьке (молока мы никогда не пробовали).
Полили мы поле. Запахали его, и вони как не бывало. А осенью кочаны капусты – рукой не обхватишь.
Весной собрали в этап всех политических с нашего пункта. Работница УРЧа (учетно-распределительного пункта), «бытовичка», сообщила мне по секрету, что обо мне запрашивали Управление лагеря, дескать, у нее 58-ая статья, а с бытовиками хорошо ладит. Можно ли ее оставить здесь? Ответили: «Пока оставьте».
Затосковала я, оставшись одна среди бытовиков. Бригадиров из 58-ой статьи заменили грамотные «бытовики»: растратчики, мошенники, вроде нашего воспитателя. И только мне не нашли смены.
– Года не пройдет, как вы нас догоните, – улыбаясь, сказал мне на прощанье бригадир-кавказец. А пока вокруг меня сквернословие и «мемуары» о ночных походах: «Старушку тюкнули в затылок, а она все трепыхается… В сопатку кольнули – успокоилась… Майдан (чемодан) распотрошили, а там… пятак в гомонке и штаны в заплатах. Подошел «Ушлый», зашипел на нас, перепутали… Не ту кокнули… Надорвались со смеху…».
Чтобы смягчить жестокость этих испорченных сердец, я время от времени заводила разговоры о матери, страдающей за свое дитя. Оказалось, что почти все они не знали своих родителей. У многих погибли они в Гражданскую войну. Дореволюционные уголовники подхватили осиротевших, где их не успели забрать в первые детские дома, и обучили их черному мастерству. Некоторая часть «бытовиков» появилась в результате борьбы с советской властью бывших власть имущих. Так, например, восемнадцатилетняя Катя Пудовкина, дочь богатых родителей, своими руками задушила подругу- комсомолку. Осуждена она была по ст. 59-3, означающей бандитизм с убийством, но в лагере все равно пользовалась привилегиями, в отличие от 58-ой статьи. Зато неграмотная старушка -зырянка, виновная в том, что не доглядела за детьми, и те изорвали портрет секретаря ЦК партии Украины Коссиора, была осуждена по 58-ой статье. Позже Коссиор попал в немилость, был объявлен врагом народа, а старушка продолжала за него находиться в неволе.
С июня началась заготовка кормов. Нашу бригаду направили в лес на заготовку веточного корма. Хотя и плотные шалаши построили мы себе, и окуривали дымом часто, но не могли избавиться от комаров. Как начался зуд в искусанном и исцарапанном теле в июне, так и продолжался до сентября. Спасенье в ветреный день. Тогда отбрасываем накомарники и полной грудью вдыхаем свежий воздух.
После веточного корма перевели на заготовку рябины для птичника. Мы уже заготовили тонну рябины, и вдруг прискакал гонец. Срочно всей бригаде явиться в лагпункт. Оказалось, что я назначена в этап. Шла последняя партия осенним путем. Простилась со своими «отпетыми», со стариком Бахаревым и в сопровождении стрелка вышла из зоны.
И снова этап
Этап. Страшное слово. Печальная картина. Длинная вереница людей с испитыми лицами, в арестантской одежде, с котомками за плечами, по пятеро в ряд шагали мы по необъятным просторам Севера. Спереди дула, с боков дула, сзади дула. «Подтянись!».
Повели нас полями, лесами, обходя болота, огибая, иногда переходя вброд мелкие речки. Крупные переплывали на шнягах. Шли мы 900 км. От Чибью до Кочмеса, что в 60-ти километрах от Воркуты. Шли в день по 25-30 км. Через каждые пятьдесят минут десятиминутный отдых. Вечером останавливались у заранее намеченного пункта. Разжигали костры, варили ячневую болтушку. Кроме того, выдавали кусок трески или воблы и пайку хлеба, 800 грамм в день. Поужинав, устраивались у костров на отдых. С наступлением холодов, когда невозможно стало спать на улице, где только мы не ночевали: и в овечьих кошарах, и в сараях, и в палатках. Один раз председатель какого-то колхоза предложил разместить часть арестантов в гусятнике. В сараюшке четырехъярусные стеллажи, разделенные на гнезда: длинный, в рост человека, ящик. Узкий настолько, что повернуться в нем с боку на бок можно с трудом. Залезать в этот «ночлег» надо ползком, а вылезать – пятясь назад. На психику подействовал мне этот «гроб». Спустилась по лестнице и провалялась всю ночь в адском холоде на полу, не соснув ни минуты. А наутро: «Стройсь! Подтянись!».
Перед этапом ходили упорные слухи, что наши дела рассматриваются и, возможно, что нас даже с дороги вернут по домам. С этими надеждами мы и отправились в тяжелый путь.
Дела, конечно, рассматривались, но, как стало известно много лет спустя, бериевская машина была поставлена так, что после всех комиссий ставилось «отказать». С этого этапа вернули московскую коммунистку Фрумкину. Мы проводили ее из барака с самыми лучшими пожеланиями и надеждами. Всем стало весело. Артистка московского театра Эстрады Зина Яновская веселила нас остротами. Как-то во время отдыха попросились мы у конвоя «отойти за кустики». Уселись. Серьезным тоном, как это делают остряки, Зина сказала: «Не знаю, насколько мы освоим этот Север, но что мы его удобрили, так это определенно». [зачеркнуто: «Горько сознавать, но Север и людьми удобрен. Вспышки эпидемии дизентерии немало жертв унесли. Немало захоронено и от произвола вохры. Есть между Воркутой и Усой долина, местные жители прозвали ее «Долина Смерти». Много там в овраге невинных жертв покоится.]
Этап продолжался. Как-то нас усадили в шняги (судно поменьше баржи) и везли по широкой, но не судоходной реке. К вечеру сели на мель. Конвоиры пересели на маленькую лодку, привязанную сзади шняги, и отправились переночевать в деревню. Среди нас был один в охотничьих сапогах.
– Разрешите перейти вброд и переночевать у костра. Я никуда не уйду, – попросился он у конвоя.
– А мы и без тебя знаем, что никуда не денешься, – усмехнулся начальник конвоя. Здесь кругом тряские болота. Заживо проглотят. А если до деревни доберешься, то жители пристрелят (жителям было дано неофициальное право стрелять беспрепятственно, если появится арестант в неположенном месте).
Мы остались сидеть в шняге. Вскоре увидели на берегу манящий огонек охотника. Видимо, он знал реку и безошибочно дошел до берега. День был сравнительно теплый, но ночью пошел дождь с пронзительным ветром. Мы жались друг к другу, чтобы согреться. Спать было негде. Даже не было возможности попрыгать на одном месте, чтобы согреться. Мы сидели без движения ночь, положив головы друг другу на плечо. Тихо беседовали.
Со мной сидел высокий, чернобровый, средних лет мужчина. С увлечением рассказывал он о стране Восходящего солнца, о своей мечте – развивать дружбу нашего и японского народов. И с горечью поделился – его сочли шпионом. «И всего-то у нас по стране было 22 япониста и всех арестовали. А на смену им кое-где пролезли невежды, проходимцы, карьеристы. И долго еще они будут большим препятствием в нашей жизни, пока не перестанем создавать себе кумиров, пока не научимся ценить не чин, а конкретное дело. Пока не осмелимся говорить правду в глаза и громко», – с болью заключил он.
Вторая тетрадь
Всю ночь просидели мы, дрожа от холода. У одной случился приступ печени. Плакала, словно ребенок. Мы все утешали, а помочь ничем не могли. Кое у кого были лекарства, но не те.
Под утро грянул мороз. Промокшая одежда покрылась ледяной коркой. Наконец взошло желанное солнце. Оттаяла одежда. Вот и подсохла под ветром. Вот и к полудню солнце прет, а нашего конвоя и в видах не видать. Охватило уныние. Голодные, усталые просидели на одном месте сутки. Московская журналистка Софья Дальняя решила криком вызвать конвоиров. «Помогите! Помогите!», – с отчаянием закричала она. Слабое эхо северных лесов слегка окнуло и заглохло.
После полудня явились конвоиры. К нашему удивлению, мы очень быстро снялись с мели и поплыли дальше. Видимо, нас специально посадили на мель, чтобы конвою спокойнее ночевать в деревне. Поздней осенью везли нас в трюме баржи по реке Усе. Пошла шуга. Причалили к какому-то затону. В барже под ногами вода просачивалась. Постучали в дверь. Вошел начальник конвоя и, не взглянув на опасность, равнодушно произнес: «До завтра не зальет, а завтра разместим вас по баракам». Мы собирали разбросанные, видимо, при погрузке доски и устилали их там, где подтекала вода, чтобы не лечь на мокрое. Несколько лет спустя, в своей последней ссылке на барже строительной Предивинской верфи Красноярского края мы, ссыльные, слышали рассказ очевидцев-жителей о том, как во время войны везли баржу с заключенными по Енисею. Сначала вода просачивалась, а потом потекла. Заключенные стали кричать. Конвой, видимо, не решился выпустить с баржи в населенный пункт, с хорошими дорогами, боясь побегов (за каждого заключенного-беглеца они отвечали головой). Приперли покрепче дверь трюма, сели на лодки и уплыли. Стоял страшный стон. На глазах у поселка баржа медленно погружалась в воду. Мне рассказали об этом домохозяйка Григорьева, мать коммуниста Анатолия Григорьева, муж и жена Анциферовы и другие жильцы из дома №1 по Нагорной улице.
Не знали мы в своем пути об этой трагедии и спокойно ложились спать на мокрый пол. Наутро нас разместили по баракам. Прожили мы в этом затоне месяц, и с установлением зимнего пути нас снова выстроили в ряды: спереди дула, с боков дула, сзади дула. «Подтянись!». Зимний путь этапа еще тяжелей. Иногда метель переворотит дорогу, иной день мороз дыхание захватывает. До стоянки еле доплетемся. Конвоирам сало-шпик выдавалось. Полушубки, валенки. Выспятся в тепле и покрикивают: «Стройсь! Подтянись!»
Полтора месяца шли мы зимним путем по реке Усе. Через три дня отдых на сутки. В конце декабря 1937 года добрались до места жительства, совхоз «Кочмес», в трехстах километрах от Ледовитого океана, в шестидесяти километрах от Воркуты. Стоит совхоз на высоком берегу Усы, и мы издали увидели манящие огоньки. Ели плелись. Соня Дрейцер, тридцатилетняя женщина, разревелась: «Ноги остановились, не идут совсем». Помогали, как могли, вели под руки.
Кочмес – название зырянское. Политические, в отличие от «бытовиков», народ дотошный. Все-то им знать надо. Попытались узнать, что означает слово «Кочмес» по-русски. Одни говорили – «земной рай», другие – «коровий хвост». Так или иначе, но на много лет застряли мы в этом «земном раю, у коровы под хвостом». Уже никто из нас не тешился иллюзиями о скорейшем освобождении.
Совхоз «Кочмес» был одним из передовых хозяйств Крайнего Севера. Две теплицы обеспечивали вольных граждан, в первую очередь лагерное начальство, ранними овощами. Парники помогали обеспечить урожай на полях, несмотря на короткое лето. Часть урожая доставалась горнякам Воркуты. И всю зиму заключенные ели на завтрак пареный турнепс, репу и изредка брюкву.
Хозяйство в совхозе велось умело, с расчетом. Запланированное количество скота обеспечено кормами. Запланированные посевы обеспечены обработкой и уборкой. Одного никто не мог запланировать и предвидеть в этих местах – поступающих с этапа. Считали, что партия, поступившая до нас, последняя до весны. И вдруг явились мы. Растерялись начальники, забегали. Срочно потеснили коней и, отгородив половину конюшни, поставили в ней железную печь, двойные нары и поселили женщин. Заняли для женщин еще половину теплицы. Мужчин поселили в раскинутой на расчищенной от снега земле двойной палатке. По краям поставили две печи и палили их день и ночь. Сразу же принялись строить силами вновь прибывших барак.
Рано утром мы, жители конюшни, просыпались от ржания и вони наших соседей – коней. И все же были довольны, что избавились от этапа. Имеем свою постоянную нару, имеем возможность получить весточку от родных. Писать письма разрешалось раз в месяц. Позже – еще реже.
Здесь, в бараке ударников было радио. Можно было достать газету. С нашей партией много прибыло работников искусств. На новый, тысяча девятьсот тридцать восьмой год они дали замечательный концерт в столовой (она же клуб). Надолго запомнились нам: сильный голос Ольги Фрицевны, мелодичный Сары Борисовны Кравец, нежная лирика Клавдии Никитиной, раздольные русские песни в исполнении Евдокии Засыпкиной, цыганские напевы Ольги Степановой. Из марли сшила себе костюм русской боярышни балерина Зина Яновская и очаровала всех изяществом танца. Много юмора вносил конферансье Григорий Энгейсон. Концерты с тех пор ставились систематически до войны.
В «Земном раю»
Итак, мы на месте. Три дня нам дали отдохнуть от этапа. На четвертый снабдили пилами, топорами и повели в лес. И здесь мы так же валили вековые, в два обхвата, сосны и кромсали их на дрова. Топлива требовалось много, а зима еще длинней и свирепей, чем в Чибью. Бараки, словно сараи с выходом прямо на улицу. Печи кирпичные с прямым дымоходом, а в иных бараках железные, тепло пока топишь.
К сожалению, меня и здесь заставили быть бригадиром. Бригада целиком была из 58-й статьи. От всего пережитого люди были слабы, болезненны, но старались изо всех сил. Понемногу стали перевыполнять норму звенья коммунистки Пшебышевской, комсомолки Клавдии Комаровой, Аллы Шютц.
Большое облегчение в труде вносила дневальная Варвара Нестеровна Немешаева. До ареста она была партийным работником. Уже не молодая, худенькая, совершенно седая, с удивительными глазами, темными, искрящимися. Казалось, что из глазниц этого изможденного лица смотрит добрая девушка. Она и была действительно добрая. Обязанностями ее было: мыть пол в нашей конюшне; из кипятилки утром и вечером принести кипяток для шестидесяти человек; топить железную печь, таская дрова охапками с улицы; получить шестьдесят паек хлеба и раздать их работягам. Кроме этих обязанностей, она добровольно взяла на себя еще одну. Из леса мы возвращались в намокшей одежде и промерзших валенках. Такое количество не успевало просушиться у железной печи.Она попросила у каптера списанный матрас. Нагрузит его нашими валенками и еле прет их в теплицу. Там для выращивания овощей печи были более совершенны, чем в бараке. Разложит их вокруг кирпичной печи, а утром до подъема перетаскает обратно.
Между лагерем Кочмес и маленькой деревушкой Ларьки, река Уса делилась на два русла, образуя остров длиной в двенадцать километров и шириной в два с лишним. Каждый год в разлив остров затопляется, и когда сойдет вода, на земле остаются слои ила. Почва плодородная. Землелюб из крестьян Василий Иванович, фамилию не помню, предложил начальству освоить остров под овощи. С его легкой руки и образовалось здесь подобное хозяйство. С наступлением весны несколько бригад перебирались на остров.
У каждой бригады свое поле. Нам с грузинкой Марго Багдасаровой дали пятнадцать гектаров на два звена в шесть человек. Сами боронили, сеяли, обрабатывали на конях и вручную. И только на пахоту и уборку присылали дополнительно рабочих.
Несколько слов о звеньевой Багдасаровой. Стройная, красивая женщина, она и в арестантской одежде пленила мужчин. Следила за собой. Как-то получили мы брюки. Ложимся спать, а Марго раздобыла где-то коптилочку из железной банки с тряпочным фитилем и уселась перешивать брюки. Наутро мы увидели на ней брюки, словно спортивные женские. На воле Марго была пианисткой, а в неволе ее изящные руки держали вожжи, когда она боронила свой участок. Много тонн редиски отослали наши два звена шахтерам Воркуты. Получили благодарность от них. В течение нескольких лет, переезжая на остров, мы заранее испытываем ужас от предстоящей комариной пытки. Они были везде, но на острове их миллиарды, тонны, рассыпанные по земле, воде и в воздухе.
Как-то, во время посадки капусты на поле, развозила я ящики с рассадой. Лошаденка молоденькая, вся облеплена комарами настолько, что стала не рыжая, а черная. Мазали мы коней дегтем, но, наверно, высох на солнце, и она только вздрагивала всем телом, отбиваясь хвостом. Но на одном повороте, как была в упряжке, так и грохнулась на землю. Начала биться ногами и тереться о землю. Телега сильно накренилась. Я рассупонила хомут, спешно хватаю с телеги ящики с рассадой и ставлю на землю. Затем подошла к лошади, тормошу ее и так и эдак, не встает моя Гагара. Произошла остановка работы. Со всех концов закричали: «Вези рассаду, стоим без дела!». От досады полились слезы.
Лошадь лежит, а я стою над ней и реву. Шел мимо старичок, Сергей Иванович Тимошенко. Весь в белой пыли, словно мельник. Он рассеивал минеральные удобрения по полям вручную. Никому не пришло в голову позаботиться о предохранительных средствах. Так и дышал старик с открытым лицом при рассеивании. Только пол литра обрата получал за вредность производства (заключенные никогда не видели молока).
Посмотрел Тимошенко на обеих нас и сказал: «Крепись, доченька. Слезы – неверный друг… Собьют с толку, до отчаяния доведут». Подошел к лошади, взял за повод, а она будто ждала этого, поднялась. Засмеялся он: «Хоть и стариковские, а все же мужские руки, сразу почуяла». Огрел он Гагарку кнутом, и та словно вкопанная стояла, пока ее запрягали.
– А я другую истину всегда знала, Сергей Иванович: слезы облегчают страдания! – проговорила я.
На сморщенном, седобородом лице старика появилась горькая усмешка:
– Мне что-то не облегчили… Пытался…– И показав на ноги, обутые в изношенные, запыленные удобрением сапоги, он сказал: – Вот эти ноги двенадцать лет гремели кандалами. Вот эти руки двенадцать лет возили тачку на рудниках в Сибири. Это была царская каторга. А вот за что я здесь восьмой год страдаю? .. Одним себя успокаиваю, что история разберется в чьих-то преступлениях… А мы Родине еще пригодимся.
– Рассади! Скорей, стоим без дела, – кричали со всех концов. Наша беседа прервалась.
Чем бесправней человек, тем больше над ним начальников. По уши нахватались мы проявления чужой воли над собой. Кто только не повышал на нас голос: начальники, заместители, нарядчики, воспитатели, бригадиры – всех не перечислишь. Раз вечером лежали на нарах. Геодезист по профессии, Гунна Ивановна Дембская читает нам вслух. Вошел начальник (тоже ведь начальник) пожарной охраны. Его задача – проверить отопительные приборы – печи. Но где там… Услышал чтение, насторожился. Послушал, ничего не понял. Подошел к Гунне и строго спросил: «Вы что читаете?» .
– Произведение Самуила Маршака, – ответила она.
– Какого Маршака? В каком бараке он живет? – грозно спросил начальник.
Взрыв хохота смутил его, и он поспешил удалиться. А мы долго смеялись и заочно благодарили пожарника, что развеселил.
Поживем – увидим
Поздней осенью сортировали мы картофель в овощном хранилище. Картофель ели только вольные, так как урожаи ее были невелики. Нам удавалось попробовать, если стащим парочку в рукаве. Моем, чистим и хрупаем с солью сырую. Варить – опасно, вдруг увидят. Угощала я этим деликатесом жену грузинского наркомфина Нину, болезненную, часто бюллетенившую женщину. Как-то рассказала она мне свою трагическую историю. В личной беседе со Сталиным наркомфин сказал: «У нас много гибнет народу». Сталин прервал его нетерпящим возражения тоном: «Я народ не со счета принимал». Вскоре наркомфин был арестован. За ним жена, родственники, соседи, знакомые. На корчевке пней я надорвалась. Все женские внутренности выползли наружу. «Лекпом» (лекарский помощник) освободил меня от тяжелой работы и поставил на очередь для отправки на операцию в сангородок. А пока ходила по легким работам. Как-то послал начальник мыть пол в помещении ВОХРы. Мою. На полу листок от книги. Обрадовалась. Давно не видела печатного слова. Впилась глазами. То был листок из 23 тома сочинений Ленина. Дискуссия о профсоюзах. Вошел командир. Насторожился.
– Вы что читаете?
– Вот, подняла у вас на полу листок из книги Ленина, – отвечаю.
– Ленина, теперь его запрещено читать!
– Ленина запрещено читать? – изумляюсь я.
– Не рекомендуется, – поправился он.
Чувство большого презрения к самой себе охватило меня. Впервые в жизни на деле я убедилась, что человек сам для себя – самый строгий судья. «Где твое достоинство? Ты обещала всю жизнь нести ленинскую правду в народ. А теперь тебе в глаза сказали, что Ленина не разрешено читать, и ты ограничилась удивлением. Ни словом не обмолвилась в защиту того, чьему учению обещала жизнь посвятить», – с ненавистью отчитывала я себя. И… беспомощно опустив руки, решила: «Поживем – увидим».
«Война, разве здесь мое место?»
В июне 1941 года нас, партию больных отправили в сангородок, а перед нами стоял ряд землянок барачного типа и несколько деревянных домиков.
Поместили в светлую, просторную палату в домике. Тишина. Вместо нар, к которым мы привыкли, топчаны с матрасами, набитые соломой. Байковые одеяла. Белоснежные простыни и наволочки. Перьевые подушки. На стене висел репродуктор. Сильно мы обрадовались этому. При такой тишине можно бесперебойно слушать радио.
Снилось в первую ночь на больничной койке, что сделали мне операцию и списали, как непригодную к работе. На этом основании какая-то комиссия освободила меня на волю. Я собралась с вещами и … проснулась.
Мы, приехавшие из Кочмеса, вроде землячки стали. Сидим в палате в кружке, беседуем. Напротив меня жена бывшего председателя Центросоюза Зеленская. Рядом жена директора завода из Одессы Софья Францевна.
«Внимание, внимание! Передаем сообщение ТАСС», – пробасил Левитан и огромил нас сообщением о начавшейся войне. Застыли. Оцепенели.
Первая очнулась Зеленская. Вцепившись в волосы, она заметалась по палате и с отчаянием, прерывающимся от волнения голосом заговорила: «Война! Разве здесь мое место?! Разве не защищала я Родину в гражданскую войну? Разве не могу быть полезна на фронте сейчас? Связали по рукам и ногам…». Глухие рыдания потрясли ее. Вбежала медсестра с валерьянкой. Зеленская отстранила ее руку.
Софья Францевна окинула всех мирным, добрым взглядом и, молитвенно сложив руки на груди, проговорила: «Господи, пошли нам, чтобы хоть тресочка привезли сюда побольше».
С первых же дней войны появились в лагере осужденные фронтовики. С возмущением и отчаянием рассказали они нам по секрету о том, что командный состав одной пограничной части накануне войны был отпущен в отпуск. Военная техника была разобрана по частям, и некоторые части увезены куда-то. Помню, один из заключенных фронтовиков по фамилии Могилевчик, на работе встретив вольных, всегда просил газету. Но нам не только газеты, а когда начался период сдачи наших городов фашистам, то по всем лагпунктам сняли репродукторы. И все же, вольные информировали нас о событиях на фронте.
Как-то вышла я из палаты. Села на скамейку. Домик стоял на берегу Усы. Посмотрела на широкий разлив реки, и почудились мне в этом течении народные слезы. Защемило сердце. Заплакала. Подошел один из больных и, узнав о чем плачу, оглянувших предварительно по сторонам, тихо проговорил: «Вы что оплакиваете? Свою неволю? Что теряете? Зачем бояться завоевателей? Культурные люди. Еще как жить то будем… Сразу нас освободят»
Сдерживаясь от рыданий, я сказала: «Не надо нам врагов. Сами мы разберемся, что у нас неладно. Все равно Родина поверит, что мы не враги». Мой собеседник тяжело вздохнул и с волнением проговорил: «Я не враг советской власти. Сам защищал ее в гражданскую войну. Эта мысль навязывается за последнее время, глядя на окружающее бесправие. Сколько бездельников бряцают над нами оружием вместо того, чтобы идти защищать Родину. Когда я уже написал заявление, что хочу идти добровольцем на фронт, меня оскорбили: «Кто вам доверит защищать Родину?».
– Это мне так ответили. И я просилась на фронт, – ответила я.
К нам подошел главный врач Сергей Митрофанович. Увидев заплаканное лицо у меня, он ласково проговорил: «Для успешного лечения, в особенности, когда не хватает лекарств (он лукаво улыбнулся), нужны постоянные улыбки больных». И уже серьезно: «В вашем горе кто-то виноват, а вот в моем – я, сам покалечил жизнь семьи. Жил я в Грозном. Свой дом. Фруктовый сад. Любимая работа. Рядом жила семья инженера. По-соседски дружили. Сосед деньги любил больше всего на свете. Завел десять коров. Записали их на родственников, на соседей. С женой оформили развод, чтобы иметь право каждому держать корову. Две неофициальные домашние работницы ходили по магазинам, скупали хлеб для коров. Договаривались на базаре с колхозниками о привозе сена, продавали молоко. Накопив денег,инженер собрался бежать за границу и соблазнил меня. «Все равно Вас арестуют. Поглядите, кругом идут аресты. Большевиков похватали. Доберутся и до нас», – убеждал он меня. Как раз перед этим арестовали старую коммунистку Екатерину Петрову. Честнейшего человека, всеми уважаемую. «Может сосед прав», – подумал я и решился. Договорились с летчиком, но… наш самолет потерпел аварию…Приехали в арестанском вагоне на Север», – закончил он.
– Пойдемте, сестричка, температуры мерить, – сказал Сергей Митрофанович и поднялся со скамейки (он обучал меня на медсестру, пока я ждала очереди на операцию).
Те, которые не забываются
Операцию мне сделал (как потом выяснилось) врач- самозванец, Пехлер. Пол года болели швы, я чудом осталась в живых. А через два года вновь легла на операционный стол. На это раз оперировал известный киевский хирург, фамилию забыла, Мария Эдуардовна, тоже заключенная. Слава о ней шла далеко за пределы лагеря. В этот период я работала в прачечной гладильщицей. Стирал белье китаец Костя (все они, живя в нашей стране, переделывают свое имя на русский лад). Настирает Костя белья, положит кипятить и идет в гладильную покурить. Первым делом запоет свою родную марсельезу. С душевной теплотой отзывался он о китайском революционере Сун-ят-Сене. С горячей любовью говорил об организаторе китайской компартии Лу-Сине. Не знаю, за что арестовали Костю, но не было у него вражды к русским!
Как -то запел Костя мне свою марсельезу, а мне подумалось: «Почему бы ему не спеть хоть раз Интернационал, ведь это международный гимн коммунистов». И как только он запел Марсельезу, я запела Интернационал. Улыбнулся Костя и, не останавливаясь, на ходу перешел на Интернационал. Так мы и пропели вместе в такт, но каждый на своем языке международный гимн коммунистов. Затем он посмотрел на меня дружелюбно и тихо проговорил: «У нас с вами одна дорога».
После болезни, в период выздоровления меня поставили на работу, о которой мечтает каждый лагерник – в столовую. Пристань Уса, здесь все лето идет погрузка угля на пароходы. С Воркуты возит уголь по узкоколейке постоянная группа машинистов. Их не гоняют по этапам вопреки правилам заключения. Питались они в отдельной, так называемой технической столовой, где я и работала после больницы. Навсегда запомнился один из столующихся. Высокий, богатырского телосложения, добродушного характера машинист Налбадян. Когда получал он письма из дома, то делился со мной этой радостью. И только в эти минуты прорывалась наружу его беспредельная тоска о сыне-подростке. Однажды показал мне его фотографию. Я залюбовалась юным красавцем, поразительно похожим на отца.
– Он на вас похож, – сказала я.
– На такого седого? Не может быть, – засмеялся он.
А через два года мы встретились в больнице. Я медленно поправлялась, а Налбадян лежал в безнадежном состоянии с заболевание рак желудка. Врач разрешила нам, знавшим его, навестить больного. Возле постели на тумбочке стоял портрет сына, и отец не сводил с него глаз. Слабеющим голосом он делился своей мечтой увидеть сына. Тогда вновь появились слухи об освобождении. Вскоре Налбадян умер.
Несколько слов еще об одном из тех, которые не забываются. Маленький ростом, с хрипловатым, всегда простуженным голосом. Сморщенное, почти старческое лицо, хотя ему не было еще и сорока лет. А глаза – под тяжелыми бровями светилось вдохновение, особенно когда он слушал музыку. Художник и музыкант Хасан Губайдуллин происходил из бедной татарской семьи. Дошел до сотрудника Академии наук. «Подругой дней моих суровых» была ему скрипка. С ней не расставался он ни в тюрьме, ни в больнице. Когда ему становилось легче, то врач разрешала играть для больных в палатах. Ждали мы его словно светлого праздника. Придет сияющий. Сядет на стул, отдышится и берется за смычок. Лежим мы больные, завороженные. У некоторых слезы на глазах. Его музыка укрепляла в нас веру в светлое будущее, в справедливость, которая должна прийти на смену самовластью деспота.
Тяжело болел Хасан. И дождался ли он реабилитации, проводимой после смерти Сталина, не знаю, но первого освобождения он дождался. Родные увезли его на самолете прямо из больницы.
Начальник погрузки «Ушлый»
Погрузка угля на пароходы на пристани Уса проходила круглосуточно. Надо было с лихвой использовать дешевый речной транспорт за короткое северное лето. Начальником погрузки поставили бандита, что называется, прошедшего огни и воды. Не только окружающие его, но и сам-то он, наверное, не помнил своего имени. Только кличка Ушлый, обагренная кровью его жертв, всюду следовала за ним. Был он невысокого роста, коренаст, с вздыбленной гривой жестких волос. На его круглом, бесцветном лице выделялись острый нос и сверлящий взгляд мутно-зеленых глаз. В хриповатом, простуженном и пропитом голосе звучали повелительные нотки. Много лет он был главарем шайки и, следовательно, накопил «организаторский» опыт. Работавшие воспитателями «бытовики» – аферисты, растратчики внушили ему звериную злобу к людям 58-ой статьи. Очередной женой его была круглолицая, здоровенная, румяная женщина средних лет, осужденная за спекуляцию. С разрешения начальства они занимали маленькую каморку и жили вместе. Надо отдать справедливость Ушлому, он умел заставить работать даже уголовников, действуя невыполнимыми обещаниями, шантажом. Любимчикам приписывал норму. Иногда пускал в ход кулаки (главарю это прощалось).
Большую роль играли домашние посылки, которые получали заключенные 58-ой статьи от родных. Они в большинстве шли Ушлому и его компании. Выманивали их где угрозой, где лестью, где норму припишет. Чтобы не остаться без пайки, отдашь и посылку. Но если Ушлый кого возненавидит, не откупишься и посылкой. Был он заядлый антисемит. Один вид человека еврейской национальности приводил его в бешенство. Поэтому люди боялись не самой работы (возить тачку с углем по трапу тоже нелегко), сколько произвола Ушлого. У начальства же он был в почете, потому что погрузка шла успешно.
Луч в темнице
Женщин на Усе было мало, так как работа была только одна – погрузка. Оставили нас несколько человек для работы на кухне, в швейной, медпункте и уборщицами. В зоне не было маленького помещения, и нас разместили в землянке по соседству с поселком для вольных – бывших заключенных. Завелись романы, и через год увезли нас, несколько матерей, опять в совхоз Кочмес, где находился детдом прямо в зоне.
Словно луч солнца осветил женщину, так озарили нашу безотрадную жизнь наши малыши. Светик ждала меня, когда я рано утром до работы бежала покормить ее грудью. Спешила к ней и после работы. Питание матерям было слегка улучшено. Учитывая военное время, оно было вполне терпимо. Но так как мы еще до войны были истощены за годы заключения, то став матерями, были всегда голодны, словно волчицы. И все же, глядя на малышей, нам стало радостней жить. Чтобы было побольше молока в груди, старались как можно больше пить воду. Одна из нас, Анита Русакова, достаралась до того, что у нее заболело сердце от перегрузки организма жидкостью. Полтора года было моей Светыньке, когда в яслях случилось несчастье. Доярками на ферме были, конечно, «бытовички». Молочная посуда – деревянные бочонки. Чтобы быстрей отмыть молочную кислоту, доярки сыпали в бочонки каустиковую соду, а промывали плохо. Получилось отравленное молоко. Все дети переболели кровавым поносом, а тринадцать из них, в том числе моя Светик, сошли в могилу.
Триннадцать гробов унесли на кладбище обезумевшие от горя матери. «Пищевая интоксикация» – заключил врач лагпункта Адарич, в обязанности которого входило проверять качество продуктов во всем лагпункте. Но за жизнь заключенного, а следовательно и его ребенка, никто не отвечал. Все же предусмотрительный Адарич постарался перевестись в другой лагпункт.
Победа!
«Победа! Победа! Взятие Берлина! Германия капитулировала! Победа!», – кричали на кухне, на конюшне, на скотном дворе, в поле. Даже в изоляторе, в этой тюрьме в тюрьме, оголтело орали: «Победа!».
Высокая, полная, суетливая заведующая кухней-столовой вбежала в продуктовую каморку и, ставя на место большой таз, в который распечатывала полученную треску в каптерке, забрала мешки. С сияющим лицом она сообщила нам: «Победа. Наши взяли Берлин. На обед будет каша с салом, компот и щи». Мы уже знали радостную весть, и вновь нас охватила бурная радость.
Начались тревожные дни терпеливого ожидания освобождения. И неделя проходит, и другая, и месяц, и другой, а о нас ни слуху ни духу. Местное начальство называло нас «пересидчиками». А пересидели мы сверх срока, на который были осуждены заочно, кто четыре, кто пять лет. Никто не счел нужным дать нам какое-либо объяснение о причине задержки в заключении. И новых обвинений не предъявляли. Сами мы решили, что в войну не до нас, и самоотверженно трудились, ожидая освобождения. И после окончания войны несколько месяцев прошло, пока нас освободили с условием – жить в районных городах или деревнях. Центральные, краевые, областные города нам были запрещены.
Я попросилась в районный поселок Варнавино, Горьковская область, где в детдоме находилась моя дочь. В этот детдом приняли меня на работу уборщицей. Сняла угол у колхозников. Приехала в арестантском рубище. Даже смены белья не дали мне при освобождении. Нашлись добрые люди, дали мне кто рубашку, кто штаны на смену.
Третий и последний этап
Еще в дни моей молодости, в 1925 году, в издательстве «Прибой» в Ленинграде вышла книжка под названием «Дни». Автор её – бывший царский министр, член Государственной думы, отъявленный монархист Шульгин. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с революцией и этими «заслугами» хвастался в своей книге перед иностранными капиталистами. Шульгин называл народ: «чернь», «месиво», «быдло», «толпа». Солдат он называл «истуканчиками». «И как я ненавидел их!», – откровенничал Шульгин, рассказывая о революционных выступлениях рабочих в 1905 году. Рассказывал Шульгин в своей книге о заговоре русских империалистов с западными капиталистами во время февральской революции 1917 года. Центром заговора было Временное правительство во главе с Керенским. А на словах, перед рабочими они были за народ. И Шульгин много раз выступал перед народом, ратовал за равенство и братство. Ленин первый понял этот предательский маневр и бросил лозунг: «Никакой поддержки Временному правительству!».
Разграбив страну, эта чёрная свора скрылась за границу. Три десятилетия поливала ядом клеветы свою родину, была оплотом всех чёрных сил против Страны Советов. А в 1948 году, пролив крокодиловы слёзы, некоторые попросились домой. Сталин милостиво разрешил им вернуться. Вот как описывает своё возвращение на родину сын бывшего царского министра Любимов в своей книге «На чужбине», вышедшей в 60-е годы: «На границе мне выдали пальто, костюм, бельё, обувь, чемодан и деньги».
Мы же, без вины виноватые, возвращались измождёнными, в арестантском рубище, без смены белья, с позорной справкой в кармане, при виде которой от нас отворачивались. С трудом отыскивали угол и работу.
И так, в то же самое время, когда многие белогвардейцы возвращались на родину, ими же залитую кровью народной, все репрессированные за все годы сталинского произвола (очень многие из них участники Гражданской войны), оставшиеся в живых и «освобождённые» со всякими ограничениями, вновь были арестованы и отправлены в Сибирь навечно. Какой размах приняли аресты 1949 года! Приведу хотя бы один пример: меня вновь арестовали, не предъявив никаких конкретных обвинений (нечего было предъявить). Из Горьковской тюрьмы мы следовали этапом в Красноярский край. Это был третий и последний невольничий этап в моей жизни. Из Кировской пересыльной тюрьмы нас выстроили на шоссе в колонну по десять человек в ряд. На руки раздали номерки, которые мы должны были предъявить при посадке в вагоны, товарные конечно, с двойными нарами. У меня на номерке стояло четырёхзначное число, а оглянувшись назад (шоссе шло полукругом), я увидела, что мы находимся в середине колонны. Следовательно, в поезд понатолкали около трёх тысяч. В это же время со стороны провожающих родственников, которые шли по тротуару, кто-то сказал: «Каждый день ведут и ведут, и откуда столько врагов берётся?..».
Вот мы и на новом месте жительства – Красногорский совхоз Большемуртинского района Красноярского края. Сказочные места. Хвойные леса перемежаются лиственными. Местность холмистая. Всюду быстрые, громко бегущие прозрачные ручейки. Но та же мука, что и на Севере – комары. И уж конечно глушь. По отделениям ни кино, ни библиотеки. И только в центральной усадьбе совхоза кино, библиотека, больница. Правда, здесь нам разрешалось выписать газету, даже быть членом профсоюза, даже иметь право голоса на выборах в Советы и в то же время ежемесячно ходить на отметку к уполномоченному НКВД. Словом – свобода по-сталински.
На другой же день начальник четвёртого отделения совхоза, куда я попала, пришёл к нам в общежитие и приказал завтра же выходить на работу в поле.
– Нам, кажется, положено три дня отдохнуть с дороги? – спросили мы.
– Зимой наотдыхаемся, делать будет нечего, – ответил он.
– А накомарники дадите?
– Ни одного не осталось.
Пришлось идти без накомарника. Лицо облепила стонущая, жалящая маска – миллионы, миллиарды комаров. Я боялась тронуть лицо, иначе – раздеру его в кровь. Лицо начало пухнуть, и когда вместо глаз остались щёлочки, достаточные для того, чтобы видеть дорогу к бараку, я ушла. Пришла прямо в кабинет начальника. Увидев меня, он ахнул, вытащил висевший у него за поясом накомарник и подал мне.
– Насовсем? – спросила я, сильно радуясь.
– Насовсем, заслужила, – смеясь, ответил начальник.
Кончились летние работы, и многим нечего было делать. Кто имел поддержку родных, были рады отдохнуть. Я и многие другие попросились перевести нас на баржестроительную верфь, находящуюся на противоположном берегу Енисея. Переводили охотно. Рабочие нужны верфи, но бараков не хватало. Некоторые снимали угол у вольнонаёмных рабочих. Я не нашла угла и согласилась идти в домашние работницы к главному врачу. Батрачество мне ещё в юности в печёнки въелось. Настроение тяжёлое. Это понял врач и как-то спросил, не пойду ли я уборные чистить по посёлку и на территории верфи? Отдельную комнату дают, и зарплата приличная. Я с радостью согласилась.
Коммунальный отдел предоставил мне отдельную, в два оконца, комнатку в домике барачного типа. Нарадоваться не могу. Мечтаю, что приедут сюда мои сыночки, мои мальчики. Доченька написала мне, что не может отвечать на письма… Я, конечно, поняла, что за связь с матерью – «врагом народа» её исключат из института. Смирилась с этим горем. А сыновья – старший учится в техническом училище, младший в школе. В каждом их письме чувствовала, как я нужна им. Начала хлопотать, чтобы привезли их ко мне. Послала справку, что я работаю, имею хорошую комнату, что в посёлке есть средняя школа. Издевательский ответ получила из Горьковского ОБЛОНО: «У вас нет соответствующих условий для воспитания детей», – писали мне. Этим ответом фактически лишили меня материнства. В то же время наши ссыльные, семья Махлиных, на приёме у начальника райотдела НКВД Злобина спросили: «Когда же нас отпустят на волю?». Он был поражён наивностью вопроса: «И вы ещё мечтаете жить на воле? – удивлялся он, – странные люди». Его ответ многих довёл до отчаяния. Почти у всех шёл к концу второй десяток лет изгнания. Не видя перспективы в жизни, я решила не жить. Друзья уберегли меня от рокового шага в минуту отчаяния. Покончил с собой Нуруждин Хамидуллович Хамидуллин, оставив записку: «Жить невозможно, существовать надоело».
И всё же в ссылке легче дышалось, чем в заключении. Вечерами мы собирались друг у друга. Оперная певица Минского театра Татьяна Антоновна Калиновская иногда пела для нас. На производстве все ссыльные пользовались уважением за добросовестную работу. Всё бы терпимо, но удручала «опека» некоторых вольных. Случайно узнали мы, что к каждому из нас прикреплён «опекун», который регистрирует каждый наш шаг. За мной следил кассир бани Фёдор Павлович. Из его случайных фраз я поняла, что он знает обо мне всё, что было известно следствию, а так как следствие накатало на меня, что считало нужным, то можно себе представить, какое мнение обо мне было у моего «шефа».
Ко мне приехал старший сын после окончания технического училища, и на другой день Фёдор Павлович спросил меня:
– К вам, кажется, сын приехал?
– Да, Фёдор Павлович. Он у меня комсомолец. Характеристика из школы у него отличная.
– Надо будет поинтересоваться, – нагло, властно ответил «шеф».
Поинтересоваться сыном он не успел. Умер Сталин. Всем нам, без вины виноватым, затравленным в течение долгих лет, показалось, что это самая долгожданная, самая желанная смерть из всех смертей на земле.
Ликуя в душе, и в то же время боясь навлечь на себя беду, я, лицемерно пригорюнясь, поспешила в контору спросить, не будет ли каких распоряжений. Моему «шефу» понравилось, что в такой трагический час я сама пришла в контору.
Нас заставили делать венки из разноцветной бумаги. В клубе был устроен постамент с портретом Сталина. К нему и складывали венки от каждой организации. Все собрались, а коллектив больницы ещё не приходил. Главврач, Александра Илларионовна, грузинка по национальности, сочувствовала ссыльным и чем могла – помогала. Начальство не раз упрекнуло её в излишней заботе о ссыльных. А тут ещё и венки не несут. «Дождёмся, что её возьмут на заметку», – забеспокоилась ссыльная медсестра о судьбе врача и пошла убеждать её не лезть на рожон.
Уже шёл траурный митинг, когда коллектив больницы принёс свой венок. К счастью в суматохе никто этого не заметил.
Сразу же после смерти Сталина пошли упорные слухи об освобождении из ссылки и мест заключения 58-й статьи. И снова надежды окрылили нас. Хмурый и молчаливый приходил на работу Фёдор Павлович. В момент ареста Берия с «шефом» произошёл большой курьёз. Перед началом работы в конторе было полно народу. Техник-строитель Александр Николаевич подошёл к нему и как бы по секрету сообщил об аресте верного друга Сталина. У Фёдора Павловича глаза на лоб полезли. Несколько секунд он ошеломлённо молчал, а потом гаркнул: «Кто пустил эту провокацию?! Не позволю!!! Арестую!!!». И обессиленный опустился на стул, когда ему подали газету с сообщением об аресте Берия.
Конец злого рока
Так вот когда кончался этот злой рок. Лучшие годы прошли в тюрьмах, этапах, на жёстких нарах лагерных пунктов, в арестантской одежде или убогом рубище плохо оплачиваемых ссыльных, в беспрерывной заботе о куске хлеба, в надрывной тоске о детях, о семье. Страшной силы досада охватывает на себя, на многих советских людей: мы могли, мы обязаны были не допустить этого! Как после этого не скажешь: «Не сотвори себе кумира!».
Радостные, счастливые шли мы по вызову комиссии по освобождению. Нас спрашивали, куда мы хотим ехать, в какой город или район. Балдеем от неожиданности. Мы разучились говорить о желаниях. Мечты прятали в сердце, боясь произнести вслух. И вдруг… Нас поздравляют. Желают счастья. Уму непостижимо!
С огромной энергией взялись мы, ленинский актив, снова за партийную и общественную работу. Из моих друзей, например, лет двенадцать работала библиотекарем на общественных началах недавно умершая москвичка Янина Мячеславна Козловская. Пятнадцать лет работает на профсоюзной работе в Минске Татьяна Антоновна Калиновская. Я на партийной работе. Никогда мы не теряли веры в советский строй, понимали, что случившийся произвол – дело рук кучки самодуров и изменников.
И теперь, когда восторжествовала справедливость, а жизнь народа поднимается, одна тревожная забота охватывает ум и сердце – «Не сотворить себе кумира».
1965-1971 годы